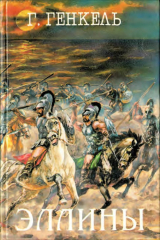
Текст книги "Эллины (Под небом Эллады. Поход Александра)"
Автор книги: Квинт Эппий Арриан
Соавторы: Герман Генкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 44 страниц)
– Худшего произойти не могло! – со стоном проговорил он наконец.
– Наш заговор раскрыт? Всё пропало?
– Нет, хвала богам, до этого ещё не дошло; иначе бы вы, друзья, не видели меня теперь здесь. Но Арсиноя...
– Что с ней, Гармодий? Не томи меня, – и руки Леены умоляюще простёрлись к гостю.
– Слушайте, друзья, что случилось: я расскажу вам всё по порядку.
– Нет, нет, говори главное; остальное мы сами сообразим. Что с твоей сестрой? – проговорил Аристогитон и подсел к Гармодию.
– Тиран Гиппарх, – да будет проклято это имя! – сегодня прислал писца своего заявить мне, что Арсиноя исключена из числа девушек, участвующих послезавтра в торжественном шествии на Акрополь.
Аристогитон с трудом удержал улыбку.
– И это несчастье? И это тебя, друг, так волнует?
– Да ведь это же публичное оскорбление, нанесённое сестре, а ты... – Гармодий вскочил с места и глаза его заметали искры.
– Бедная Арсиноя, бедная моя голубка! – произнесла Леена.
– Вы оба с ума сошли! – возвысил голос Аристогитон. – Никакого оскорбления в дикой выходке этого изверга нет. Он не может оскорбить кого бы то ни было. Это известно всякому афинянину, ещё не потерявшему рассудок. Лучшей услуги, чем это мнимое бесчестье для Арсинои, мерзкий сын Писистрата оказать нам не мог. До праздника осталось несколько часов, их мы употребим на окончательное возмездие, на расправу с этим негодяем. А ты, Гармодий, не дремли: завтра поутру ты как можно шире разгласишь это позорное дело и, кто знает, быть может, великий день Великих Панафиней будет последним днём в жизни тех, кто нам, афинянам, в достаточной мере сумел отравить существование.
Решительный тон, которым говорил Аристогитон, ошеломил Гармодия.
Через несколько минут из маленького домика на Керамике тихо вышло двое мужчин и невысокого роста женщина. Все трое направились к северо-востоку, в одну из тех уединённых загородных усадеб, где за последнее время так часто по ночам сходились Аристогитон, Гармодий и их единомышленники.
Прошло два дня. Наступило 28-ое Гекатомбеона, день рождения божественной покровительницы города и Аттики, Афины-Паллады. Уже с самого раннего утра, несмотря на удушливый зной, которого почти не умерила прохлада предшествующей ночи, огромные толпы народа стеклись на Керамик загородный, к Священной дороге, чтобы участвовать в торжественной процессии к древнему Эрехфейону, как это всегда бывало в праздник Великих Панафиней. Почти на рубеже ночи и дня, когда первые лучи восходящего дневного светила позлатили восток, Гиппарх с неизменными своими спутниками Анакреоном, Симонидом, Феогнидом и Ономакритом, окружённые отрядом дворцовой стражи, выбрались за город, чтобы там установить порядок в процессии, которая должна была доставить на специально для того изготовленном судне на колёсах шафрановое платье для древней статуи богини. Платье или плащ этот представлял дар афинских женщин-ергастин, которые целых девять месяцев до празднества усердно занимались его изготовлением и украшением множеством цветных узоров. Драгоценная ткань изжелта-красноватого цвета, отчего на солнце она отливала чистым золотом, была уже прикреплена в виде паруса к высокой мачте колёсного судна, которое везли двое белоснежных коней. Впереди этой оригинальной повозки выстроились жрецы с их прислужниками, были помещены жертвенные быки и коровы с вызолоченными рогами, стояли жёны и дочери метэков и вольноотпущенников с жертвенными сосудами или со складными стульями и опахалами для жён и дочерей именитых афинских граждан. Отряд флейтистов и кифаристов замыкал эту часть шествия, которую Гиппарх хотел было уже покинуть, чтобы организовать дальнейшую процессию. Теперь приходилось разместить в порядке старшинства канефор, то есть одетых в белоснежные ткани благородных девиц с корзинами на головах. В этих корзинах лежали всевозможные жертвенные сосуды, плоды, флаконы с оливковым маслом, венки и другие подношения богине-покровительнице города.
Когда тиран приблизился к толпе ожидавших его с видимым нетерпением девушек, взгляд его пытливо упёрся в них, как бы ища кого-то. Но та, которую он рассчитывал, несмотря на своё запрещение, увидеть тут, по-видимому, отсутствовала. Зато в глазах Гиппарха сверкнуло злое пламя, когда за спиной двух почтенных старцев с оливковыми ветвями в руках он заметил злобный взор дерзко уставившегося на него Гармодия. Юноша был в широком плаще, и на голове его лежал венок из миртовых ветвей. Он ничем не выделялся из толпы, окружавшей Гиппарха и распорядителей празднества, и никто не обратил бы на него внимания, если бы не чрезмерная бледность его прекрасного лица и не горевший плохо скрываемой ненавистью взор юноши.
Сын Писистрата только что хотел обратить на него внимание Анакреона, но Гармодий в то же мгновение поспешил скрыться. На Гиппарха эта встреча произвела неприятное впечатление. Сердце его защемило, как бы в смутном предчувствии грядущей беды. Но в ту же минуту внимание его было отвлечено спором, разгоревшимся из-за старшинства между двумя очаровательными афинянками. Гиппарх немедленно уладил дело к обоюдному удовольствию и через некоторое время покончил с этой частью процессии. Впереди у него было ещё немало дел: предстояло разместить по старшинству наиболее почётных городских старцев, которые теперь с оливковыми ветвями в руках и с такими же венками на убелённых сединой головах терпеливо ждали своей очереди; затем нужно было расставить демархов с депутациями от граждан; потом надлежало заняться размещением специально прибывших на Панафинеи посольств от разных городов и областей Эллады; немало труда должны были потребовать и победители в различных музыкальных, гимнастических и прочих состязаниях, уже успевших в два предшествующих дня заслужить разные призы; наконец нужно было озаботиться наиболее красивым размещением молодого воинства, в полном вооружении верхом и пешком явившегося сюда для участия в шествии на Акрополь. Одним словом, дел было по горло, и Гиппарх и его помощники и спутники совершенно не замечали, как летело время. Голова шествия уже двинулась в путь между стоявшей плотной стеной по обеим сторонам толпы любопытных, выражавших свою радость восторженными кликами.
Тиран заметил, что ему следует поспешить вперёд, чтобы занять подобавшее место около судна с шафрановым пеплосом богини, когда звуки флейт и кифар смолкли и в путь выступил отряд конных юношей.
С очаровательной улыбкой Гиппарх попросил одного эфеба одолжить ему своего коня и с юношеской отвагой помчался обходным путём в город, к площади, где высилось древнее капище Леокорий. Тут он намеревался встретить процессию, присоединиться к ней и уже вместе с Гегесистратом-Фессалом торжественно вступить на Акрополь, где Гиппий у входа в храм Эрехфея должен был встретить шествие. Несколько телохранителей бросилось вслед за тираном и прибыло почти одновременно с ним к Леокорию. Но Гиппарх уже опоздал: канефоры миновали площадь, и теперь по ней медленно-чинно выступали именитые граждане с миртовыми и масличными ветвями и в драгоценных одеждах, затканных пурпуром, золотом и серебром. Тиран соскочил с коня, бросил поводья одному из подоспевших телохранителей и стал протискиваться сквозь толпу к святилищу, чтобы оттуда лучше обозревать процессию. Он рассчитывал присоединиться к воинскому отряду.
Народ гудел и волновался. Появление посольств от разных городов и областей, почтивших своим присутствием Великие Панафинеи, вызвало бурю восторга. Громкими, радостными кликами приветствовала толпа и победителей на состязаниях. Им подавали венки и букеты цветов. Лишь с большим трудом удалось Гиппарху пробраться к нужному ему храму. Не успел он, однако, ступить на невысокую лестницу, ведшую в святилище, как произошло что-то необычайное. В толпе раздались крики дикого ужаса. Люди живой стеной подались вперёд, теснимые горсткой молодых людей в широких плащах, насильно пролагавших себе путь к Леокорию.
Гиппарх невольно обратил внимание на нарушителей порядка и только собрался принять меры к их обузданию, как перед ним мелькнуло разъярённое лицо Гармодия. С громким криком:
– Смерть подлому деспоту и насильнику! Смерть негодяю, посягнувшему на честь гефирийцев! Смерть, смерть тебе, собака! – юноша набросился на Гиппарха. В воздухе сверкнуло лезвие кинжала. В ту же минуту тиран, пронзённый в самое сердце, с тихим стоном упал на землю. Ещё миг – и телохранители Гиппарха зарубили Гармодия.
Воздух огласился криками ужаса и воплями женщин и детей. Процессия расстроилась. Афиняне оцепенели от неожиданности...
Вечером того же дня темница на афинском Акрополе приняла в свои мрачные недра Аристогитона, Крития, Каллиника, Ксантиппа, Аристокла и прекрасную Леену. Гиппий, сын Писистрата, решил жестоко отомстить заговорщикам за смерть любимого брата.

VI. АРИСТОГИТОН
Месяц Гекатомбеон 514 г. сменился Метагейтнионом (августом), и до сих пор население Аттики и особенно Афин не могло оправиться от неожиданного убийства тирана Гиппарха и последовавших непосредственно за этим событием обысков, арестов и притеснений. Гиппий, никогда не отличавшийся чрезмерной доступностью для народа, после смерти брата окончательно замкнулся в своём доме на Акрополе, и увидеть его на улицах и площадях города можно было теперь лишь очень редко. Огромная толпа телохранителей, число которых сравнительно с прежним было утроено, сопровождала его повсюду и зорко следила за тем, чтобы никто из обывателей не смел приблизиться к их повелителю более, чем на расстояние десяти копий. Стража на Акрополе и особенно при входе во дворец и внутри его была значительно усилена; по ночам отряды вооружённых воинов обходили улицы, площади и даже предместья города. За всеми дорогами и городскими воротами был установлен самый тщательный надзор, и все лица, вызывавшие мало-мальское подозрение, немедленно схватывались и подвергались допросу.
Былое оживление, всегда царившее в Афинах, сменилось всеобщей подавленностью, и обычное веселье народа уступило место плохо скрываемому унынию. Даже храмы, всегда привлекавшие множество всевозможного люда, заметно опустели, так как никто, выходя из дома, не мог быть уверен в благополучном возвращении. Над жизнерадостным городом Паллады повисла свинцовая туча того гнёта, который вызывается недоверием и подозрительностью.
В народе ходили самые разноречивые слухи. Одни утверждали, что тиран, озлобленный насильственной смертью любимого брата, замышляет общую кровавую резню; другие говорили, что слышали об его намерении совершенно отказаться от власти; третьи ожидали, что Гиппий не сегодня-завтра провозгласит себя царём. Находились и такие, которые выдавали за факт, что сын Писистрата отправил послов в Аргос, на Лемнос и к берегам Геллеспонта, в Сигей, чтобы вытребовать оттуда военные силы союзников и предать город Паллады разрушению и разграблению. Одним словом, разноречивым толкам не было конца, и все с часу на час со страхом ждали необыкновенных событий. Между тем Гиппий не делал ничего такого, что могло бы рассеять тревожные сомнения населения Аттики. Тотчас же после смерти брата и первых арестов он замкнулся в своём доме и почти нигде не показывался. Даже собственная семья, жена его Миррина и старшие дети, Архедика и Писистрат, лишь изредка видели его: казалось, Гиппий весь отдался государственным делам и прежде всего расследованию дела о насильственной смерти Гиппарха. Фактически это, однако, было не так.
Тиран после убийства любимого брата весь ушёл в себя. От природы отличаясь большой замкнутостью, он теперь решительно ни с кем не хотел общаться. Неожиданность рокового события, как громом, поразила его. Он усмотрел в этом случае грозное предзнаменование и, помимо скорби о брате, которого горячо любил, боялся за собственную безопасность. Врождённая подозрительность, которую только могли развить и усилить события всей предшествовавшей тревожной его жизни, достигла теперь крайних пределов. Всюду и везде чудилась ему измена; постоянно ему казалось, что за ним следят; никому из окружающих, даже самым старым, испытанным телохранителям своим, он больше не верил. И всё-таки, даже при таких исключительных условиях, при дворе существовало лицо, которое имело свободный доступ к властелину во всякое время дня и ночи. Этим человеком был мыслитель Ксенофан, сын колофонца Дексия.
С этим почтенным старцем, которого Гиппий успел полюбить всем сердцем, которого он мог слушать целыми часами и с которым, в сущности, столь редко соглашался и так часто горячо спорил, он проводил теперь большую часть своего времени. И сейчас мы застаём обоих в обширной рабочей комнате тирана, сидящими за длинным столом, заваленным рукописями и чертежами. Траурное, но пышное одеяние афинского властителя резко отличалось от скромного, почти убогого хитона его собеседника. Вообще во внешности обоих замечалась огромная разница: в то время, как Гиппий был явно подавлен горем и казался постаревшим за последние дни на много лет, Ксенофан сохранил свою всегдашнюю обычную живость, производившую странное впечатление рядом с унылым видом тирана. Сначала, в первые часы после внезапного обнаружения заговора против Писистратидов, заговора, очевидно направленного против всей системы их правления, Гиппий никак не мог понять жизнерадостности своего друга, который его этим даже несколько оскорблял. Но затем, во время продолжительных задушевных бесед с этим странным человеком, столько видевшим, знавшим и претерпевшим и всё-таки оставшимся несокрушенным жизнью, сын Писистрата понемногу так привык к нему, так его полюбил, что вскоре совершенно не мог обходиться без его общества. Плавная, красивая речь Ксенофана успокаивала, утешала его, а те честные взгляды, которые без обиняков высказывал старик, не знавший ни угодливой лести, ни хитрой корысти, прямо-таки очаровывали Гиппия.
– Итак, ты, мудрый сын Дексия, думаешь, что мне не стоит дольше вести следствие, а просто наказать Аристогитона и его сообщников смертью? – спросил, после продолжительного раздумья, Гиппий своего собеседника.
– Прости, сын Писистрата, если я тебе на этот вопрос отвечу вопросом же: к чему тебе казнь этих людей?
– Как к чему? – в глазах Гиппия сверкнуло пламя.
– Да, к чему эти казни? Разве ты ими воскресишь убитого? К чему эти страшные пытки, которые ты называешь следствием? Не проще ли было бы изгнать виновных из пределов Аттики и тем положить конец всему делу?
– Ты, разумнейший и мудрейший из эллинов, прости, рассуждаешь теперь, как дитя. Изгнание врагов равносильно их поддержке: на чужбине они сделают всё, чтобы отмстить нам, и тогда зло окажется не вырванным с корнем, а, напротив, усилившимся и окрепшим.
– Сейчас ты рассуждаешь неправильно, Гиппий. Ты, конечно, укажешь мне на себя и на славной памяти великого отца твоего: Писистрат и ты не раз в жизни ощущали все горести изгнания и выходили из этих испытаний обновлёнными и лишь более уверенными в конечном успехе своих планов. Но ты забываешь о том, что руки ваши при этом не были обагрены кровью, что вас не преследовали неотступные, безжалостные Эвмениды. Подумай только, на что годны теперь эти жалкие заговорщики: Аристогитон, израненный и избитый, истекает кровью и нравственно искалечен смертью своего любимейшего друга, Гармодия, и заключением невесты своей, златокудрой Леены; шутник и балагур, как его называют собственные единомышленники, Аристокл, потерял под пыткой дар речи; остряк Каллиник – груда разбитых костей и окровавленных кусков живого мяса; величаво-спокойный вначале Ксантипп плачет теперь, как дитя; наконец юркий маленький Критий – что он иное, как не живой мертвец? И это твои враги! Таких людей ты боишься! Я тебе только удивляюсь. Неужели тебе ещё не довольно крови?
– Мне крови не надо, – сурово откликнулся Гиппий. – Мне нужно спокойствие за себя и за участь города и страны. Пока же будут живы эти негодяи и их клевреты, я ни на одно мгновение не смогу быть свободен от гнетущей заботы. Вот почему мне нужно вытянуть из них всё, что возможно. А затем я уже расправлюсь с ними. Вообще я решительно отказываюсь понимать, почему ты сегодня так сильно противоречишь мне, Ксенофан.
– Сегодня я противоречу тебе не больше, чем обыкновенно, добрейший Гиппий. А просто ты чем-то раздражён, но это не может поколебать моей уверенности в том, что я считаю справедливым, и я буду это отстаивать до конца. Пытки, которым подвергаются арестованные враги твои, по жестокости и бесцельности возмутительны, а казнь их была бы несправедливостью.
– Несправедливостью?! И это ты, старик, осмеливаешься говорить мне так прямо в лицо?!
– Я горжусь тем, сын Писистрата, что говорю правду всем и всегда. Было бы странно делать мне исключение для тебя... Да, да, гляди на меня такими свирепыми глазами; мне не страшно, нисколько я тебя не боюсь.
– Чего и кого же, наконец, ты, безумец, боишься? Богов ты отрицаешь, властей не признаёшь, провозглашаешь какие-то новые учения, мало кому понятные...
– Богов я не отрицаю, власти признаю, провозглашаю вещи совершенно естественные и боюсь только самого себя, иначе говоря, своей совести, – спокойно, с ясной улыбкой ответил Ксенофан. Пристально взглянув на Гиппия, он через мгновение прибавил:
– Видишь ли, Гиппий, если бы я принадлежал к числу придворных льстецов, – я не хочу называть имена, – то, конечно, не спорил бы сейчас с тобой, но тихо поддакивал бы тебе. Но что бы было тогда с моей и твоей совестью? Сознайся, спокойствие твоё нарушилось не оттого, что умер Гиппарх – смерть стережёт каждого из нас ежечасно, – а потому, что эта смерть заставила заговорить твою совесть. Ты понял, что, если у тебя есть враги, ты сам, ты и весь склад твоего правления, всё течение жизни при этом прекрасном и всё-таки слабом дворе в этом виноваты. Ты изумлён, ты возмущаешься, а вместе с тем это так.
– Объясни, старик!
– С удовольствием. Разве вас, тиранов, любит народ? Разве вы что-нибудь сделали, что снискало бы вам искреннее расположение народа? Положа руку на сердце, ответь мне.
Гиппий упорно молчал. В мрачных взорах, которые он то и дело бросал на собеседника, чувствовалась трудно скрываемая злоба.
– Вот видишь, ты ничего не отвечаешь. А я тебе скажу, что нелюбовь к тебе народа совершенно естественна. Чернь не терпит тиранов потому, что тираны не только не любят, а просто ненавидят её. Всё, что делается ими будто бы на благо страны, творится ими, в сущности, для себя лично. Я мог бы привести тебе тысячи примеров; но ты – умный человек и не нуждаешься в них. Все ваши мероприятия направлены на усиление своей личной власти. Неужели, Гиппий, ты думаешь, что народ афинский, прошедший школу твоего отца, умственно настолько не созрел, чтобы с ним можно было обращаться, как с ребёнком? Его теперь ничем не отвлечёшь от вмешательства в государственные дела и вопросы политики. Не займёшь ты его внимания красивыми играми и прекрасно-величественными постройками. Его не подкупишь такими подачками, как кажущееся уменьшение налогов. Вспомни, что сделали ты и братья твои с деньгами, которые вы насильственно отняли у населения для перечеканки. Ведь вы обманули на этом народ аттический.
– Старик, ты забываешь, с кем говоришь!
– Властитель, я думал, что говорю с человеком. Запугиванием ты меня не устрашишь, потому что... я полюбил тебя, и мне искренне жаль тебя. Я жалею, что у тебя до сих пор не было друзей, говоривших бы тебе всю правду в глаза. Лучший, старший ваш друг, Ономакрит, человек, учёность и годы которого давали бы ему право быть вполне откровенным с вами, оказался жалким льстецом и недавно с позором был удалён Гиппархом из Афин за попытку литературного подлога. Анакреон не лучше, если только не хуже его. Феогнид громит, где только может, толпу и утратил при этом чувство всякой меры. Симонид ушёл в своё искусство, Лас – в музыку. Кому из нас, служителей муз, и быть твоим советником, как не мне! К тому же я всем вам в отцы гожусь. Нет, Гиппий, меня ты не смутишь своими угрозами: мне, старому скитальцу, всё равно, где и когда сложить свою голову. Вдобавок, она за полувековое странствование по всем закоулкам эллинского и варварского мира, признаюсь, порядком-таки устала. Во мне есть величайшее благо человека – внутренний мир, душевная гармония, то, чего именно в тебе-то и нет и чего, Гиппий, в тебе никогда не будет, пока ты не вникнешь в суть вещей и не откажешься от таких безрассудных поступков, как предстоящая казнь Аристогитона и его товарищей. Если ты не послушаешься меня и всё-таки поступишь по-своему, ты отравишь себе весь остаток дней своих.
– Тебя послушать, можно подумать, что весь свет состоит из сплошной добродетели.
– Нет, не из добродетели. Стремление к полной гармонии, действительно, всюду проявляется во вселенной, в природе, которую, как ты ведь знаешь, я отождествляю с божеством. Если человек насильно подавляет в себе это стремление к гармонии, в нём кипит разлад и он – несчастен. Он скоро может утратить чувство меры и тогда становится сперва несправедливым и наконец... преступным.
– Довольно, сын Дексия! Твои речи раздражают меня своей дерзкой смелостью. Я также не дитя, чтобы меня, на исходе пятого десятка, учить уму-разуму. Пусть каждый из нас ведает свою область: оставайся ты при своих рапсодиях и разрабатывай своё странное учение о божественности природы и о природе божества: я же останусь при своих государственных делах и обязанностях правителя. У тебя свои заботы, у меня свои.
– Правильно, Гиппий. Но вся разница между нами в том, что твои дела гнетут и убивают тебя, мои же радуют и ободряют меня.
– Да неужели ты действительно счастлив? Ты, нищий, странствующий певец, не имеющий ничего, кроме жалкого раба Хрисокома, бедной рухляди и старой лиры, ты можешь считать себя счастливым?
– Гляди на меня и попробуй утверждать противное: разве я мог бы оставаться в семьдесят пять лет столь свежим и бодрым, если бы я не был действительно счастлив? А между тем, как тебе известно, жизнь не мало трепала меня. В двадцать пять лет, когда мой славный родной город стал добычей жадных персов, я покинул его и с храбрыми фокейцами уехал за море искать новой родины. Там, у подножия покрытых вечными снегами Калабрийских гор, на берегах глубоко врезавшегося в материк Италии тихого залива, я после долгих странствий наконец обрёл её. Сицилия с её цветущими городами Занклой и Катаной долго давала мне приют. Побывал я и в Африке, у чернокожих эфиопов, посетил и диких скифов в дальней Ольвии на берегах Евксинского Понта, жил и в знойной долине величественных Тигра и Евфрата, где видел баснословную роскошь изнеженных жителей Вавилона. И все эти странствия дали мне счастье: я учился и учил, дух мой окреп, тело закалялось, и я нашёл то, чего искал, понимание истинного устройства вселенной, понимание тайн природы и её величайшей тайны, души человеческой.
Гиппий, видя обычную увлечённость Ксенофана, уже забыл, что несколько мгновений тому назад был готов рассердиться, и с улыбкой промолвил:
– Значит – ты обрёл истину. Ты действительно счастлив, но только по-своему. Я не хотел бы променять своего положения на твоё.
– Это я отлично знаю. И я ни за что в мире не поменялся бы с тобой. Ты силён, всемогущ; перед тобой всё трепещет, но тебе... трудно снискать любовь людей. А меня, меня все любят, так как никому от меня ничего не нужно. Бедного рапсода не обидит злой человек, а добрый отнесётся к нему с уважением и любовью.
– Даже, когда он начнёт подрывать в своих слушателях веру в богов и красоту? – насмешливо спросил Гиппий.
– Ты прекрасно знаешь, что я этой веры не подрываю. Я лишь борюсь против предрассудков, умаляющих величие и красоту, искажающих смысл и сущность тех могучих сил единой природы-божества, которые грубая невежественная чернь именует богами. Поверь мне, Гиппий: если бы на земле жили и царили не люди, а кони, то и боги представлялись бы им в виде коней; если бы волы, кони и львы обладали способностью рисовать и лепить статуи, они изобразили бы богов в виде волов, коней и львов. Так и люди. По их мнению, боги те же люди, со всеми их слабостями и недостатками. Между тем, взгляни на небо, на природу, на всю вселенную и ты должен будешь признать, что куда бы ни занёсся дух твой, всюду он встретит одну, единую силу, которая и есть настоящее божество. Правда, оно проявляется различно; но оно не перестаёт быть, тем не менее, единым. Ему не подобает быть иным.
Ксенофан умолк, и горевший юношеским огнём взор его мечтательно устремился вдаль.
Суровое лицо Гиппия также прояснилось. Взяв старца за руку, он мягко спросил его:
– И ты, Ксенофан, уверен, что ты ни в чём не ошибаешься, что проповедуемое тобой странное учение – истина?
Черты философа на мгновение омрачились. Затем Ксенофан порывисто поднялся с кресла и, выпрямившись во весь рост, воскликнул:
– Полной уверенности относительно богов и того, что я называю общей, единой природой, доселе ещё никто не достиг, да и не добьётся её никогда. Хотя бы кому-либо и посчастливилось узнать истинную правду, он всё-таки сам бы о том не ведал: всё в мире окутано дымкой сомнения, всё – только кажущееся, призрачное.
Прошло не более трёх часов после беседы Гиппия с Ксенофаном. За это время начальник отряда телохранителей дважды успел побывать у тирана с докладом по поводу следствия, производившегося над Аристогитоном и остальными участниками заговора. В первый раз Гиппий сурово отослал докладчика, не пожелав его выслушать и ссылаясь на занятость другими делами. Когда же начальник стражи вновь предстал перед тираном, он нашёл его более сговорчивым и внимательным. Это было особенно важно потому, что Аристогитон, замученный страшными, продолжительными пытками до полусмерти, всё ещё хранил упорное молчание, решительно отказываясь от дачи каких бы то ни было показаний. Когда несчастному было сказано, что его упорство не приведёт ни к чему и бесполезно, так как Леена под пыткой рассказала всё, юноша рассмеялся и воскликнул:
– Хотя бы вы кожу сняли с неё живой, она ничего не скажет: на то она – афинянка и моя невеста. Всё равно умирать, рано или поздно. Так лучше уж умирать с честью, без крика, без звука и, конечно, без оговора кого бы то ни было.
Это всё, что произнёс Аристогитон. Затем он впал в беспамятство. Теперь, по словам начальника стражи, он опять настолько оправился, что может подвергнуться новому допросу. Присутствие Гиппия при этом тем более необходимо, что состояние юноши внушает серьёзные опасения, и раны его таковы, что он, пожалуй, не доживёт до утра.
Нехотя Гиппий наконец согласился пойти в тюрьму и лично допросить обвиняемого. Ему в сущности было совершенно безразлично, умрёт ли Аристогитон под пыткой или от руки палача. Одно ему было ясно, несмотря на все доводы Ксенофана: Аристогитон и все его единомышленники должны погибнуть. Но беда в том, что заговорщиков обнаружено было так мало. Когда весть об убийстве Гиппарха дошла до Гиппия, который только что, собираясь принять процессию граждан у Эрехфейона, мирно беседовал с Каллиником, не подозревая, что говорит с заговорщиком, он не растерялся, а принял свои меры: граждане спокойно вошли на Акрополь, были затем немедленно окружены толпой телохранителей и обысканы. И, о диво! – оружие нашлось только у пяти лиц, тотчас арестованных и брошенных в тюрьму. В тот же день были произведены массовые обыски; много народа было схвачено, но решительно не удалось обнаружить других виновных, кроме тех пятерых, которые были взяты в первую минуту. Тем не менее и сейчас ещё вся темница была переполнена подозрительными узниками. Палачи с остервенением пытали их, но совершенно безуспешно. Несколько человек уже успело испустить дух в страшных мучениях. Больше, однако, виноватых не оказывалось. Это представлялось совершенно невероятным. На что, собственно, рассчитывали Гармодий и Аристогитон, решаясь с такими ничтожными силами, какими они располагали, на своё безрассудно-смелое дело? Из одного восклицания Леены, невольно вырвавшегося у неё под пыткой, можно было с уверенностью заключить, что кинжалы убийц были предназначены не одному только Гиппарху, а предполагалось перебить всю семью Писистратидов. И вот нити этого дела нужно было окончательно собрать, чтобы раскрыть его во всех подробностях и загасить пожар в самом зародыше, вырвав зло с корнем.
Все эти мысли вновь промелькнули в уме Гиппия, пока он, сопровождаемый тремя телохранителями и начальником дворцовой стражи, направлялся к темнице. Это было низкое длинное здание, почти без дверей и совершенно лишённое окон. Свет падал в его обширные коридоры сверху; помещения же для узников представляли глубокие ямы в земле; спуск в эти мрачные подземелья совершался по особым деревянным лестницам, которые в случае необходимости опускались в ямы. В одном конце тюрьмы была обширная светлая комната, где производился допрос обвиняемых.
В сущности, то был не допрос, а просто-напросто пытки. Ввёл это учреждение Гиппий для своей личной безопасности. С момента перехода власти в его руки, после смерти Писистрата, и была устроена эта темница со всеми её ужасами. В народе о ней ходили смутные слухи, навряд ли преувеличивавшие творившиеся за её невзрачными стенами жестокости и беззакония. Глухо говорили, что если кто попадёт в тюрьму на Акрополе, то ему уже не видать более света и свободы. Не бывало случая, чтобы кто-нибудь из узников выходил живым из этого мрачного помещения, снаружи имевшего вид кладовой, а на самом деле бывшего кладбищем для живых мертвецов. Для обычных уголовных преступлений существовал введённый ещё Солоном суд присяжных – гелиастов, наконец ареопаг. Там обвиняемых судили по всем правилам закона и приговаривали либо к денежным штрафам, либо к временному или пожизненному изгнанию. Дела же, возникавшие по личному распоряжению Гиппия, разбирались или, вернее, заканчивались тут, в этой темнице, специально приспособленной Писистратидами для своих личных врагов...
Когда Гиппий вошёл в тюрьму, Аристогитон на носилках был уже доставлен в помещение для допроса. Там находился целый арсенал всевозможных пыток, начиная от дыбы и кончая жаровнями с раскалёнными углями. Даже тиран ужаснулся, когда увидал глубоко страдальческое выражение пожелтевшего за эти несколько дней гефирийца, который из цветущего юноши-красавца, похожего на бога Аполлона, превратился в дряхлого, разбитого старца.
Только глубоко ввалившиеся глаза Аристогитона горели прежним огнём. При виде вошедшего тирана, они сверкнули такой непримиримой, ужасной ненавистью, что Гиппий остановился, окаменев. Запёкшиеся, побледневшие губы прошептали проклятие, а разбитая, окровавленная и бессильно свешивавшаяся плетью правая рука его пыталась сделать движение, как бы желая судорожно вцепиться в тирана. Несколько мгновений всемогущий властелин и жалкий, истекавший кровью афинский узник молча глядели друг на друга. Наконец с уст Аристогитона слетели слова:








