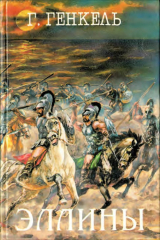
Текст книги "Эллины (Под небом Эллады. Поход Александра)"
Автор книги: Квинт Эппий Арриан
Соавторы: Герман Генкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 44 страниц)
По мере того, как Гиппарх представлял знаменитому мыслителю и поэту своих сотоварищей, глаза старца расширялись всё более и более. Слыша столь известные имена, Ксенофан радостно улыбался. Вдруг лукавая улыбка блеснула в очах и мелькнула на губах его.
– Я ей удивлюсь, – заметил он тихо, – если ты, говорящий, окажешься не более и не менее, как самим богом Аполлоном, сыном Латоны и Зевса. Видно, в Аттике приходится привыкать на старости лет к разным чудесам.
Гиппарх и его товарищи громко рассмеялись.
– Видно, что тебе, славный Ксенофан, не чужда и шутка, – заявил с улыбкой Лас. – Но смею тебя уверить, сын Дексия, что Гиппарх-Писистратид говорил сущую правду, называя тебе имена наши.
– Это Писистратид Гиппарх? И ты не смеёшься надо мной?
– Да, я – Гиппарх, сын Писистрата и брат Гиппия, тирана афинского. Что же тут странного?
– Ничего странного, славный сын славного отца! Да будут всегда благоволить к тебе бессмертные боги! Но я представлял себе тебя совершенно иным.
И не давая Гиппарху что-либо возразить, старик с несвойственной его возрасту живостью продолжал:
– Там, откуда я иду сейчас, в знойных городах Великой Греции, тебя, Гиппарх, все представляют подобным самому Музагету, лучезарному богу Аполлону. Твоё славное имя успело облететь весь эллинский мир, и образ твой рисуется столь величавым, что ты, если не кажешься богом, то по крайней мере подобен одному из великих полубогов-героев. А между тем...
– Между тем я столь же обыкновенный смертный, как и все прочие...
– Боги Олимпа, – добавил Ксенофан и тихо рассмеялся. – Однако, – сказал он после минутной паузы, – если Року заблагорассудилось свести всех нас здесь, как бы случайно, на большой дороге, то скажите, славные мужи, куда вы, собственно, направляетесь: в град ли светлоокой Паллады, или туда, откуда держим теперь путь наш я и мой верный раб Хрисоком? Я спешу из Фалерона в Афины; а вы куда и зачем идёте?
– Сядь пока тут, Ксенофан, и терпеливо выслушай нас: к кому бы ты ни спешил в Афины, мы тебя пока не отпустим от нас, – сказал Гиппарх и жестом руки указал старцу на место рядом с собой. – В Афинах – ты мой гость и, как таковой, по долгу вежливости, не обидишь своего хозяина. Вдвойне благодарю милостивую судьбу, дарующую мне в один день двух славных гостей. Видишь ли, мы все вышли рано из города, чтобы встретить в Фалероне парадную трирему, которая должна вернуться сегодня с Самоса и привезти нам желанного гостя.
– Ты имеешь в виду, вероятно, Анакреона, прославленного певца любви и радостей жизни?
– Да, сладко поющего о всём прекрасном сына теосца Скитина с нетерпением ждём все мы.
– В таком случае я очень рад, что могу заявить вам о скором исполнении ваших ожиданий. Я только что из Фалерона, где раб мой Хрисоком узнал от кого-то в порту, что с часу на час ждут триремы с какой-то знаменитостью. Глупец не догадался запомнить имя теосского певца.
– Итак, ты, Ксенофан, участвуешь с нами в торжественной встрече Анакреона?
Старик немедленно согласился и, дав необходимые наставления своему рабу, направившемуся к Афинам, присоединился к Гиппарху и его друзьям. Через несколько минут прохладное местечко у ключа опустело и только тихий ветерок почти бесшумно играл в дремавших вершинах тенистых деревьев.
Высоко поднявшаяся над горизонтом полная луна окутывала мягким, прозрачным светом прибрежные скалы Аттики, отчего их причудливые формы казались могучими сказочными дворцами, уходившими своими тёмными основаниями в бездонное, тихо плескавшееся внизу и подёрнутое серебристой рябью море. Оставляя позади себя широко расходившийся, переливавший золотом могучий след, вдоль берега медленно плыла величественная трирема с пурпуровыми парусами, которые, при свете множества огней вдоль бортов и на вершинах мачт, казались огненно-кровавыми. На красиво изогнутом золочёном носу корабля пылал в высоком светильнике большой факел, на далёкое пространство впереди и вокруг себя озаряя тихое море и тонувшие во мраке прибрежные ущелья. Благодаря необычно яркому освещению всё, происходившее на палубе триремы, было видно теперь, как днём. Особенно роскошна была убрана кормовая часть её. Там высился на золочёных столбах пурпуровый навес, освещённый множеством ярких фонариков и украшенный гирляндами зелени и пёстрых, ароматных цветов. Под балдахином стояли кресла и ложа, убранные розами. Широкий стол, занимавший большую часть пурпурового открытого шатра, был уставлен множеством блюд, кубков, амфор и чаш. Всё это было пересыпано лилиями и розами.
Вокруг трапезы сидели Гиппарх с товарищами, а на среднем, почётном ложе возлежали Ксенофан и человек лет пятидесяти, как можно было заключить по сильной проседи в его пышных тёмных волосах, перевитых алой лентой, и по множеству морщинок, избороздивших его высокий, красивый лоб. Некогда прекрасные, большие, тёмные глаза Анакреона, сына Скитина, являли теперь признаки несомненной усталости и давно утратили свой чарующий юношеский блеск, а волнистая, коротко остриженная, почти седая борода обрамляла увядшее лицо, на котором резко выступали красивый прямой нос и полные, чувственные губы. На обнажённой мускулистой руке певца любви и вина, немного повыше локтя, красовалось несколько массивных золотых обручей-браслетов. Изящно облегавший плечи белоснежный хитон из тончайшей шерсти был также заткан пурпуровыми узорами, разукрашенными золотыми и серебряными нитями. Таков был теосец Анакреон, глава изысканного общества, ехавшего теперь на парадной триреме к Пирею. Как восточный царь возлежал сын Скитина на своём мягком ложе, и рядом с его величественной фигурой резко выделялся несколько сгорбленный стан одетого в самое простое дорожное платье колофонца Ксенофана, сына Дексия.
Пир на триреме только что кончился, и за последним кубком вина все внимали интересному рассказу Анакреона о пышном дворе недавно погибшего в Магнезии властолюбивого и могущественного тирана самосского, Поликрата, о той весёлой и праздной жизни, которая царила на Самосе, о несметных сокровищах Поликрата, о его культе любви и вина. В ярких красках описывал Анакреон то беззаботное веселье, которое царило при дворе, и тот почёт, которым пользовались на Самосе певцы и учёные. Когда же он дошёл в своём рассказе до картины печальной смерти своего бывшего царственного покровителя и друга, голос Анакреона стал глуше, и в его дрожащих звуках послышались с трудом сдерживаемые слёзы.
Напряжённо внимали рассказчику все за столом; особенно Гиппарх не сводил с Анакреона разгорячённого, восторженного взгляда. Глаза его сверкали, лицо было залито ярким румянцем, губы нервно дрожали. По всему было видно, что Гиппарх мысленно не только переживает всё то, о чём столь красноречиво и искусно повествовал его гость, но что он забыл всё вокруг себя и весь ушёл в вихрь тех изысканных удовольствий, которыми славился двор тирана Поликрата. Прочие собеседники слушали рассказчика также с огромным вниманием, и только на живом и юношески свежем лице старца Ксенофана лежал явный отпечаток не то недоверия, не то скуки. Он время от времени искоса поглядывал на разглагольствовавшего Анакреона, и на его тонких губах мелькала лукавая усмешка. Но вот Анакреон, после небольшой паузы, приподнялся на ложе и, высоко подняв кубок с искристым вином, воскликнул:
– Друзья! Осушим наши чаши во славу и во здравие того, кого Аполлон и Афродита отметили в не меньшей мере, чем моего незабвенного царственного друга, Поликрата Самосского, печатью божественности! Да будет здравствовать во славу искусства его величайший сейчас покровитель в Элладе, славный тиран афинский, Гиппарх-Писистратид. Да не отвратят от него на многие ещё годы чела своего могущественные небожители и да уподобится Гиппарх самому лучезарному Аполлону-Фебу!
Все, кроме Ксенофана, поднялись с мест и приветствовали радостными кликами неожиданный тост теосского певца.
Лицо Гиппарха сияло от счастья.
– Твои слова, божественный Анакреон, доставили мне не только великое удовольствие, – ответил он на речь певца, – но и влили в душу елей утешения. Я тысячу раз счастлив, что мне пришла благая мысль пригласить тебя в Афины именно теперь, когда мятежный дух мой требует поддержки, которую – я вижу это ясно – один ты сумеешь оказать ему, и когда я в свою очередь приложу все старания, чтобы смягчить горе по поводу внезапной смерти твоего царственного друга, Поликрата. Поэтому позволь теперь и мне поднять за твоё здравие кубок и провозгласить многолетие славному теосскому певцу. Но что это? Наш друг Ксенофан сидит один среди всеобщего веселья хмурый и печальный? Как будто грозная туча налетела на ясное чело твоё, достойный сын Дексия?
Ксенофан печально улыбнулся.
– Я жалею от души, если моё настроение не гармонирует с общей радостью. Я отнюдь не печален, ибо тому не могло бы найтись сейчас сколько-нибудь веских оснований. Но, да будет позволено мне, человеку уже очень старому и свободно годящемуся каждому из вас в отцы, высказать мысль, пришедшую мне в голову во время красивой речи Анакреона и несколько омрачившую моё радостное настроение.
– Говори, говори, славный сын Дексия! – раздалось со всех сторон.
– За много часов сегодняшнего общения с вами, друзья, я то и дело слышал, как вы уподобляли друг друга то богу, то герою. Цветистая здравица Анакреона в честь Писистратида Гиппарха закончилась гордо – величавым сравнением из жизни небожителей... Сам я поэт, как вы, вероятно, знаете, и элегии мои известны во многих городах эллинского мира, а потому я первый признаю за поэтом право прибегать в своих речах к образам, созданным народным воображением. Но серьёзно принимать подобные уподобления и искренно восхищаться ими, как то сделал сейчас Гиппарх, простите, друзья, это не в моих привычках, это претит душе моей. Вот почему я молчал, когда вы все бурно одобрили речь Анакреона, вот почему тень пробежала по лицу моему и я не в силах был скрыть её. У каждого человека свои особенности, и взгляды всякого мыслящего существа являются результатом большего или меньшего количества умственной и душевной работы за всю его жизнь. Я много видел, чувствовал и мыслил за те почти полвека, что скитаюсь по свету, учась и уча, и седина моя, – признак опыта бурной жизни, – даёт мне право иметь по многим вопросам взгляды, отличные от общепринятых. Это право, надеюсь, не оспаривает у меня и милейший Анакреон, который да простит меня старика, если я сказал что-либо ему неугодное или неприятное.
Всех поразила как бы неуместная речь Ксенофана. Хотя Анакреон, за много лет пребывания в должности придворного поэта и привык к разным положениям и в большой степени развил в себе способность не терять хладнокровия ни при каких условиях, однако слова Ксенофана на этот раз задели его особенно сильно, тем более что Ономакрит яростно обрушился на старика:
– Ты отрицаешь богов, сын Дексия. Ты отвергаешь всё то прекрасное, что имеется в эллинской жизни. Тебе Олимп и его божественное население представляются вздорной сказкой, порождением праздного воображения праздной, бестолковой черни. Ты, Ксенофан, сегодня уже не раз намекал на это, и учение твоё о богах, своеобразное и мертвенно-сухое, достаточно известно в Аттике. У каждого человека есть, конечно, свои взгляды, но у мудрого они мудры, а у...
– Ономакрит, ты начинаешь забываться, – твёрдо произнёс Гиппарх. – Если я предложил вопрос Ксенофану не кстати, то прошу извинить меня; но человека, пользующегося моим гостеприимством, я никому не позволю оскорблять.
– Он оскорбил такого же гостя, как он сам, Анакреона, сына Скитина. Он оскорбил, наконец, бессмертных богов.
– Он никого не оскорблял и оскорблять не хотел. Он высказал, как честный человек, лишь то, что думает, – тихо заметил Лас Гермионский.
– Вот что, друзья, – раздался мягкий и в то же время звучный голос Анакреона, – мне кажется, что мы сейчас говорим совсем не о том, о чём следует. Если кто мог почувствовать себя задетым нашим уважаемым поэтом и мыслителем, то только я. Но уверяю вас всех и клянусь красотой Афродиты, я нисколько не обижен. Напротив, я рад, душевно рад, что слышу столь своеобразную речь Ксенофана, так как надеюсь, что он пояснит нам подробнее свои мысли.
– Пусть говорит! Послушаем! Говори, Ксенофан, – раздалось несколько голосов.
Гиппарх с благодарностью взглянул на Анакреона, который улыбкой ответил ему.
– Я бы предложил отложить такую серьёзную беседу до другого, более подходящего раза, – медленно, с расстановкой, подчёркивая каждое слово, проговорил Лас, лицо которого стало сосредоточенно-мрачным. Но все остальные запротестовали, да и сам Ксенофан, видимо, не имел ничего против предложения своих сотрапезников. По живому лицу его пробежали нервная дрожь и глаза его заискрились юношеским блеском.
– Да простит меня любезный Ономакрит, муж достойнейший и ученейший, если я начну с пункта самого неприятного именно для него: преклоняясь не менее его перед гением слепого старца Гомера, которого и я имею честь считать, по преданию, своим согражданином, скажу откровенно, что его рассказы о богах и их постоянном вмешательстве в дела людские, их человеческих слабостях и даже пороках производят на меня удручающее, отталкивающее впечатление. Какие это боги, которые менее людей в состоянии бороться со своими страстями, которые слепо поддаются этим страстям и даже требуют себе поклонения за свои слабости! Если ты бог, то будь настоящим богом; если же человек, то и не требуй себе большего, чем пристойно смертному. Не могу я, воля ваша, верить россказням поэтов и праздных рапсодов о похождениях великого вседержителя Зевса. Что это за отец богов, которому чуждо понимание добра и зла!
– Ты забываешь, почтенный Ксенофан, – не утерпел Ономакрит, – что всё это символы.
– В таком случае, так и говорите народу, что сказки о богах – символы. Но вы этого не делаете. Напротив, вы всеми силами стараетесь внушить толпе беспрекословную веру в подлинную истинность ваших россказней. Вы идёте дальше по пути сознательной лжи. Вы усердно собираете разноречивые мифы об одном и том же божестве и стараетесь, путём искусной их обработки, уничтожить вопиющие противоречия и явные в них несообразности. Вместо того, чтобы возвысить человека до неба, вы низводите небо на землю. Потому-то и Олимп ваш – простая гора в северной Фессалии, на границе Македонии. Но как вы, эллины, помещаете жилище ваших божеств на этой горе, так в других странах – я исходил и изъездил их за пятьдесят лет немало – другие народы, которых вы пренебрежительно именуете варварами, помещают дворцы своих небожителей на своих горах и высотах, согласно преданиям своим. Вам Зевс представляется в виде совершеннейшего, прекраснейшего мужа. Есть народы, у которых он воплощается в лучезарном солнце; другие видят и слышат его в грозовой туче, изрезанной молниями, а темнокожие египтяне поклоняются ему в чёрном, как ночь, быке. Кто из них прав, кто ошибается, не знаю. Но думается мне, что не правы и ошибаются решительно все, кто стремится воплотить могучую и таинственную силу, управляющую миром, в какой бы то ни было осязательный образ. Зевс – это божественная сила, руководящая всеми явлениями, везде и нигде. Она везде постольку, поскольку всё в мире от неё зависит и ею проникнуто; она нигде, так как непосредственно общаться с ней человек не в состоянии. Она бесконечна и её нет; проявления её видимы, а сама она по существу своему неуловима. Ею проникнуто всё, поэтому она безраздельно едина; хотя она и проявляется в мириадах явлений, она всегда остаётся неизменной и равной только себе одной. Она всё и она – бог.
Ксенофан умолк, и взор его устремился на тёмные горы побережья, озарённые мягким лунным светом, на серебристые волны моря, вздымаемые дружным ударом вёсел, на бездонное глубокое небо, озарённое бесчисленным множеством золотых звёзд. Затем, после некоторого молчания, старец продолжал:
– Вы видите его, моё, истинное божество, повсюду в этой величественно-прекрасной природе, в которой человек лишь одна из малых частиц. Этот нежный свет луны, эти дивные горы, замыкающие наше прекрасное лазоревое море, эти бесчисленные огни на небесном шатре, этот тихий, ласкающий ветерок, несущий прохладу после знойного дня и надувающий паруса нашего судна, чтобы гребцам было легче работать, эта безмолвная тишина ночи, когда всё в природе отдыхает после трудового дня и набирается сил, чтобы с зарёй вновь приняться за прерванный труд, вся эта красота, весь этот покой и мир, вся эта чудная гармония, вместе взятые – вот мой Зевс, мой бог... и на него не променяю я ни Зевса-Олимпийца, ни лучезарного Аполлона, ни девственницу Палладу, ни страстную Афродиту, ни жадного до брани и крови Ареса, ни всех великих и малых богов и богинь, которыми пылкая, но невежественная фантазия простолюдина населяет наш прекрасный по своему величию и своей стройности, наш дивный по своей простоте и единственный по своему совершенству мир, которым управляет и руководит одна единая могучая и в своей целости недоступная слабому человеческому пониманию верховная сила...
Ксенофан умолк. Слёзы показались на старческих глазах мыслителя-поэта, и голос его заметно дрожал. Его простые, проникнутые глубокой убеждённостью, сильно прочувствованные слова произвели на безмолвно сидевших вокруг него людей неотразимое, чарующее впечатление. Под влиянием слов Ксенофана и тёмные, серебристые на вершинах прибрежные скалы, и золотистые волны моря, и тихий рокот плещущейся у бортов триремы воды, и огни на ночном небе, и вся эта тихая, дивная, южная тёплая ночь, и всё, всё вокруг них показалось им вдвойне прекрасным.
Стройная трирема тем временем плавно продолжала свой путь, направляясь в Пирей, этому преддверию славных Афин.

V. ВЕЛИКИЕ ПАНАФИНЕИ
Со времени прибытия Ксенофана и Анакреона в Афины прошло несколько дней. За это время мыслитель и поэт успели обосноваться в отведённых им гостеприимным Гиппархом помещениях на Акрополе и подробно осмотреть город и его достопримечательности. Прибытие именитых писателей было как нельзя более кстати и своевременно: город и с ним вся Аттика готовились к пышному празднованию великих Панафиней, древнейшего празднества в честь Паллады-Афины, установленного, по преданию, ещё Эрехфеем и сопровождавшегося огромным стечением народа не только из окрестностей, но и из соседних областей и даже с отдалённых Кикладских и Спорадских островов. Панафинеи происходили ежегодно в конце месяца Гекатомбеона. Но через каждые четыре года они обставлялись необычайной торжественностью, продолжались целых пять дней и сопровождались разнообразнейшими агонами, состязаниями, которые сосредоточивали на себе всеобщее внимание, особенно с тех пор, как покойный Писистрат, в 566 году до Р. Хр., прибавил к обычным конным ристаниям состязания в езде колесниц и в беге взапуски. До начала агонов оставалось только два дня, и теперь вся равнина, простиравшаяся к северу и западу от Афин, белела от обилия палаток, разбросанных там подобно маргариткам на обширных лугах. Множество разнообразного народа толпилось на улицах и площадях города; ещё больше его было в этом импровизированном стане, который сейчас кишел, как огромный муравейник.
Граждане увеличивали эту пёструю толпу, навещая обширный полотняный город, отчасти надеясь встретить там знакомых, отчасти рассчитывая узнать какие-нибудь интересные новости, либо просто движимые праздным любопытством.
Вышли сюда также Гиппарх и Анакреон. Несмотря на недавнее знакомство, обоих этих людей, столь далёких друг от друга по общественному положению, уже успела связать прочная и нежная дружба. Они были почти ровесниками, представляли высокообразованных эллинов, оба были горячими поклонниками искусства. Но что ещё более сблизило их, так это присущее обоим преклонение перед красотой, возводимое в культ. Певец любви и жизнерадостной, бес печной весёлости сразу сумел тронуть нужные струны в пылком сердце своего царственного друга. Гиппарху казалось, что он уже многие годы знаком и близок с этим статным красавцем, голос которого звучал столь вкрадчиво-мягко и речь которого была проникнута такими прекрасными, смелыми образами. Он успел настолько полюбить Анакреона, что раскрыл перед ним всю свою душу, посвятил его в самые заветные мечты и грёзы свои. Он делился с новым другом планами об украшении города, он часами мог рассказывать ему о ходе постройки грандиозного святилища в честь Олимпийского Зевса, он водил его к тем величественным оросительным сооружениям, которые строились искусными архитекторами Антистатом, Каллэсхром, Порином и Антимахидом под непосредственным руководством и по указаниям самого Гиппарха. И странное дело! В то время, как ни Ономакрит, ни Феогнид, ни Симонид, ни даже гермионец Лас, ближайшие друзья его не восторгались планами и работами тирана так, как бы того ему хотелось, учтивый и прекрасно воспитанный певец с Теоса, казалось, всей душой отдавался тому делу, которое было столь близко сердцу Гиппарха. Он мог целыми часами слушать его с неослабевающим интересом, он никогда во время продолжительных экскурсий не проявлял ни малейшего признака не только скуки, но и утомления, он всегда был рад посоветовать своему царственному другу то одно, то другое, и каждый раз Гиппарх находил, что этот совет как нельзя более соответствовал его собственным желаниям, как бы был подсказан Анакреону им самим, Гиппархом.
Хитрый теосский певец, столько лет успешно угождавший самодуру Поликрату, без особого труда постиг все слабости сына Писистрата и сразу понял, что, поддакивая Гиппарху, ему не трудно будет занять первенствующее положение среди украшавших афинский двор многочисленных писателей, поэтов и художников. Он сразу увидел, что лучшим способом навсегда покорить сердце Гиппарха являлись тонкая лесть и полная покорность его взглядам и воле. Он без труда понял, что такой прямой и честный мыслитель, как старец Ксенофан, сразу пленивший Писистратида новизной своих смелых идей, ему не опасный соперник, потому что он необдуманно дерзнул затронуть, и притом в грубой и дерзкой форме, то, что было близко сердцу Гиппарха, авторитет Гомера. Не опасными показались Анакреону и прочие ближайшие друзья тирана: Ономакрит по природе своей был сухим учёным. характер которого резко расходился с миросозерцанием и вкусами Гиппарха; Феогнид отличался слишком большим пессимизмом во взглядах на толпу, перед которой Гиппарх благоговел и которой инстинктивно боялся; кеосец Симонид, человек разносторонне образованный, был слишком поэтом и идеалистом, чтобы представлять опасного соперника, а хмурый Лас из арголидской Гермионы настолько ушёл в свои теоретические исследования музыки и так отдался новому виду разрабатывавшейся им теперь лирики – дифирамбическим песням, что за последнее время, особенно после открытой размолвки с тираном, почти не показывался при дворе. Итак, Анакреон снова чувствовал твёрдую почву под ногами и мысленно торжествовал. Зная честолюбие своего нового покровителя и его ненасытную жажду внешних впечатлений, он при всяком удобном случае старался в возможно красивом освещении рисовать перед ним всё великолепие и пышность двора покойного Поликрата. В тайниках души он рассчитывал возбудить зависть Гиппарха и склонить его к подражанию, причём он, Анакреон, мог бы играть и в Афинах такую же первенствующую роль при дворе, какая ему некогда выпала на Самосе. В самых ярких, самых тонких красках и образах рассказывал он Гиппарху о царившей при дворе Поликрата чисто восточной роскоши, о тех изысканных удовольствиях, в которых всю свою жизнь проводил властелин Самоса, о тех редкостных наслаждениях, которыми сопровождались сказочные по своей роскоши пиры и неизменно следовавшие за ними оргии тирана и его приближённых. С такой поразительной яркостью описывал Анакреон прелести самосских красавиц, участвовавших в этих пиршествах и служивших на них главной приманкой участникам оргий, что у пылкого Гиппарха глаза разгорались от неукротимой страсти, и он всеми силами души готов был хоть сейчас последовать примеру Поликрата, если бы его стремления в этом направлении не рисковали разбиться в прах перед несокрушимой волей чёрствого сердцем и жившего почти исключительно рассудочной жизнью старшего брата, Гиппия. Само собой разумеется, Гиппарх посвятил Анакреона в переживаемый им именно теперь неудачный роман свой с сестрой Гармодия, прекрасной, но недоступной Арсиноей. Сделал он это в минуту увлечения откровенностью Анакреона, который в жгучих выражениях рассказал ему о своей любви к красавице Еврипиле, отвергшей его и вышедшей замуж за юношу Артемона. Эти две женщины ещё теснее связали афинского тирана с теосским певцом.
Оба приятеля направлялись теперь, в сопровождении зодчего Антимахида, к месту постройки великолепного храма Олимпийского Зевса, чтобы взглянуть на ход работ, к которым Анакреон выказывал большой интерес. Строителя Антимахида они встретили за городом, на лугу, среди многочисленной толпы, и он-то и побудил их навестить его любимое детище, величественное капище, правда, ещё скрытое за лесами, но уже теперь, в далеко ещё не законченном виде, обещавшее стать одним из грандиознейших памятников эллинского духа и античного искусства. Гиппарх не был, впрочем, особенно рад этой встрече, потому что она лишала его возможности по душам поговорить с Анакреоном и поделиться с ним одной вещью, которая в данный момент его очень озабочивала. Подобно отцу своему, Писистрату, и Гиппий, и Гиппарх были очень суеверны. Всякие сны, приметы, знамения внушали им таинственный страх, хотя младший из братьев упорно отрицал это. Будучи баловнями судьбы, тираны постоянно боялись за свою власть, и малейший намёк на возможность дурных перемен приводил их в смущение. Между тем, именно сегодня Гиппарху приснился странный сон, под впечатлением которого он находился всё утро, но о котором до сих пор ему так и не удалось сообщить Анакреону. Дело в том, что, проснувшись глубокой ночью, сын Писистрата долго не мог заснуть. Когда под утро сон смежил его очи, он увидел у изголовья своего ложа рослого и прекрасного мужа, обратившегося к нему со следующими загадочными словами:
«Как ни терпеть тяжело, терпи с покорностью в сердце,
Ведь, о лев, злодей не уйдёт от карающей мести!»
Затем видение исчезло. Рано поутру Писистратид послал за снотолкователями, специально служившими при афинском дворе, но они не сумели дать сколько-нибудь удовлетворительное объяснение. Гиппарх решил попытать счастья у Анакреона.
Осмотрев постройку настолько поспешно, насколько позволяло приличие, тиран распростился с Антимахидом и остался наконец наедине с другом. Когда он рассказал певцу о мучившем его сновидении, Анакреон весело рассмеялся и воскликнул:
– Гляжу я на тебя, дорогой мой друг, и дивлюсь: отчего боги не сотворили тебя женщиной? Всё в тебе напоминает представительницу прекрасного пола: и красота твоя, и мягкое сердце, и склонность к любви, и суеверие...
Гиппарх даже обиделся. Вспылив, он сказал довольно резко:
– Я в суеверии и склонности к любви не вижу повода для насмешки. Что же касается якобы моей слабости, то ты, сын Скитина, скоро воочию убедишься, что я не так слаб, как ты думаешь.
– Я не хотел обидеть тебя, божественный Писистратид, поверь мне. Но то, что ты так вспылил сейчас, только подтверждает мои слова: в тебе много, много женственного, а это значит (тут говоривший сделал продолжительную паузу), что ты очарователен, как прелестнейшая эллинка, восхвалению которой всегда была посвящена моя лира.
Теперь очередь рассмеяться была за Гиппархом.
– Ты, Анакреон, ловкий и умный человек. Видно, недаром ты прожил столько лет при дворе могущественного Поликрата. Но всё-таки против того, что ты смеёшься над моим суеверием, я протестую. Все мы зависим от всесильной Судьбы и, вопреки милейшему Ксенофану, я ни на миг не перестаю верить в возможность вмешательства небожителей в наши людские дела, не говоря уже о том, что считаю отрицание существования богов явным кощунством. Сон мой, несомненно, – вещий сон.
– И я тебе объясню его чрезвычайно легко, – перебил Анакреон. – Так как твои снотолкователи, конечно, ничего не знают об истории с Арсиноей, то они и не сумели дать правильное объяснение. Вот оно: «Терпи, о лев, терпи ещё недолго»; злодей Гармодий будет наказан за свою дерзость, и Арсиноя станет твоей.
Гиппарх горячо пожал руку друга.
– Как я сам не додумался до такой простой вещи! – воскликнул он. – Да, ты прав, тысячу раз прав: Арсиноя будет моей, и это я докажу тебе. Именно это я имел в виду, когда запротестовал против того, будто я, по-твоему, слаб, как женщина.
Анакреон насторожился. Гиппарх же, с пылающими щеками и искрящимся взором, воскликнул:
– Мой план сразу созрел у меня. Слушай: Гармодий оскорбил меня. Кимон был наречённым женихом Арсинои. Кимона в живых уже нет. Теперь дело за Гармодием...
– Гиппарх! Руки твои должны быть чисты от крови.
– Они ими и будут. Гармодию будет нанесено только... оскорбление... в лице его сестры. Как бесчестная девушка, Арсиноя будет счастлива, если я приму её... в невольницы моего дворца.
В эту минуту друзья подходили к Акрополю, с которого, окружённый огромной толпой вооружённых телохранителей, спускался Гиппий.
Гиппарх и Анакреон обменялись многозначительными взглядами и поспешили навстречу тирану.
Вечером того же дня, когда солнце уже успело зайти, и темнота окутала Афины, к маленькому домику на Керамике быстрыми шагами приближался Гармодий. Его движения были порывисты, он сильно размахивал руками: время от времени сдавленное проклятие слетало с его уст. Вот он наконец достиг цели. Двери дома, в котором жил его друг Аристогитон, тихо раскрылись перед ним, и Гармодий поспешно прошёл в его рабочую комнату. На пороге он круто остановился, услышав за занавесью тихие голоса. Первым движением его было повернуть назад. Вдруг радостная улыбка заиграла на его лице, озабоченном и сильно осунувшемся за последние дни.
– Радуйтесь! – весело приветствовал он парочку, сидевшую в дружеской беседе в уютной, небольшой комнатке. – Боги да пошлют вам мир и любовь, дорогие Аристогитон и Леена! Если я помешал вам, прошу простить меня, но...
– Что-нибудь случилось? На тебе лица нет, – воскликнул Аристогитон и быстро встал с места.
– Ты на себя не похож! Что-нибудь опять стряслось? Как Арсиноя? – быстро-быстро заговорила изящная белокурая девушка, боязливо глядя большими, прекрасными глазами на вошедшего. Гармодий только махнул рукой и тяжело опустился в кресло. Грудь его порывисто дышала, и голова поникла.








