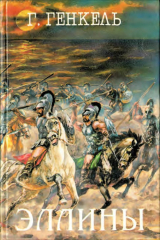
Текст книги "Эллины (Под небом Эллады. Поход Александра)"
Автор книги: Квинт Эппий Арриан
Соавторы: Герман Генкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 44 страниц)
– Поэт не покорен ей, друг! – послышался тихий возглас Ласа.
– Нет, и он покорен этой силе, гермионский певец. И покорен бессознательно, но глубоко: богатство создаёт условия, при которых именно мы, поэты, только и можем творить.
– В твоих глазах, Феогнид, нет ничего презреннее бедности. Это мы все давно знаем. Но, ты прости меня, порой мне кажется, что такой взгляд – результат личных горьких жизненных разочарований и многих тяжёлых лишений, посланных тебе судьбой. Посмотрите на меня. Ведь, кажется, сейчас в Греции нет человека счастливее меня, нет человека богаче меня. А между тем я беден, беднее последнего жалкого раба и потому глубоко несчастлив.
Так сказал Гиппарх и в раздумье, глубоко вздохнув, опустился на скамью. Ономакрит наклонился к другу и тихо шепнул ему что-то на ухо.
– Оставь, Ономакрит; не того жаждет душа моя. Довольно мне внешней славы и мишурного блеска! На к тому стремится сердце моё. Я богат и – я беден Мне покорно всё в Афинах, в Аттике, в дальнем Сигее. Лучшие люди – мои друзья, мои искренние, бескорыстно любящие меня друзья. Музам я дорог, так как чудные дары их не чужды мне. Сам лироносец Аполлон запечатлел на челе моём свой божественный поцелуй, благословив на великое дело – сделать священный град Паллады-Афины средоточием искусства. Толпа, которую сейчас так страстно поносил Феогнид, покорна мне и молится на меня, так как я щедрой рукой рассыпаю перед ней земные блага. Но всё это ничто в сравнении с тем, чего я жажду и чего мне никогда не достигнуть!
– Ты опять впал в тоску по очаровательной Арсиное. И далась же тебе эта девушка!
– Нет, Симонид, ты не прав, называя Арсиною очаровательной девушкой. Это воплощение всего наилучшего, что есть на земле. В мире не найдётся равной ей...
– По красоте, уму и сердцу, хотел ты сказать. Видишь, как я знаю сокровеннейшие мысли твои, Гиппарх. Вспомни, однако, о Фии.
– Не говори, не говори мне о ней, – воскликнул Гиппарх. – Не следует солнце поминать рядом с тусклой свечой.
– Но было же время, когда ты и ею увлекался не на шутку, – сказал Ономакрит и продолжал, сделав паузу: – И не мало было у тебя в жизни этих Фий. Ты, как истый поэт, искренно преклонялся пред ними, чтобы затем, погодя немного, когда на твоём небосклоне всходила новая звезда, забыть её предшественницу. Так будет и на этот раз, поверь мне.
– Бестолковый ты человек, как я вижу, хотя и учёный, – шутливо ответил Гиппарх. – Пойми же, вспомни, если забыл, отказывался ли я когда-нибудь от своих взглядов на красоту, искусство, служение музам в угоду какой-либо женщине или девушке? Теперь же мной овладело совершенно новое, никогда доселе не испытанное чувство: я готов ради Арсинои отречься от всего: от власти, почёта, богатства, славы, самого себя наконец. Я готов на... преступление, – добавил Гиппарх уже почти шёпотом.
– Ты просто клевещешь на себя, и я никогда не поверю, чтобы ты говорил всё это серьёзно.
– Вспомни, Феогнид, златокудрую Аргириду, которую ты так любил.
– А что от всего этого осталось? Один звук пустой, с которым не связано даже воспоминания. Теперь у меня, на старости лет, иной кумир: властвовать над толпой и, составив себе богатство, презирать её – вот к чему я стремлюсь.
– И чего ты, конечно, достигнешь. Не правда ли? Достигнешь скоро, не сегодня, так завтра? – раздался насмешливый вопрос Ласа.
– Если не сегодня и не завтра, так когда-нибудь. В этом я уверен – и мойры меня не обманут.
– Чудак ты, я вижу, вместе со своими мойрами или – что то же – безумный поэт, в душе и мозгу которого уживаются крайности. На далёком Востоке, говорят, есть люди, верующие только в одну Судьбу. Так это или нет, я не знаю; но знаю наверное, что эта их вера не дала им до сих пор ничего: даже имени это племя себе составить не сумело, и никто не знает, как его зовут.
Так сказал Ономакрит и, обратясь к Гиппарху, продолжал:
– Что будет дальше, увидим, если поживём. А вот о чём я сейчас вспомнил: ты недавно говорил нам, что собираешься послать к острову Самосу пятидесятивесельное судно за певцом царственного Поликрата, Анакреоном, сыном Скитина. Ты не оставил, надеюсь, этого благого намерения?
– Не только не оставил, но уже исполнил, и корабль наш на пути за любимцем Эрота и Афродиты А вот чего ты не знаешь, и никто из вас, друзья, не знает: нужно устроить состязание певцов на ближайшем всенародном празднестве. Как вы отнесётесь к этому предложению, друзья?
Неожиданное заявление Гиппарха было встречено присутствующими громом рукоплесканий.
Гиппарх выпрямился во весь рост, и улыбка радости скользнула по его немного бледному и ещё за минуту перед тем озабоченному лицу.
– Да, это будет славно, – как бы про себя проговорил он. – Тут соберётся у нас в Афинах цвет эллинской мысли и духа, и мы покажем миру, что Аттика недаром пользуется высоким покровительством могучей дщери Зевса, вседержительницы нашей Афины-Паллады.
– Сегодня мы опять не заметили за нашими беседами наступления ночи, – промолвил Симонид. – Не пора ли нам возвращаться под эгиду Паллады?
– Пора, давно пора! – раздалось со всех сторон.
Как бы по мановению волшебного жезла в листва кустарников на противоположном конце луга замелькало множество огоньков: то направлялись сюда за своими господами рабы, нёсшие в руках зажжённые смоляные факелы. Через несколько минут лужайка и скамьи под деревьями опустели, и лишь слабые лучи серебристой, только что всходившей луны заиграли в кружеве листьев платанов и маслин и скользнули по серому камню огромного жертвенника богоподобного гиганта Прометея, одиноко высившегося в саду афинской Академии.

II. БРАТЬЯ
Было около полуночи, когда Гиппарх в сопровождении Ономакрита, неразлучного своего спутника и Товарища как в трудах, так и в развлечениях, вернулся на Акрополь и вошёл в ту часть обширного дворца Писистратидов, которую занимал он со своей семьёй. Часовые у входа низко склонили перед тираном копья и с улыбкой переглянулись. Они подумали, что Гиппарх, по обыкновению, возвращается с весёлой пирушки в городе и удивились только, что из постоянных спутников его на этот раз на Акрополь поднялся один лишь Ономакрит.
Не успел Гиппарх переступить порог, как старый привратник, почтительно склонив седую голову и скрестив на груди руки, доложил, что Гиппий просит брата к себе. Известие это вызвало на несколько утомлённом и бледном лице тирана едва заметное выражение неудовольствия. Но опытный глаз старого слуги уловил это движение, и он сказал тихо:
– Всевластный сын Писистрата отдал это распоряжение уже часа два тому назад. Быть может, теперь, когда ночь опустила на землю свою тяжёлую десницу, господину моему будет благоугодно приказать справиться, не почивает ли его царственный брат!
– Да, Эвмолп, распорядись осведомиться, нельзя ли отложить столь позднее посещение до грядущего утра. Я устал. Дух и тело жаждут покоя и сна.
Раб удалился, и друзья очутились в обширном чертоге, убранном необычайно роскошно. Столы, кресла и скамьи этой большой комнаты были покрыты обильной позолотой. В углах, на мраморных колонках, высились бюсты Гомера, Гесиода, Орфея и Ариона. Середину покоя занимала большая мраморная группа, изображавшая Афродиту и Ареса. Маленький Эрот шаловливо выглядывал из-за огромного щита бога брани и с лукавой улыбкой ухватился за кончик его могучего меча. Комната была ярко освещена несколькими светильниками на высоких бронзовых подставках.
– Как это скучно, Ономакрит, – вяло проговорил Гиппарх, сбрасывая гиматий и тяжело опускаясь на скамью у стола, заваленного рукописями, – Гиппий никогда не может понять меня. Вечно одно и то же. Подумай только, я понадобился ему теперь, в глухую полночь! Неужели для дел государственных нет лучшего времени? Разве нельзя, если уже непременно требуется мой совет, оставить беседу до утра? Теперь, когда дух мой далёк от всей этой противной обыденной, мелкой и пошлой сутолоки...
– Несомненно, сейчас не время заниматься государственными делами, Гиппарх. Но кто знает, не случилось ли чего-нибудь, что требует твоего вмешательства и немедленного совета.
– Знаю я эти советы и вмешательства: брат Гегесистрат-Фессал опять напроказил и приходится расплачиваться за его проделки. Скажу тебе откровенно, как другу, надоела мне возня с моим младшим братцем. С тех пор, как он вернулся из дальнего Сигея, дня не проходит без неприятностей. Юн он ещё и никак не может понять, что здесь нельзя распускаться и делать, что угодно.
– Продолжительное пребывание на чужбине, где он был безграничным правителем, и ваше высокое положение, ваше могущество, не уступающее царской власти, наконец врождённое легкомыслие, не прошедшее с годами...
– Я сто, тысячу раз всё это слышал. Но пора же остепениться. Невозможно же человеку в тридцать с лишним лет разыгрывать из себя семнадцатилетнего эфеба.
– Это так, Гиппарх. Но вспомни, нет ли у нашего милого эфеба старшего братца, который также не чужд увлечений и разных грешков? Подумай о себе, и ты согласишься со мной, что раньше, чем других учить...
– Вечно ты со своими противными наставлениями. Тебе бы, Ономакрит, быть жрецом в капище эриний, а не слугой светлого Аполлона и поклонником его прекрасных муз. И дались же всем вам мои увлечения. Сегодня в сотый раз слышу это ненавистное слово.
– Но, если это правда?
– Какая там правда! Всё это вздор! Гегесистрат дерзок и нагл. Если бы он не был мне братом, он был бы мне противен. Эта необузданность, эта резкость, это ненасытное властолюбие, эта ничем не сдерживаемая распущенность надоели, я думаю, не только нам с Гиппием, но и всем порядочным афинянам. Горе с ним, одно только горе!
– Вижу, мой милый, что ты сегодня просто не в духе, а потому несправедлив. Не хотелось бы тебе противоречить, но скажу, что все указанные сейчас качества Гегесистрата преувеличены тобой. Это во-первых. А во-вторых, у него есть нечто, искупающее многие его недостатки.
– Он искренен, хочешь ты сказать?
– Да. Но это не всё: он – натура непосредствен, не умеющая делать уступки ни в чём и никому. Во всяком же случае не станем терять время на напрасные споры, а лучше выпьем перед отходом ко сну чашу доброго вина и разойдёмся до утра. От тирана нет известия: Гиппий, вероятно, уже спит.
– Нет, Ономакрит, он не спит, – раздался в этот Момент низкий бас пожилого человека, появившегося на пороге залы. Это был сам Гиппий. Изборождённое глубокими морщинами и обрамлённое густой, седой одой жёлтое лицо его носило суровый и даже гневный отпечаток. Небольшие глаза были слегка прищурены и в них горел огонёк недоверия и злобы. Высокая, немного полная фигура тирана казалась ниже, чем она была в действительности, потому что Гиппий держался несколько сгорбившись. Сутуловатость сильно старила его.
Властным движением руки он отпустил сопровождавших его рабов и подсел к столу.
– Вы оба удивляетесь, что я в столь поздний час пришёл сюда? Не правда ли? – сказал он несколько насмешливо после маленькой паузы. Не получая ответа, Гиппий продолжал: – Правитель не знает ни дня, ни ночи. Он весь всегда принадлежит своему государству. Его обязанность вечно бодрствовать – даже во сне.
– Значит, не брат Гегесистрат-Фессал причина нашего ночного совещания? – улыбнулся Гиппарх.
– Нет, не он. Его проделки – мелочи. Мне предстоит переговорить с тобой о более важном. И если я сам пришёл сюда, то, значит, дело не терпит. – При этих словах Гиппий обернулся в сторону Ономакрита.
– Ты, аринянин, – сказал он немного насмешливо, – перед моим приходом собирался испить последнюю чашу на сон грядущий. Намерение доброе, и я рад был бы последовать твоему примеру. Но – некогда.
Ономакрит встал и, молча поклонившись братьям, немедленно покинул их. Гиппарху поступок брата не понравился, и он без обиняков высказал это Гиппию. И – странное дело! – лишь только оба остались наедине, морщины на лбу старшего понемногу стали сглаживаться, сурово-надменное выражение его лица уступило место добродушной улыбке и в голосе зазвучали сердечность и ласка.
– Знаю, всё знаю: ты мне пеняешь за то, что я на достаточно предупредителен и любезен с твоим закадычным приятелем, – возразил он Гиппарху. – Но что же делать? Не нравится мне твой хвалёный Ономакрит: что-то лисье светится в глазах и всей его фигура, и я решительно не верю в его искренность. К тому же то, с чем я пришёл к тебе, столь важно, что посторонним людям, хотя бы и близким друзьям, сейчас здесь не место.
– Относительно Ономакрита ты мог бы сделать исключение: вспомни, как его любил наш покойный отец. Не забывай, что он давнишний друг семьи нашей, что он присутствовал при кончине отца, что, наконец, возложенное на него отцом дело – дело великое, национальное. Ему мы обязаны сохранением творений бессмертного Гомера.
– За все эти огромные заслуги ему и воздаются небывалые почести. Его работ, его талантов никто не оспаривает. Но сам он, как человек, никогда не внушил мне доверия. В конце концов это – мелкая, тщеславная личность. Однако опять-таки не в нём теперь дело. Вопрос гораздо серьёзнее, чем ты думаешь.
– Ты меня заинтересовал.
– Я жду твоего совета. Так слушай же: было бы странно расписывать тебе наше положение. Ты сам знаешь, насколько оно завидно. Отец оставил нам власть, несметные богатства, верных союзников, болен или менее умиротворённую страну. Население Аттики забыло о тех тяготах, которые оно переживало сорок лет тому назад. Оно оправилось от гнёта внутренних врагов, оно вздохнуло свободнее после изгнания ненавистных Алкмеонидов, оно достигло небывалого дотоле благосостояния. Отдельные дёмы слились в один сильный, цельный город, которому сейчас нет равного в мире. Всюду, на берегах Малой Азии, на Босфоре, на дальнем Понте Евксинском, наконец на бесчисленных островах, начиная с ближней Эвбеи и кончая цветущими Спорадами, в стране, где восходит солнце, даже в смеющейся Сицилии и близ могучих столпов Геракла, там где солнце каждый вечер погружается в полотые волны, везде, где только раздаётся наша дивная эллинская речь, всюду, где живут потомки старого Ксуфа, везде в один голос славят Афины и в один голос называют отца нашего и нас, его сыновей, самыми могущественными, самыми сильными из греков. Тираны на островах Наксос и Самос ищут нашего союза и дружбы с нами. Фессалийцы подвластны нам. Жизнерадостная, богатая, весёлая Иония с берегов алой Азии завистливым оком следит за ростом нашего могущества. Но вот эта-то зависть и пугает, и вечно страшит меня. Мне всё кажется, что всё наше благополучие, вся наша сила – эфемерны, что счастье наше построено на песке.
– Опять, брат, мрачные мысли одолели тебя, – мягко сказал Гиппарх и подсел ближе к Гиппию. – Мне кажется, – продолжал он после минутного раздумья, – ты слишком утомляешься, слишком волнуешься. Всё это лишнее. Тебя грызёт безотчётная тоска, так как ты не уверен в благоволении богов к нам.
– Оставь, Гиппарх, богов. Им хорошо на Олимпе. Их никто не трогает, и забот у них нет никаких. Светлым беспрерывным празднеством протекает их жизнь, но – и над главами вседержителей тяготеет неумолимый рок, таинственные мойры, всевластные богини судьбы.
– И тем не менее они счастливы и блаженствуют в вечной юности и красоте. Да будут же боги примером нам, нам, которые сейчас в Элладе самые сильные, самые счастливые после них. Прочь заботы! Да здравствует светлая, беззаботная, радостная жизнь!
– Тяжёлых дум ты не отгонишь от меня, – мрачно сказал Гиппий, – особенно, когда для них есть полное основание. Человек, как и всесильные боги, отовсюду окружён грозными опасностями. Вспомни юность Диониса-Вакха.
– Но у нас есть всё, чтобы отразить с успехом беду, если бы таковая нам и угрожала. И Дионис вышел победителем из борьбы. И смотри, как могуч и дивен теперь этот бог! На моей памяти ещё культ его едва-едва стал распространяться в Элладе, а теперь нет страны, нет города, нет селения, где бы его не почитали, где бы – да простит мне сын Латоны! – он постепенно не вытеснял лучезарного Аполлона.
– Лишнее доказательство правоты моих слов: даже боги не ограждены от падения. Как же быть тогда нам, жалким смертным? Наши деньги, наша власть, наше оружие – недостаточный оплот от врагов, которыми мы окружены отовсюду. Они только ждут случал погубить нас, потому что они завидуют нам. Стража, телохранители – ничто в сравнении с силой злобы и зависти. Врагов у нас больше, чем друзей. И чем большей кажется нам сила наша, тем на самом деле мы слабее. Многое на это указывает.
– Прости меня, Гиппий, но мне сдаётся, что ты просто болен. Ты так переутомляешься за день, что перестаёшь различать разницу между действительностью и плодом расстроенного воображения. Тебе нужен отдых, основательный отдых. Эта работа с восхода солнца и до глубокой ночи не под силу самому Гераклу. Ты же, брат, трудишься так всю жизнь, трудишься не покладая рук, не помышляя об отдыхе, не думая ни и своих силах, ни о себе самом. Сколько я тебя помню, всё ты чем-то озабочен, всё тебя гнетёт то одно, то другое.
– Прав ты, Гиппарх. Рано я стал деятельным помощником славному отцу нашему. Не было у меня ни детства, ни юности. Радости жизни почти чужды мне. Вечная борьба с тех пор, как я себя помню, давно иссушила моё сердце. Я стал нелюдим, недоверчив, угрюм и зол. То, что создано нашим отцом, представляется мне непрочным, как и всё в жизни. Вспомни наше изгнание. Вспомни, как часто мы были на вершине счастья и удачи и как быстро всё снова шло прахом! Власть – великая сила; но нужны нечеловеческие старания, чтобы не утратить её. Власть – самая непрочная в мир сила, и я боюсь, что из всем непрочных властей именно наша наиболее шаткая.
– Почему ты именно сегодня в таком мрачном настроении? Что случилось?
– Почти ничего, и очень много. Слушай: ты помнишь сына Стесагора, Кимона?
– Конечно, помню. Это – сводный брат Мильтиада, ушедшего в Херсонес и там основавшего тиранию. Что же из этого? Ведь он нам друг! Ведь ещё отец наш вернул его в Аттику и, после многолетней ссоры, примирился с ним. Да я две недели тому назад пировал у него с друзьями перед отъездом его в Олимпию, на игры.
– Вот в том-то и дело: на игры! Эти игры у меня здесь! – И Гиппий выразительно указал на горло. – Удивительное дело, как ты прост, Гиппарх. Ты пируешь с человеком, который льстит тебе, и не хочешь понять, что этот человек один из опаснейших врагов наших.
– Ты опять за старое, брат? Неужели ты и впрямь считаешь Кимона опасным? Это же добродушнейший Малый. Взгляни на его честное, открытое лицо, на эту порой прямо-таки детскую улыбку, которая играет на его губах, на эти смеющиеся глаза...
– Жаль, брат, что к многочисленным твоим талантам Аполлон не прибавил тебе дара ваяния: ты бы изобразил нам Кимона в таком виде, что он ещё при Жизни попал бы в полубоги. Однако, как бы там ни было – берегись и остерегайся его.
– Решительно не понимаю тебя: при чём здесь Кимон?
– Плох тот правитель, который видит всё только своими глазами и слышит только своими ушами.
– Ты узнал что-либо серьёзное?
– В городе и особенно в окрестностях много недовольных. Алкмеониды делают всё, чтобы в четвёртый раз избавить себя от рода Писистратова... Твои похождения и особенно проделки Гегесистрата восстанавливают против нас население. Налоги не уменьшаются. Нужды государства растут. Наша охрана чего-нибудь стоит. Наконец жрецы всех храмов доят нас, как коров. Да мало ли что! И вот, – тут голос Гиппия понизился почти до шёпота, – эти вечные знамения, против которых мы бессильны.
– Твоё суеверие, брат, будет нам ещё источником многих бед. Нельзя же быть таким простаком, чтобы верить в силу каждой приметы.
– Я – сын Писистрата, который всю жизнь свою не был чужд этой веры и ничего не предпринимал помимо воли богов. Ты был ещё юн и глуп, когда мы в первый раз удалились в изгнание и когда отец думал, что все его планы рухнули раз навсегда. Я помню это хорошо: он уже тогда делился со мной, Молоденьким эфебом, своими мыслями. Но увидев вскоре орла с правой стороны, он успокоился и почерпнул в этом знамении силу и бодрость – и Писистрат не ошибся.
– Дело, насколько могу судить я, доходило до ребячества. Даже теперь на стене нашего дворца красуется изображение огромной саранчи. То же насекомое нарисовано на стенах некоторых комнат. Ведь это же смешно.
– Ты не веришь в дурной глаз, отец же наш верил и имел на то полное основание. Саранча предохранит от сглаза, – запальчиво и с тоном глубокого убеждения ответил Гиппий.
– Пусть будет так, – улыбнулся Гиппарх. – Но скажи мне: неужели ты убеждённо, на основании фактов, а не гаданий и примет, считаешь нужным остерегаться Кимона? Не говорит ли в тебе обычное отцовское недоверие? Мне вообще кажется, Гиппий, что ты, так рано ставший помощником отца, никак не можешь свыкнуться с мыслью, что власть наша окончательно упрочена. Ведь борьбы из-за неё было довольно.
– Так слушай же, взрослое дитя: Кимон, сын Стесагора, который был долгое время в изгнании, как враг нашего дома, одержал третью победу на Олимпийских играх. Третью победу подряд, с одними и теми же конями! В первый раз, это было ровно двенадцать лет тому назад, он перед всей собравшейся Элладой уступил первую свою победу сводному брату, Мильтиаду, чтобы прославить его, находившегося тог да далеко от Аттики, в ссылке. Затем, как тебе известно, боги даровали ему вторую победу в Олимпии – и Кимон-Коалем уступил её нашему отцу. За это ему было даровано право вернуться в Афины. Наконец сегодня я узнаю, что его кони в третий раз вышли победителями из состязания. Это произвело ошеломляющее впечатление. Кимона толпа провозгласила чуть ли не богом. Оказанные ему почести превосходят всё, доселе случавшееся у святилища Олимпийского Зевса. Вся Эллада, весь эллинский мир провозгласил сына Стесагора первым человеком, а он, он... нет, ты послушай, что на это ответил он: «Я постараюсь доказать вам, о мужи, что оправдаю, с помощью богов всемилостивых, ваши дорогие слова». Каково?
– Брат, подави в себе голос зависти.
– Не зависти, Гиппарх, а – стыдно промолвить – страха, безотчётного страха. Подумай только, Кимон имеет в Аттике множество приверженцев. Аристогитон и Гармодий его клевреты. Все, недовольные нашими поборами или просто нами, льнут к ним. Это одно гнездо и одна шайка. Припомни главных членов её, и ты убедишься, что мои опасения не напрасны. В воздухе душно, как перед грозой. И гроза уже близко. Под вечер мне донесли, что Кимон вчера ночью тайно дёрнулся в Афины...
– Как вернулся?
– Да, вернулся и – тайно от всех. Значит, он замышляет нечто недоброе. Скоро наступит славное Панафинейское празднество, и твой друг и приятель, Поверь мне, конечно, воспользуется случаем, чтобы показать себя в настоящем виде. Ему это теперь, после тройной победы, будет не трудно. Толпа падка на всё необычайное, и эта толпа, униженно сегодня перед нами пресмыкающаяся, завтра, не задумываясь, бросится и растопчет нас.
Гиппарх вскочил с места.
– Этого не будет, этого не может быть: наша стража, наши наёмные телохранители...
– Именно наёмные, иначе говоря, продажные. Вспомни, как в последнее время дружил Кимон с начальником наших телохранителей...
– Гиппий, ты, быть может, ещё ошибаешься?
– «Быть может!» В этих словах звучит и твоё опасение. Ты видишь, как я был прав, говоря тебе о надвигающейся грозе.
– Что же делать? Что предпринять?
– Вот за этим-то советом я и пришёл к тебе в столь необычный час... К тому же есть ещё одно обстоятельство, которое тебя, вероятно, немного заинтересует: Кимон ухаживает за Арсиноей, сестрой Гармодия, и, – тут едкая улыбка исказила черты Гиппия, – говорят, не без успеха.
Если бы в ту минуту молния ударила в дом, она бы не ошеломила Гиппарха так, как последние слова брата. Несколько мгновений Гиппарх не мог прийти в себя. Наконец, оправившись, он с глухим стоном опустился на скамью и закрыл лицо руками.
Гиппий приблизился к брату и тихо произнёс:
– Ты теперь сам видишь цену личины дружбы. Твой дорогой и славный Кимон просто негодяй. И я приму меры обезопасить нас от него. Я уже завтра, не дожидаясь Панафиней, вышлю его из города. Он будет нам тогда не столь опасен. Без него шайка распадётся или, по крайней мере, окажется не в силах предпринять что-либо серьёзное.
– Негодяй! Негодяй! Мне кажется, этого мало, – раздался теперь голос Гиппарха. – Мало удалить его из Афин. Надо удалить Кимона из Аттики...
– Как же мне сделать это, брат? Не могу же я сослать его в ссылку.
– Его надо... просто... убить!
И глухие рыдания обезумевшего от горя Гиппархи огласили комнату.
– Убить?! А ведь ты, пожалуй, прав. Тут нет иного исхода. Правду сказать, я и сам так думал. Только, как умертвить человека, которому мы оказывали гостеприимство?
– Убить! Убить! Убить! Не мы, так кто-нибудь другой это сделает. Деньги всесильны. Убить!
Утренняя заря ярким пламенем охватила небосклон, и восходившее солнце позлатило своими могучими лучами Акрополь. В рабочей комнате Гиппия светильники, горевшие всю ночь, сами потухли, и сноп яркого света врывался в раскрытое окно, у которого стоял теперь тиран. Он, видимо, весьма напряжённо к чему-то прислушивался. Проснувшийся город шумел у его ног, и Гиппий, казалось, не был в состоянии оторваться от раскрывшейся перед его взором картины, картины дивно-прекрасной, как это светлое летнее утро. Однако он не видел её, хотя лихорадочно горящий взор его и был устремлён вниз, туда, где дорога вела на вершину скалы. Лицо тирана было мертвенно бледно, и временами нервная судорога искажала его. Охватившее его волнение достигло теперь крайнего напряжения. Гиппий должен был ухватиться за спинку кресла, чтобы не упасть: ноги не повиновались ему, тело было совершенно разбито. Ему нередко приходилось не спать целую ночь напролёт, но так волноваться, как сегодня, нет, этого он ещё не испытывал в жизни. Что это была за жизнь, что за жизнь! Сплошная борьба с той минуты, как он себя помнил. Ни одного дня полного, безмятежного покоя! И Гиппий невольно сомкнул веки, и картины одна пестрее другой стали проноситься в его воображении. Много трудов, много лишений, много разочарований! Но нигде не было крови, красно-бурых пятен, тех ужасных пятен, которые жгут хуже и больнее раскалённого железа. И вот теперь, сквозь дымку влажного тумана (да, это слёзы! мелкие, едва видные, но всё-таки настоящие слёзы! и много, много, бесконечно много их!) перед взором сына Писистрата стала вырастать огромная, могучая, ярко-красная стена. Она надвигалась всё ближе и ближе, она пробила туман, она грозила задавить его собой, она покачнулась и разлилась широким, мощным потоком тёплой, нет, – горячей, жгучей человеческой крови.
С диким воплем Гиппий вскочил с кресла. Он не сразу мог опомниться, не сразу понял, что с ним. Ах, да теперь он знает: перед ним стоит его старый раб-привратник, который когда-то, много-много десятков лет тому назад, носил его на руках и играл с ним в саду. Старик нашёл своего господина спящим и, осторожно взяв за руку, разбудил его.
– К тебе, всевластный Гиппий, пришли с докладом и требуют допустить.
Кивком головы тиран дал своё согласие.
Через минуту в комнату вошёл рослый поселянин в рваном плаще. Одного взгляда на этого человека было Гиппию достаточно, чтобы понять, что дело сделано. Он только спросил:
– Где?
– У Пританея, господин... двумя ударами кинжала!
– О том я не спрашиваю. Вот деньги тебе и твоему товарищу и чтобы к полудню вас обоих не было в Аттике. Ступай!








