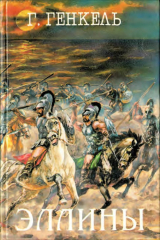
Текст книги "Эллины (Под небом Эллады. Поход Александра)"
Автор книги: Квинт Эппий Арриан
Соавторы: Герман Генкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 44 страниц)

V. ВЗЯТИЕ АКРОПОЛЯ
Из Керамика, одной из красивейших афинских улиц, ведшей мимо древнего храма Тезея и вдоль подошвы Аресова холма к возвышенности Пникса, где обыкновенно происходили народные собрания, вышла огромная толпа народа. С громким криком и невообразимым шумом толпа эта сопровождала большую деревянную повозку, в которую была впряжена пара рослых мулов. Как эти животные, так и восседавшие в повозке Писистрат и его верный раб Хрисолай были совершенно окровавлены. Яркой красной лентой кровавый след на песке обозначал путь, совершённый Писистратом. Голова его была повязана платком, омоченным кровью; левая рука возницы, видно, перебитая тяжёлым молотом в двух местах, бессильно, как плеть, висела на наскоро сделанной перевязи. Народ кричал и волновался всё более и более по мере приближения к Пниксу, где в это время как раз происходило заседание народного собрания.
Вот миновали отлогий холм Ареса, вот пересекли алтарную площадь, вот, наконец, свернули на дорогу, окаймлявшую Пникс с севера. По пути толпа народа, сопровождавшая Писистрата и Хрисолая, быстро росла. Шум, производимый ею, привлёк внимание собравшихся на Пниксе. Все повскакивали с каменных сидений, амфитеатром высившихся над площадкой, где с правой стороны стоял жертвенник богини Деметры, а с левой возвышалась каменная кафедра для ораторов.
Увидев окровавленного Писистрата и тяжело раненого раба его, народное собрание разразилось громкими криками негодования. Граждане уже хотели было ринуться вниз, навстречу толпе, и эпистату (старшине) пританов стоило немалого труда сдержать народ. Произносивший в это время речь архонт Комеас против всякого желания принуждён был сойти с кафедры, не сказав и половины того, чем он намеревался поделиться со слушателями.
Когда Писистрат доехал до Пникса и, сопровождаемый огромной толпой, с трудом передвигая ноги и опираясь на ходу на совершенно бледного Хрисолая, поднялся на площадку, в народном собрании мгновенно воцарилась полнейшая тишина. Кое-как добравшись до кафедры, сын Гиппократа остановился и, едва переведя дух, сказал:
– Сограждане и мужи афинские! Доколе насилие и бесправие будут царить в городе священной Паллады? Вы воочию видите, что сделали злые недруги со мной, верным рабом моим Хрисолаем и моими животными! Я не стану описывать вам всего, как я выехал сегодня поутру в своё поместье у Ликабетта, как на меня из засады набросилась толпа педиэев, вооружённых кольями и дубинами, как очутились мы, я и Хрисолай, безоружные, во власти нежданных врагов и как нам удалось с великим трудом и при содействии всемилостивых небожителей спастись от разъярённой черни. Вы видите наши раны, нашу кровь, видите жалкое состояние полумёртвых мулов И это среди бела дня, на большой дороге: Я явился сюда в таком виде, прося, нет, – требуя возмездия, скорейшего наказания виновных, посягнувших на жизнь не последнего из афинских граждан.
В полном изнеможении Писистрат опустился на землю, а рядом с ним сел близкий к обмороку Хрисолай. Толпа, собравшаяся на Пниксе, страшно заволновалась. Всюду раздались угрожающие крики, проклятия и брань по адресу неизвестных преступников, разбойническим образом посягнувших на жизнь одного из виднейших граждан Аттики. Одни требовали немедленного наказания виновных, другие упрекали власти в медлительности и попустительстве, третьи грозили тут же вооружиться и силой раздавить злодеев. Лишь с огромным трудом эпистату удалось восстановить тишину и порядок. Когда это было сделано и все заняли места вокруг площадки, эпистат обратился к Писистрату с вопросом:
– Кто, думаешь ты, благородный сын Гиппократа, мог осмелиться напасть на тебя при столь странных обстоятельствах? Заметил ли ты кого-либо из нападающих? Знаешь ли ты кого-нибудь из них в лицо?
– В лицо я решительно никого из этих негодяев не знаю, – ответил Писистрат, – но я ни мгновенье не сомневаюсь в том, что это проделка людей Мегакла или Ликурга, паралиев или педиэев. Посуди сам: кому нужна моя жизнь, кто, кроме них, может желать моей гибели? Ни для кого в Афинах не тайна, что Мегакл и Ликург мои заклятые враги. Что я им сделал худого, о том ведают одни лишь боги. Но что они боятся меня и моих диакриев, что им было бы лучше, если бы меня не существовало вовсе, это ведомо всем и каждому. Кому было предпринять гнусное покушение, как не им? Я требую строгого и правого суда над этими разбойниками, не гнушающимися прибегать к столь недостойным средствам, и прибыл на Пникс, чтобы просить защиты у своих сограждан против врагов внутреннего порядка!
Толпа опять заволновалась и зашумела, как расходившееся море. Угрозы, крики и восклицания слились в сплошной рёв. Несколько человек быстро отнесли в сторону потерявшего сознание Хрисолая.
– Смерть изменникам Мегаклу и Ликургу!
– Бейте коварных педиэев и паралиев!
– Отмстим за нашего славного Писистрата!
– Кровь его да будет искуплена!
Между тем Писистрат, видимо несколько оправившись от волнения, собрался с силами и взошёл на кафедру. Сняв окровавленную повязку, он показал присутствующим глубокую рану, зиявшую у него на лбу. Затем, дав утихнуть яростным крикам негодования, которые снова огласили амфитеатр, он сказал:
– Граждане! Я не сомневаюсь, что власти найдут и должным образом накажут виновных. Я предоставляю им дело правосудия. Но у вас, у народного собрания, я молю об одном: защитите меня от повторения подобных посягательств на мою жизнь, оградите от них меня и людей моих! Этого я вправе требовать от вас, мужи афинские. Дайте мне какую-либо стражу, хотя бы небольшую, которая сделала бы мои выезды из дома безопасными. Что это необходимо, вы видите сами, сограждане.
Когда за этими словами воцарилось глубокое молчание, Писистрат ещё раз указал на зиявшую на лбу его рану и воскликнул:
– Смотрите, сограждане, вот награда мне за мою любовь к народу, за мои старания постоянно отстаивать ваши права и ваше благо!
Теперь возбуждение народного собрания достигло апогея. Все вновь повскакивали с мест и множество афинян, бешено потрясая в воздух кулаками, с громким криком ринулось к кафедре, готовое ценой собственной жизни защитить Писистрата.
А тот стоял на месте, гордо выпрямившись во весь свой гигантский рост, и тонкая, едва уловимая улыбка скользнула по краям его губ. Когда же Писистрат увидел со своего возвышения, как, пользуясь общим замешательством и сутолокой, несколько знатнейших и богатейших евпатридов стало тайком уходить с Пникса, в глазах его сверкнул радостный огонёк. Одну секунду сын Гиппократа думал обратить на это позорное бегство внимание народного собрания, но воздержался. Он предпочёл сойти с кафедры и смешаться с толпой.
В это время среди всеобщего шума и гама, к кафедре пробралась согбенная фигура белого, как лунь, старца. То был Солон, сын Эксекестида. При его появлении волнение сразу улеглось, и старик обратился к собранию с речью, в которой требовал внимательно изучить случай с Писистратом раньше, чем постановить что-либо в этом тёмном и запутанном деле. Мнение Солона было таково: не следует слишком доверять сыну Гиппократа, известному своим стремлением к захвату власти, нельзя опрометчиво помогать и способствовать человеку, явно стремящемуся к тирании и открыто ставшему во главе хорошо вооружённых диакриев.
– Вы всегда восторгаетесь ласковыми речами этого человека, – закончил Солон своё обращение к народу, – но при этом совершенно упускаете из вида его скрытые намерения. Каждый из вас беззаботно идёт за хитрой лисой. Можно подумать, что вы слепы и рассудок ваш помрачился.
Обернувшись в сторону Писистрата, лицо которого покрылось от гнева смертельной бледностью, Солон сказал:
– Ты же, сын Гиппократа, плохо разыгрываешь роль гомеровского Улисса: хитроумный герой изранил самого себя, чтобы ввести в заблуждение врагов, ты же сделал это с целью обмануть своих сограждан.
Писистрат только что хотел резко возразить на это недвусмысленное обвинение, как Солона сменил на кафедре безусый юноша, диакрий Аристион, и заявил:
– Старости нужен покой и отдых. Оскорбление, брошенное сыном Эксекестида в лицо Писистрату, было бы непростительно, если бы его позволил себе не Солон, а кто-либо иной. Но вы, сограждане, сами понимаете всю нелепость этого обвинения, подсказанного чувством зависти: Солону трудно примириться с мыслью, что уже не он – первый гражданин Аттики, как было тридцать лет тому назад, и что приходится власть уступать другим, кто помоложе и посильнее его и телом и духом. Я предлагаю следующую меру, мужи афинские: пусть собрание постановит сейчас же, под свежим впечатлением всего слышанного и виденного, назначить Писистрату стражу из пятидесяти вооружённых хотя бы дубинами или копьями телохранителей, дабы сын Гиппократа был избавлен от опасности потерять жизнь на улицах священных Афин. Кому по сердцу моё предложение, тот пусть поднимет руку!
Немедленно огромное множество рук поднялось к небу. Отовсюду раздались крики:
– Стражу! Стражу! Телохранителей нашему Писистрату!
Аристион самодовольно улыбнулся и, обратясь в сторону пританов, заявил:
– Ты видишь, эпистат, насколько ясно выражается воля народа. Теперь твоё дело привести её в исполнение. Я же заявляю, что сам охотно первый вступлю в ряды телохранителей Писистрата.
– И я! И мы! – раздалось со всех сторон.
Снова несколько евпатридов поспешило покинуть Пникс. Между ними были и архонт-эпоним Комеас, и Солон. Старик, уходя, сказал так громко, что многие могли это расслышать:
– Я мудрее тех, которые не видят, к чему всё это клонится, и мужественнее тех, кто, хотя и видят, в чём дело, однако робеют открыто восстать против тирании, готовящейся в Афинах.
Тем временем народ на Пниксе продолжал кричать и волноваться и, подстрекаемый жгучими речами Аристиона и самого Писистрата, не только согласился дать ему стражу, но даже в точности не определил её численности.
Солнце клонилось к западу, когда собрание, на этот раз необычайно многолюдное и шумное, стало расходиться по домам. Довольнее всех результатами дня был Писистрат, которому сам народ отдался в руки и который был теперь ближе, чем когда-либо. К осуществлению давно лелеянных заветных мечтаний.
* * *
Ночной покров опустился на землю. В Афинах почти все уже спали и лишь изредка где-нибудь вспыхивал факел или мерцал огонёк: то запоздалый гражданин спешно возвращался домой с весёлой пирушки или с дружеской беседы, и рабы освещали ему путь на тёмных улицах уже погрузившегося в сон города.
Ночь была безлунная. Большие тучи плыли по небу, часто застилая тускло горевшие звёзды.
По одной из улиц, прилегавших к мрачной громаде Акрополя, тихо и без факелов двигался довольно значительный отряд вооружённых людей. Это не были настоящие воины, но тем не менее в руках у всех были копья и щиты, а с правой стороны у каждого висел короткий меч-тесак. Во главе отряда возвышалась рослая фигура Писистрата в шлеме и панцире. Сын Гиппократа приглушённо отдавал приказания отряду идти как можно тише, особенно когда он приблизился к дороге, ведшей на вершину Акрополя. Миновав древние капища Пана и Аполлона, люди стали бесшумно взбираться на холм.
Наверху, вблизи храма Паллады-Афины, находилась небольшая стража, сидевшая у костра и мирно беседовавшая о разных разностях. Время было тихое, нападения ждать было решительно неоткуда, а потому начальник караула не счёл необходимым выставить даже часовых. Лишь когда около самого огня раздался топот ног, смешанный с бряцанием оружия, стража вскочила с мест и бросилась к лестнице. В то же мгновение раздался голос Писистрата:
– Сдавайтесь или смерть немедленно поразит вас! Кто любит отчизну и верен ей, тот не поднимет оружия на Писистрата.
Появление вооружённых телохранителей последнего было так неожиданно, приказание Писистрата звучало настолько решительно, наконец численность его отряда была так велика в сравнении с караулом, занимавшим Акрополь, что о сопротивлении нечего было и думать: через десять минут караульные были обезоружены, и начальник их, совсем молодой ещё человек, мирно беседовал у костра с Писистратом. А он распорядился занять своими людьми все здания и выходы из Акрополя и, под страхом смерти, запретил кому бы то ни было спускаться вниз, в город. Старшему сыну своему, Гиппию, человеку энергичному и мужественному, он поручил охрану храма Афины-Паллады, а младшему, Гиппарху, велел занять Эрехфейон, где хранилась государственная казна. Храмовыe служители и немногие жрецы, жившие вблизи капищ на Акрополе, были арестованы, некоторые связаны.
Сделав последние распоряжения, Писистрат вернулся к сторожевому костру и, собрав своих телохранителей, а также арестованную городскую стражу, обратился к ним со следующей речью:
– Воины и мужи! Первая попытка водворить, наконец, порядок в священном граде девственной Паллады, по-видимому, должна увенчаться успехом: в наших руках Акрополь, а с ним сердце Аттики. Боги. Очевидно, споспешествуют нашему начинанию и с их помощью мы установим мир и тишину. Довольно издевались над нами власти, довольно насильничали заносчивые паралии и корыстные педиэи! Отныне жители Аттики будут равны между собой и все в одинаковой мере смогут наслаждаться плодами работы рук своих. Понятно, граждане неохотно примирятся с неизбежной теперь переменой правления. Между ними найдутся, несомненно, недовольные и даже, быть может, смельчаки, которые пожелают вырвать с орудием в руках такой ценой доставшуюся нам власть. Но против силы мы выставим силу. Знайте, что ещё до рассвета сюда должны явиться к нам на подкрепление нашего отряда огромные толпы бесстрашных горцев-диакриев. Под начальством моего верного товарища и друга, Кимона, сына Мильтиада, они приближаются теперь к Афинам. С их помощью мы утвердимся здесь и сломим тех непокорных, которые вздумали бы оспаривать у нас право вернуть порядок в отечестве и прекратить вечные неурядицы и смуты. А теперь, друзья, расположитесь на отдых в сознании свято исполненного перед отечеством долга и с надеждой, что с завтрашнего дня наступит для Афин пора нового благополучия и благоденствия. Перед нами ещё добрая половина ночи, и ею вы должны воспользоваться, так как утром, быть может, придётся силой оружия отстаивать занятую позицию. Раньше, чем явятся к городу диакрии, нам нужно будет подумать о том, чтобы обезоружить наших строптивых сограждан. С этой целью сын мой Гиппий на заре двинется в город во главе отборного отряда, который ему уже дан. Ой же откроет Северные ворота и впустит в Афины вооружённых диакриев. Итак, на покой!
Молча выслушали люди Писистрата эту речь и не ответили на неё обычными возгласами, отлично понимая, что шум и крики могли бы разбудить покоившихся глубоким сном граждан и поднять тревогу. Через полчаса на Акрополе воцарились покой и тишина, нарушаемые лишь изредка бряцанием оружия мирно расхаживавших на своих постах часовых. Писистрат вовсе не ложился в эту ночь. То здесь, то там появлялась его крупная фигура; он проверял часовых и, когда на востоке, наконец занялась долгожданная заря, пристально всматривался в даль, с нетерпением ожидая верных диакриев и с ними окончательного торжества своей мечты.
В Афинах царило сильное смятение. С раннего утра на улицах города показался отряд хорошо вооружённых людей, во главе которых находился Гиппий, старший сын Писистрата. Отряд этот не причинял никому ни малейшего вреда, а только властно требовал у граждан выдачи оружия. Весть о занятии Акрополя Писистратом с быстротой молнии облетела город. Когда же афиняне узнали, что на заре в город вошла огромная толпа прекрасно вооружённых диакриев под предводительством испытанного в боях Кимона, сына Мильтиада, всем стало ясно, что в Афинах воцарилась тирания и что борьба с ней совершенно тщетна: приверженцев Писистрата насчитывалось в Аттике так много, что о сопротивлении нечего было и думать.
При первом известии о совершившемся, Солон, сын Эксекестида, невзирая на свои восемьдесят с лишним лет, быстро вооружился и с чисто юношеской отвагой устремился на Пникс. Там уже были собраны именитейшие граждане. Несмотря на то, что в городе разнеслась весть о позорном бегстве Мегакла и Ликурга, старик взошёл на трибуну и стал горячо уговаривать граждан сопротивляться до последней капли крови введению тирании. Голос его, слабый от старости, окреп, как в былые дни, и взоры старца метали молнии. Выбранив собравшихся за нерешительность и робость, Солон в сердцах воскликнул:
– Прежде вам было легче подавить тиранию в зародыше: теперь вас ждёт ещё более славный подвиг – искоренить возникшую и уже сильную тиранию!
Однако никто не слушал старца: все в смятении требовали признать случившееся и примириться с Ким. Видя полную бесполезность своих усилий, Солон Махнул рукой и удалился с Пникса. Подойдя к своему дому, он снял доспехи и положил их перед входом со словами:
– Я, по силе возможности, старался защитить отечество и оградить незыблемость законов. Моё дело сделано.
Кто-то из присутствовавших при этом граждан заметь.
– Как это ты, мудрый сын Эксекестида, не боишься разоружиться и остаёшься, при таких условиях, в Афинах? Кто и что оградит тебя от гнева Писистрата?
– Мои лета! – спокойно ответил Солон и невозмутимо удалился в дом...
Когда солнце окунулось в пурпурные воды западного моря и быстро сгустившиеся сумерки возвестили приближение ночи, афиняне могли сказать, что наступил конец их свободы. Акрополь и весь город были во власти тирана, в тот же день возвестившего аттическому народу новую эру. Он поклялся в храме вседержительницы Афины-Паллады отныне жить исключительно для блага своей родины, обещал народу таки новые условия жизни, при которых должно было, по его словам, наступить всеобщее благоденствие, и дал торжественный обет установить мир и тишину в отечестве, так долго стонавшем под гнётом раздиравших его внутренних распрей. По словам Писистрата, тирания должна была привести Аттику к желанной свободе.

VI. СОЮЗНИКИ
На море было совершенно тихо. Ни малейшего ветерка не замечалось уже в продолжение нескольких часов, и поверхность воды была гладко-зеркальной. Солнце немилосердно жгло. В его горячих лучах на волнах весело играло и резвилось множество дельфинов. Длинными вереницами тянулись они за грациозной триремой, плавно направлявшейся по Сароническому заливу от берегов Аттики к Мегариде. Трирема уже успела миновать скалистый и тем не менее покрытый роскошной растительностью остров Саламин и теперь неспеша подвигалась к Нисее, гавани города Мегары. Судно шло так тихо, будто и оно изнывало от сильного зноя, накалившего и воздух, и волны морские, и окрестные крутые берега. Паруса на триреме были убраны, и лишь мерный всплеск трёх рядов длинных вёсел, да монотонное постукивание молотком помощника кормчего, этим постукиванием регулировавшего движение вёсел рабами, показывали, что на почти застывшем на месте корабле есть люди.
Между тем на триреме их было очень много. Чтобы убедиться в этом, нужно было только взглянуть на верхнюю палубу, где под обширным полотняным тентом сидело на складных стульях или лежало на широких мягких ложах внушительное количество людей. Центральной фигурой здесь был Алкмеонид Мегакл, нам уже знакомый вождь аттических паралиев. Рядом с ним сидела его жена, Агариста, дочь мегарского тирана Клисфена. Несколько поодаль от них расположился на широкой скамье, покрытой роскошной тигровой шкурой, другой именитый афинский гражданин, Ликург, сын Аристолаида, глава аттических пелиэев. В некотором отдалении от них группа афинских фебов окружала некрасивую и уже немолодую Кесиру, дочь Мегакла и Агаристы, известную за столь же отчаянную кокетку, сколь и богатую невесту. Две Ливийские, чёрные, как уголь, рабыни огромными египетскими опахалами из белоснежных страусовых перьев обмахивали эту жизнерадостную девицу, томно развалившуюся в золочёном кресле. На глупые шутки и Пошлые остроты юношей Кесира отвечала задорным, чувственным смехом. По всему видно было, что эта девушка в одинаковой мере неразвита умственно и Испорчена нравственно. Она этого, впрочем, и не скрывала, с циничной откровенностью заявляя, что ум и сердце с избытком могут быть заменены огромным состоянием её отца и ещё большими богатствами дедушки, мегарского тирана Клисфена, единственной наследницей которых являлась Кесира.
Тем временем лица, окружавшие Мегакла и его жену, были далеки от шуток и острот. Вполне естественно, что сейчас единственной темой их разговора был переворот, столь смело задуманный и так ловко приведённый в исполнение Писистратом, вождём диакриев. Решительный образ действий сына Гиппократа принудил всех их удалиться в добровольное изгнание, искать спасения в поспешном бегстве.
– Я так и знал, – сказал Мегакл, – что хитроумный Писистрат всех нас обморочит своим внезапным появлением в народном собрании, когда он через подставное лицо потребовал себе вооружённую стражу. Никто на него не нападал, никто его не трогал; вся история о ранах, якобы нанесённых ему и рабу его педиэями, гнусная ложь.
– Да, но как ловко придуманная! – заметил, хихикнув, Ликург, сын Аристолаида, и подвинулся ближе к разговаривавшим.
– Ты, не скроешь, Ликург, что сам ты не прочь был неоднократно отделаться от Писистрата при помощи хотя бы наёмных убийц?
– Да хранят меня боги от такого святотатства! Что ты, что ты, Мегакл!
– Со мной тебе нечего хитрить, старый плут! – Насмешливо заметил Мегакл. – Теперь дело прошлое: не мы ли дважды набирали с тобой самых отчаянных из моих паралиев и твоих педиэев для внезапного нападения на Писистрата?
– Однако он оказался прозорливее нас, – ответил Ликург. – Теперь он смеётся над нами, а мы от него удираем. Кстати, скажи, пожалуйста, зачем я еду с тобой? Что ты ищешь убежища у тестя в Мегаре, это вполне понятно. Но зачем ты меня подбил следовать за тобой, этого я решительно не постигаю.
– Ум хорош, а два лучше, почтенный согражданин мой. В Мегаре мы скоро найдём поддержку у Клисфена, если явимся к нему не как просители, а как союзники, предлагающие ему совместный образ действий против Писистрата, иначе говоря, против Аттики, этого исконного врага Мегары. Клисфен охотнее даст нам войско, если будет знать, что ему придётся иметь дело с одними аттическими диакриями, а не с педиэями и диакриями вместе.
– Нельзя ли было бы перетащить на нашу сторону и Солона, этого заклятого врага тирании?
– Ты знаешь взгляды сына Эксекестида: навряд ли он соединится с одним тираном, чтобы свергнуть другого. Кроме того, имя этого дряхлого старца уже утратило в народе большую часть своего былого обаяния. Нет, этот план не годится. Но зато у меня сегодня ночью созрела совершенно другая мысль. Вы, друзья, однако, простите, если я до поры до времени не поделюсь ею с вами. Мне кажется, я нашёл средство обуздать афинского тирана. Впрочем – об этом в другой раз.
Мегакл вскользь взглянул на жену: та слабо улыбнулась ему в ответ, видимо, уже посвящённая в расчёты своего прозорливого мужа.
– Теперь дело обстоит таким образом, – снова заговорил Мегакл, – через несколько часов мы будем в Мегариде, в полной безопасности от Писистрата. Впрочем, я не думаю, чтобы нам сейчас грозила погоня с его стороны: ему не до этого, и он чрезвычайно рад, что отделался от нас. Тем временем мы попытаемся склонить Клисфена к войне с узурпатором. Если это не удастся – всегда надо быть готовым к наихудшему – мы постепенно соберём собственное войско и самостоятельно двинемся на Писистрата. Там, где нельзя будет проложить путь силой, мы это сделаем при помощи золота. Слава богам, я ещё достаточно богат для того, чтобы справиться не с одним Писистратом. В трюме этой триремы, в кованых сундуках, найдётся довольно средств, чтобы купить всех диакриев вместе с их славным вождём. Да и ты, друг Ликург, кажется мне, покинул Афины не совсем нищим?
– Нет, друг, я не могу назваться богачом рядом с тобой, – уклончиво отвечал спрошенный, – впрочем, и я с голода навряд ли умру
– Так вот, видишь ли, почтеннейший, значит, дело каше не совсем плохо. Плохо только то, что мы должны теперь спасаться бегством из отечества, вместо того чтобы добровольно уйти оттуда в своё время, когда всё предвещало близкую бурю.
– Сделанного не изменишь, – лаконично заметил Ликург и пожал плечами. – Наше время ещё не ушло, и мы, с помощью богов, вернём утраченное. Однако смотрите, друзья: кормчий велит ставить паруса, и я ясно чувствую, что поднялся попутный ветерок.
И действительно, с юго-востока потянуло прохладой. Через каких-нибудь четверть часа трирема на всех парусах быстро помчалась вперёд, к едва синевшей на дальнем западе полоске земли. Там была гавань Нисея, цель этого морского путешествия, которую, таким образом, путешественники могли достигнуть гораздо раньше, чем предполагалось вначале.
Как раз в это время на палубе появился главный раб Мегакла, старый лидиец, и заявил, что обед готов и подан. Всё общество с облегчением покинуло свои Места и шумной толпой направилось вниз, на вторую палубу, где Мегакл предложил гостям столь же обильную, сколь изысканную трапезу.
Надежды Мегакла на поддержку со стороны тестя, мегарского тирана Клисфена, оправдались далеко не в той степени, как он ожидал. Старик был не прочь объявить войну Афинам, но ставил при этом исключительным условием смещение Писистрата и захват тирании им самим, Клисфеном. Ни убеждения зятя, ни мольбы и просьбы дочери не могли побудить его изменить это решение, явно шедшее вразрез со всеми намерениями и планами Мегакла и Ликурга.
Беглецы нашли, впрочем, чрезвычайно радушный приём при дворе мегарского тирана. Клисфен не только не тяготился многолюдным обществом, столь нежданно нагрянувшим к нему, но, напротив, был искренно рад тому оживлению, которое внесли весёлые и жизнерадостные афиняне в обыкновенно пасмурную и скучную Мегару. Роскошные пиры сменялись блестящими празднествами в честь дорогих гостей, и шумному веселью не было конца, тем более что Мегакл не скупился на деньги и охотно тратил на это большие суммы в тайной надежде, что ему в конце концов удастся сломить упорство тестя и принудить его оказать нужную поддержку мегарскими войсками. Однако Клисфен по-прежнему не поддавался на эту уловку и продолжал упрямо стоять на своём. В этом его ещё укрепляли слухи, упорно гласившие, что после того, как первый пыл афинян остыл и диакрии увидели, что одного факта провозглашения Писистрата тираном недостаточно, чтобы сразу и круто изменить в Аттике все прежние имущественные отношения, народ афинский стал заметно охладевать к вчерашнему кумиру, сыну Гиппократа. Ничто не было в состоянии внушить к нему доверие афинской черни, вскоре понявшей, что с тиранией Писистрата отнюдь не воцарился на земле «золотой век Кроноса».
Этим обстоятельством воспользовался пронырливый и дальновидный Ликург, сын Аристолаида. Прогостив при дворе Клисфена около года и видя, что там всё равно ничего не добьёшься, он в один прекрасный день заявил Мегаклу, что задумал вернуться в Аттику. Известие это как громом поразило Алкмеонида. Он инстинктивно чувствовал, что отъезд Ликурга разрушит все его заветные мечты о свержении тирана, и понимал, что власть навсегда ускользает из его собственных рук. После продолжительного и бурного объяснения с Ликургом Мегакл добился отсрочки его отъезда. Он воспользовался этим временем, чтобы разослать своих агентов по Аттике и подготовить новое восстание паралиев и педиэев против Писистрата. Усилия Мегакла увенчались некоторым успехом, и весной следующего года оба союзника во главе отборного наёмного войска, в рядах которого были не только мегаряне, но и мессенцы, локрийцы и аргосцы, вторглись в Аттику, где их уже ожидали организованные отряды паралиев и отчасти педиэев, требовавших отмены тирании и восстановления прежнего, досолоновского режима.
Обаяние золота Мегакла оказалось так велико, что при одном известии о приближении рати союзников к Афинам огромные толпы граждан, так или иначе недовольных настоящим положением дел, устремились навстречу <освободителям», чтобы немедленно примкнуть к ним. Замечательно, что в числе возмутившихся против Писистрата было немало диакриев. Эти малообразованные, полудикие горцы никак не хотели понять, что вождь их, сын Гиппократа, став при их помощи афинским тираном, не мог сразу восстановить в стране спокойствие и требовал времени и доверия для проведения обещанных реформ в жизнь. Народ волновался, тяготился неопределённостью дел и требовал скорейшего удовлетворения своих желаний, клонившихся главным образом к переделу земли и освобождению от податей.
Положение Писистрата оказалось настолько затруднительным, что он решил отказаться от власти и вернуть её народу, предчувствуя, однако, что это будет уступкой лишь временной и что сами афиняне впоследствии призовут его обратно. Поэтому, когда соединённые войска Мегакла и Ликурга подошли к Афинам, они не только не встретили ни малейшего сопротивления, но нашли ворота города открытыми. Без боя вступили союзники в Акрополь, который был пуст: Писистрат с сыновьями и отрядом преданных диакриев добровольно удалился в изгнание. В письме, переданном Мегаклу одним из жрецов храма Паллады и адресованном на имя союзников, Писистрат писал: «Радуйтесь, более счастливые соперники мои! Не желая Междоусобной борьбы, не будучи в силах проливать кровь ни в чём не повинных сограждан, я уступаю вам своё место без боя и удаляюсь со всей семьёй в добровольное изгнание. Об одном молю и заклинаю Вас именем небожителей: восстановите порядки, бывшие при мудром Солоне, и руководствуйтесь в своих отношениях к родине тем же чувством беспредельной Любви к ней, которое всегда пронизало и будет пронизать меня, пока я жив».
В тот же день экстренное народное собрание, руководимое Мегаклом и Ликургом, постановило определить срок изгнания Писистрата из Афин в пять лет.
Всё это произошло весной 558 года до Р. Хр., через несколько месяцев после смерти Солона, сына Эксе-Кестида, лучшего афинского гражданина и мудрейшего руководителя Аттики.
В доме Алкмеонида Мегакла царило большое волнение: за вечерней трапезой, при большом количестве приглашённых гостей, среди которых находился престарелый Гиппоклид, представитель родовитейшей аттической знати, произошла крупная ссора между Мегаклом и Ликургом. Рабы, прислуживавшие за столом, тихо шушукались по углам и злорадно рассказывали друг другу, как внезапно за вином, когда ужин уже окончился и все приступили к попойке, Ликург назвал Мегакла в лицо изменником отечества. Тотчас все гости повскакивали с мест и хотели удалиться, Алкмеонид же Мегакл, бледный, как смерть, поднялся во весь свой могучий рост и крикнул громовым голосом:








