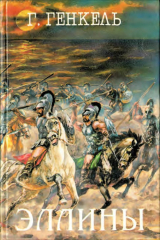
Текст книги "Эллины (Под небом Эллады. Поход Александра)"
Автор книги: Квинт Эппий Арриан
Соавторы: Герман Генкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 44 страниц)

III. ЗАГОВОРЩИКИ
В роскошном доме гефирийца Гармодия царило большое оживление. Ещё с утра многочисленная челядь юного хозяина убрала свежими гирляндами стройные колонны так называемого андрона, или главной мужской залы и обвила плющом невысокий круглый алтарь богини Гестии, покровительницы домашнего очага и хозяйственности. Около каждой двери, которых в этом обширном помещении было множество, высилось по два бронзовых светильника на тонких медных ножках, осыпанных едва распустившимися розами. Черноглазые, юркие мальчики и несколько молодых рабынь шныряли взад и вперёд, принося из сада всё новые и новые корзины этих благородных цветов, которыми уже густо были усеяны огромный стол, возвышавшийся вдоль левой стены, и мягкие ложа около него. Другие невольницы спешили уставить эту роскошную трапезу множеством блюд с изящно разложенными на них плодами и сластями. Несколько рослых рабов-азиатов только что притащили в залу пару огромных козьих мехов с вином. Амфоры, кубки и чаши уже давно были здесь, равно как целый ряд драгоценных серебряных кратеров, в которых виночерпий должен был во время пира смешивать вино с водой. В стороне, спрятанный за одной из колонн, стоял огромный чан, предназначенный для льда.
В зале было шумно и весело. Около стола стояла высокая смуглая девушка необычайной красоты. Хотя её наряд почти ничем не отличался от одежды окружавших её невольниц, но та величавая манера, с которой она отдавала приказание за приказанием, та гордая осанка, с которой она распоряжалась всем ходом приготовлений к пиру, тот повелительный взгляд, которым она то и дело окидывала залу, внимательно следя за всем в ней происходившим, всё это сразу обнаруживало в ней хозяйку дома. Правда, хотя строгие, чисто классические черты её прекрасного лица, обрамлённого несколькими толстыми, спущенными на грудь чёрными, как вороново крыло, косами и делали эту девушку похожей на небожительницу, однако в её больших тёмно-синих глазах, в мягком очертании её тонких губ и маленького рта светилось столько доброты и ласки, что явное усердие рабынь, невольников и мальчиков-прислужников, та любовная поспешность и хозяйственная заботливость, с которой здесь все делали своё дело, то нескрываемое расположение, с которым относилась к ней челядь, убедительно свидетельствовали о неотразимом обаянии Арсинои, сестры гефирийца Гармодия.
Её глубоко, искренно любили все в этом доме, где она после смерти матери стала полновластной хозяйкой Доброта Арсинои славилась далеко за пределами Афин в такой же мере, как её необычайная красота, и все в один голос называли первым в городе счастливцем молодого Кимона-Коалема, сына Стесагора, которому предстояло – это не было уже тайной – в ближайшем будущем назвать прекрасную Арсиною своей женой. Скоро, скоро, после великих Панафиней, этого светлого празднества Паллады-Афины, должна была состояться свадьба молодых людей.
Сегодня же пир предназначался в честь вернувшегося в третий раз победителем с Олимпийских игр любимца богов, Кимона. Правда, никто из домашних, кроме Арсинои и её старой невольницы-няни, ещё не видел ни вчера, ни сегодня сына Стесагора, но весть об его тайном прибытии уже успела дойти до многих жителей города и в том числе до челяди дома Гармодия. Сегодняшний вечер должен был окончательно решить судьбу Арсинои: после заката солнца, в конце пиршества, её брат намеревался открыто объявить званым гостям своим о предстоящем в дом радостном событии. К тому же имелось в виду отпраздновать и другую помолвку: ближайший друг и товарищ детства Гармодия, благородный гефириец Аристогитон, связанный с ним узами давнишней, глубокой любви, собирался жениться на златокудрой красавице Леене, которая давно восхищала афинскую молодёжь как своей очаровательной грацией, так и необузданной, зажигательной весёлостью. Но центром вечернего торжества всё-таки должен был стать Кимон: его славная победа в Олимпии сама по себе являлась достаточным поводом к устройству роскошнейшего пира. Вот чем объяснялось обилие роз и лавров, которыми рабыни теперь усыпали весь пол обширной залы. У главного входа в неё два невольника устанавливали огромные кадки с украшенными множеством пышных цветом могучими олеандрами.
День клонился к вечеру, и косые лучи отходившего ко сну солнца уже не достигали углов и пола залы. Лишь верхушки колонн с их узорными капителями и откосы видной над ними черепичной крыши огромного дома горели, как червонное золото. Пора было подумать о зажжении светильников, так как прибытия гостей могло случиться каждую минуту.
Арсиноя поэтому торопила прислугу, отдавая последние распоряжения, и заботливым оком окидывали роскошно убранную трапезу и всю пиршественную залу. Через минуту-другую девушке, по установленному обычаю, следовало уйти отсюда на женскую половину дома и передать бразды правления брату Гармодию. И хотя всё было в должном порядке, но ей не хотелось уходить, так и тянуло её поправить то или другое на столе, особенно в средней его части, напротив которой должен был возлечь ненаглядный её Кимон, и где блюда были убраны особенно красивыми и пышными лавровыми листьями. Арсиноя живо представляла себе всех соучастников пира: вот тут место благородного, но несколько надменно-холодного Аристогитона; рядом с ним возляжет горячо любимый брат её, Гармодий; далее поместятся шутник и балагур Аристокл, остроумно-едкий Каллиник, величаво-спокойный Ксантипп и маленький, вечно юркий Критий, сын Дропида. Но здесь, в середине, на почётном месте, где яства и плоды особенно обильны, где разбросаны лучшие, прекраснейшие розы, где она в драгоценной золотой финикийской чаше поставила огромный, лично ею собранный букет пышных белоснежных лилий, тут возляжет её Кимон, прекрасный, как Аполлон, могучий, как Арес. Арсиноя не могла оторвать взор от этого букета, и воспоминания о минувшей ночи, когда Кимон тайно свиделся с ней в старом саду за домом, когда он ей так страстно клялся в вечной любви, когда он её столь бурно прижимал к громко стучавшему сердцу, горячей волной нахлынули на неё.
Однако... пора уходить. Здесь ей делать пока больше нечего.
На улице у входа в дом послышались громкие голоса. Арсиноя поспешила удалиться на женскую половину. Вместе с ней ушли и рабыни.
Тем временем гости шумно входили в дом. Их весёлые молодые голоса сразу оживили опустевшую залу. Впереди всех шёл невысокого роста и, несмотря на изрядную полноту, очень подвижный юноша, сын Дропида, Критий, хлопотун и душа всякой весёлой компании.
– Где же хозяин? Эй, Гармодий, да куда ты девался? Клянусь всеми созвездиями, ведь это же потеха: гости собрались, а хозяина нет. Эй, Гармодий, Гармодий, Гар-мо-дий! Да откликнись же!
– Перестань дурачиться, Критий, – сказал кто-то из гостей. – Что ты затеял! Разораться на весь дом!
– Нужно, друзья, поискать пропавшего хозяина, – предложил Аристокл. – Мы, благодарение богам, здесь все свои люди, и нам нетрудно будет найти Гармодия. Итак, за дело!
– Нет постой; это вовсе не дело, что ты предлагаешь, – заметил рослый, изящный эфеб с миртовым венком на голове. – Уж если кому тут хозяйничать, так, пожалуй, только мне. Эй, Андрокл, поди-ка сюда!
К говорившему поспешно приблизился один из рабов, стоявших у входа в почтительном отдалении от гостей.
– Не скажешь ли ты нам, где искать твоего господина?
– Благородный Аристогитон, я не сумею тебе дать ответ. Необычное отсутствие нашего хозяина мне кажется странным. Я сейчас же разошлю людей поискать его. В доме его нет, иначе он вышел бы навстречу званым гостям.
– Но ведь он никуда не отлучался с утра?
– На это тебе ничего не сумею ответить, господин. Мы все в доме были заняты приготовлениями к сегодняшнему пиру, а потому могли и не заметить ухода нашего доброго Гармодия.
– Много ты, друг, болтаешь, – вмешался в дело кудрявый Ксантипп, дотоле спокойно созерцавший убранство залы. – Пойди и спроси привратника.
Раб поспешил исполнить приказание. Балагур Аристокл успел обойти тем временем трапезу и внимательно осмотреть весь стол. Теперь он вернулся к друзьям и сказал:
– Клянусь быстроногой ланью Артемиды, Гармодий нам просто готовит сюрприз. Взгляните-ка на эту вот прелесть, – и он указал на роскошные лилии в драгоценном финикийском сосуде. – Где это видано, чтобы такие цветы подавались олимпионику! Нет, тут что-то готовится...
Не успел Аристокл окончить начатую фразу, как в залу вбежал, весь в пыли и с растрёпанными волосами, юноша. По удивительному сходству с Арсиноей его тотчас можно было признать её братом. Несмотря на быстрый бег, лицо Гармодия было бледно и сильнейшее волнение, смешанное с гневом, искажало его.
– Горе, горе, друзья! Кимон – убит!
Гармодий бросился на одно из ближайших кресел и закрыл лицо руками. .
Если бы молния ударила сейчас в дом, это не ошеломило бы собравшихся так, как то, что сейчас сообщил своим друзьям Гармодий. Со всех сторон посыпались вопросы. Но Гармодий, подавленный отчаянием, знал о случившемся почти так же мало, как знали теперь его друзья. Оказалось, что Кимона нашли на рассвете заколотым вблизи здания Пританея Ничто не указывало на цель и смысл этого нелепого злодеяния. Кому нужна была эта смерть? О разбое и грабеже не могло быть и речи, так как драгоценнейший перстень, который покойный всегда носил на левой руке, оказался нетронутым. Две глубоких раны, нанесённых ему в спину, очевидно, мечом или большим кинжалом, свидетельствовали лишь о том, что убийство было совершено из-за угла, внезапно, без всякой борьбы. Когда люди нашли уже успевший окоченеть труп молодого человека, то не сразу признали в убитом Кимона, сына Стесагора. Почти никто из граждан не знал об его возвращении из Олимпии, и горестная весть о внезапной смерти славного победителя на играх ещё не успела распространиться по Афинам. Товарищи Гармодия позже всех узнали о ней, так как весь день провели вместе за городом, в виноградниках, откуда и явились на пир. Сам он случайно узнал о несчастье, потому что незадолго до заката солнца направился к дому своего друга, чтобы лично привести Кимона на пир, устраиваемый в честь его славного возвращения из Олимпии.
Не скоро улеглось волнение, вызванное несчастным событием. Все кричали, в замешательстве бегали по зале, высказывали различные догадки, давали всевозможные советы. Один только Аристогитон, молча севший с самого начала в угол чертога, не вмешивался в общую сутолоку и, видимо, напряжённо думал о чём-то, затем он встал, медленно подошёл к Гармодию и, крепко обняв друга, шепнул ему что-то на ухо.
– Да, верно, я и не подумал! – воскликнул тот. – Верно, верно. – Выпрямившись вдруг во весь свой исполинский рост и обратившись к тут же стоявшим в смущении нескольким невольникам, он сказал повелительно:
– Если кто из вас хоть одним намёком обмолвится. Хотя бы здесь в доме, о том, что вы сейчас слышали, Того я собственноручно заколю ножом. Мёртвого уже не вернуть к жизни! Но чтобы живой человек пострадал, этого я не допущу. Слышите ли, рабы? Ни одного звука! Чтобы Арсиноя сегодня ни единым намёком не узнала о случившемся. Я сам подготовлю её к роковому известию. А теперь выйдите отсюда все. Мы останемся одни.
Рабы молча удалились из залы.
– А затем, друзья, – обратился Гармодий к гостям своим, – я прошу вас возлечь за трапезу и пусть ест и пьёт каждый, если хочет и может. Я имею сообщить вам нечто важное, но никто, кроме нас, не должен жать, что здесь сейчас произойдёт. Вот почему я удалил рабов.
Изумлённо переглянулись гости. Некоторые хотели возразить против приглашения возлечь на ложах около стола. В такую минуту участие в пире представлялось каждому из них кощунственным. Но Гармодий повторил своё приглашение столь властно, горевший гневом взор его был так страшен, голос его звучал столь грозно, что никто не посмел ослушаться. Сам он тотчас занял место, предназначавшееся для Кимона. Друзья разместились вокруг него.
Схватив кубок и наполнив его вином, Гармодий, при всеобщем безмолвии, брызнул несколько капель в сторону алтаря, плеснул часть влаги на мраморный пол и выпил оставшееся вино со словами:
– Клянусь вседержителем Зевсом, ты, Кимон, славный потомок славного рода, столь преждевременно Павший от руки наёмного злодея, будешь отомщён! Да будет чистое вино сие знаком, что проливший твою кровь кровью же своей поплатится за это... А теперь, Аристогитон, говори, говори всё.
– Я буду, друзья, краток, – начал Аристогитон. – Но раньше, чем я скажу то, чем нужно с вами поделиться, я вас спрошу: все ли тут собравшиеся сумеют хранить молчание и никогда, ни при каких обстоятельствах, не выдадут того, что они здесь услышат?
– Мы друзья на жизнь и смерть!
– Клянусь головой Афины-Паллады!
– Мы не изменники, а честные афиняне!
– Смерть предателям и вечный позор их имени!
– Итак, слушайте же: убийцы нашего доблестного друга – тираны и, в частности, Гиппарх, сын Писистрата.
Увидев ошеломляющее действие своего заявления, Аристогитон продолжал:
– Вы этого не ожидали... Я сам не мог бы поверить, если бы у меня не было на то данных. Вот они все вы знаете разнузданность и своеволие наших теперешних правителей. Дерзок и груб Фессал, неумолимо жесток Гиппий, развратен до мозга костей изящный Гиппарх. Ведомо ли вам, друзья, что этот хвалёный любимец муз, этот певец, поэт и художник никогда в жизни не останавливался ни перед чем, чтобы видеть желание своё удовлетворённым?
– При чём же тут Кимон? Чем мог ему помешать человек, все интересы которого были так далеки от стремлений тирана? – этот вопрос задал Критий, сын Дропида.
– Удивляюсь тебе, друг, – продолжал Аристогитон. – Неужели ты успел забыть ту сцену, при которой мы именно с тобой недавно присутствовали в храме Афины-Паллады? Разве ты уже не помнишь, какими гадкими глазами уставился Гиппарх на Арсиною, когда она участвовала в процессии молодых девушек? Разве ты забыл, как едко-насмешливо осклабился тиран при виде нашей красавицы? Неужели ты не помнишь гнусных слов, цинично произнесённых им так громко, что не мы одни с тобой их слышали? «Она будет моей!» – властно заявил он и весь затрясся при этом.
– Да, это так, – ответил Критий, – но это – одни догадки.
– Нет, это – улика.
– Продолжай, пожалуйста, Аристогитон! – раздалось несколько голосов.
– Очень охотно. Вообще о личности Гиппарха распространяться нечего. Его разнузданность общеизвестна. Не менее известны его необузданное самолюбие и ненасытное тщеславие. Всё, что этот человек делает хорошего, он старается делать на виду у всех, чтобы о нём говорили, его хвалили, им восторгались. При этом он жесток и бессердечен, как и его милый братец Гиппий.
– Да, это мы знаем, в том нет сомнения, – послышалось со всех сторон.
– Что тиранам Кимон был бельмом на глазу, совершенно естественно. Тем более теперь, после этой третьей Олимпийской победы. Имя покойного олимпионика ведь сейчас у всех в Элладе на устах. Честолюбие никогда не было чуждо сыну Стесагора, а успехи и сила его брата Мильтиада, создавшего в стране долонков мощную, богатую колонию, гроза Писистратидам. Те вообще чувствуют, что почва у них под ногами не прочна. Алкмеонид Клисфен, их наиболее ярый враг, пользуется успехом у сельского населения, сами же сыновья Писистрата...
– Сделали всё, чтобы восстановить против себя поголовно всю Аттику, – подчёркнуто заметил Ксантипп.
– Не только Аттику, но и всю Элладу, – продолжал Аристогитон. – Храм дельфийского Аполлона с его могущественными жрецами много потерял с тех пор, как здесь, в Афинах, светлоокий сын Латоны должен был, стараниями Писистратидов, уступить своё первенство юному Вакху-Дионису.
– А те страшные поборы, которыми нас просто одолели сыновья Писистрата, – вставил и своё замечание Гармодий. – Вы совершенно забыли о них, друзья? Кому не памятно недавнее обложение всех нас особым налогом для постройки какой-то никому не нужной стены вокруг сада Академии? Кто забыл безобразную выходку Гиппия, когда он собрал всю серебряную монету страны и перечеканил её в более легковесную? Разве вам неизвестно, что недавно вышло новое распоряжение тиранов – обложить особой пошлиной все выступы и наружные входы домов наших?
– И от этого можно откупиться у Писистратидов за приличную единовременную мзду! – воскликнул Аристокл. – Скоро мы доживём до того, что с нас будут брать деньги за право платить безумные налоги Гиппию, Гиппарху и всей их алчной шайке.
– Всё это естественно, друзья, – раздался снова спокойный голос величавого Ксантиппа. – Тираны всегда остаются самими собой. – Но неестественно, что они позволяют себе вторгаться в нашу личную, частную жизнь. Я думаю, каждому из нас не трудно вспомнить о том или ином случае, когда Гегесистрат или Гиппарх, или сам Гиппий распоряжались нашими слугами и невольниками как своей собственностью.
Не успел Ксантипп проговорить эти слова, как со всех сторон раздались восклицания, подтверждавших его мысль. Каждый из присутствовавших наперебой спешил привести какие-либо примеры невероятного своеволия правителей. В зале некоторое время было очень шумно. Когда, спустя немного, наступила пауза, Аристогитон воспользовался этим и дал знак Гармодию, который перед тем долго о чём-то думал.
Юный хозяин воскликнул:
– Друзья! Всё, что я тут вижу и слышу, лишний раз доказывает только одно: Писистратиды довольно поглумились над нами. Если их славный отец сделал для отечества немало хорошего, то этого отнюдь нельзя утверждать об его дерзких сыновьях. Я полагаю, что на только среди нас, но и среди всего населения Аттики, мало найдётся сторонников Гиппия и Гиппарха, как найдётся мало людей, которых бы эти господа не обидели или не оскорбили. Это так дольше продолжаться не может. Всему на свете есть предел. Наступил конец и нашему терпению. Согласны вы со мной, друзья?
Бурные возгласы одобрения раздались со всех сторон.
– А если это так, друзья, если смерть Кимона – творение злодейских рук Гиппарха, то да падёт это гнусное преступление на его постыдную голову!
– Смерть, смерть тирану и всему его отродью!
– Я так и знал, что вы произнесёте это слово, друзья, – продолжал Гармодий. – Но не следует торопиться в данном деле, а сперва нужно всё хорошенько обсудить и обдумать. Пуще всего бойтесь, как бы тайна наша не проникла туда, куда не надо: у тиранов всюду шпионы, и они не остановятся ни перед чем, если наш заговор будет раскрыт преждевременно. Мы не должны больше собираться здесь, в этом доме: стены его также могут иметь уши. Поэтому я предлагаю подыскать какой-нибудь загородный хутор, подальше от Афин, в виноградниках. Там мы сможем, не навлекая ничьего подозрения, собираться спокойно и подробно разработать наш план. Теперь же разойдёмтесь, друзья и товарищи на жизнь и на смерть, ибо уже поздно и душа, после всех пережитых сегодня треволнений, жаждет покоя... Кимон, сын Стесагора, ты будешь отмщён и отмщён жестоко! Бедная сестра моя Арсиноя!

IV. ПОЭТ И МЫСЛИТЕЛЬ
Было дивное утро летнего месяца Гекатомбеона. По тёмно-синему небу, казавшемуся огромной, полупрозрачной сапфировой чашей, озарённой лучезарным Фебом, тихо плыли белоснежные облака, умеряя зной дневного светила и ниспосылая на цветущие окрестности Афин лёгкие тени. Дувший с моря юго-восточный ветерок нёс с собой прохладу, и живительное дыхание его подбодряло группу путников, вскоре после восхода солнца вышедших из Итонийских ворот и теперь подходивших к цели своей прогулки, Фалеронской бухте. До полудня было ещё далеко, и самая тяжёлая часть дороги казалась уже сделанной. Такое впечатление возникало оттого, что значительное расстояние, отделяющее Фалерон от Афин, было пройдено в беспрерывной беседе тех лиц, которые сейчас приковывают к себе наше внимание. Центральной фигурой тут являлся Гиппарх, сын Писистрата. Ему сопутствовали его неизменные товарищи, афинянин Ономакрит, мегарянин Феогнид, кеосец Симонид и почтенный Лас из Гермиона, одним словом – те лица, которые обычно сопровождали его в прогулках за город и в обществе которых Гиппарх особенно любил проводить свой досуг в саду Академии.
Сегодня, впрочем, темой для столь оживлённого обмена мыслями между друзьями, что дальний путь был пройден ими почти шутя, служили отнюдь не вопросы искусства или политики, обычно занимавшие этих людей, а обсуждение приключения, которое накануне случилось с Гиппархом. Случай этот настолько взволновал тирана, что и сейчас, несмотря на то что с тех пор прошло около суток, он всё ещё не мог окончательно успокоиться. В десятый раз, пожалуй, передавал он подробности происшествия, так сильно подействовавшего на него, и каждый раз лицо Гиппарха при этом багровело и искажалось от гнева.
– Подумайте только, этот щенок, этот жалкий эфеб, эта ничтожная тля осмелилась сделать публично замечание мне, тирану Гиппарху, сыну бессмертного Писистрата! Нет, вообразите себе только эту дерзость! И за что? За что, спрашиваю я вас? Что мне приглянулась прекрасноглазая Арсиноя! Да ведь это честь, неслыханная честь для такого ничтожества, как Гармодий! Да ведь это же такое счастье для девушки, о котором она и мечтать не смела.
– Гиппарх, ты забываешь, что Арсиноя – свободная афинянка, а не какая-нибудь рабыня или бедная, жалкая крестьянка, – старался успокоить расходившегося друга Лас Гермионский.
– Что ты мне тычешь всё время под нос «свободной афинянкой»! Я и без тебя знаю, что она не невольница. Так ведь я же к ней и отнёсся не как к рабыне. Сто раз говорил я вам, что питаю честные намерения относительно этой девушки, которая своей неземной красотой просто заворожила меня...
– Ты, сын Писистрата, забываешь, что ты женат.
– А ты, милейший Ономакрит, настолько помешался на своём Гомере и на беотийце Гесиоде, что забываешь о существовании развода, – ответил Гиппарх запальчиво.
– Видно, с тобой на эту тему сегодня не сговоришься, – возразил Ономакрит и, смеясь, обратился к Феогниду:
– Успокой хоть ты его, друг. Ведь это же прямо невозможно: третью неделю с этим человеком нет никакого сладу. Раздражителен стал он, как тяжко больной, мечтает, как влюблённый эфеб, а рассуждает, как потерявший от бремени лет рассудок старец. Помогите все вы, друзья, урезонить Гиппарха, по уши влюбившегося в Арсиною и оттого начинающего терять облик правителя и обращаться в незрелого юношу.
– Да, тебе хорошо рассуждать, чёрствая, каменная душа, – огрызнулся Гиппарх. – И все вы, товарищи, хороши! Хотя бы один из вас удержался от порицаний и поддержал меня.
– Прости, Гиппарх, но в том, что мы не поддерживаем тебя, виноват ты один: нельзя было заходить так далеко, как это сделал ты; нельзя было обнимать на улице, на глазах всего народа, честную девушку и тем опозорить её на всю жизнь. Ведь она была невестой, и притом не кого-нибудь, а доблестного любимца богов и народа, славного, безвременно погибшего Кимона.
– Если ты, Лас, при мне хоть раз упомянешь это ненавистное имя, дружбе нашей конец.
Слова эти Гиппарх произнёс столь резко, в голосе его зазвучала нотка такой отчаянной решимости и такого необузданного властолюбия, что все сразу умолкли.
После минутной паузы Лас заявил дрогнувшим от едва скрываемого гнева голосом:
– Это, Гиппарх, как тебе будет угодно. Но истина – то божество, которому я всю жизнь поклонялся и никому другому. То, что ты сердишься, уже свидетельствует о твоей неправоте. Арсиноя была невестой другого, этот другой – загадочно умерщвлённый, доблестный победитель на Олимпийских играх Кимон, и на похоронах этого-то славного юноши ты решился обнять приглянувшуюся тебе невесту покойного! Я лично не могу не клеймить этого твоего поступка.
Гиппарх побелел от гнева. Со сверкающими глазами и крепко сжатыми кулаками он вплотную подошёл к говорившему и прошипел:
– Ага, значит, и ты, арголидец Лас, заодно с этим щенком Гармодием, который громогласно, перед всеми аринянами, назвал меня негодяем. Но знай же, Лас, что и моему терпению может быть конец: я очень, очень благоволил к тебе, поэт из Гермиона, но расположение моё может по твоей же вине испариться и тогда – горе тебе!
Гиппарх готов был при последних словах поднять руку на друга. Ономакрит в ту же минуту обнял его и увлёк на стоявшую у дороги каменную глыбу, служившую местом отдыха и скамьёй для путников.
– Неужели, друзья, богиня Ссоры попала в нашу компанию? Не место, друзья, бледнолицей, худощавой Эриде среди тех лучезарных муз, которые незримо всегда с нами, как наши гении-хранители. Оставьте ссоры и споры и забудем горячность и пыл нашего милого Гиппарха, у которого всё-таки бьётся в груди благородное и доброе сердце.
– И правда, Гиппарх и Лас, помиритесь-ка скорее и забудьте приключившуюся неприятность. Оба вы погорячились, оба вы одинаково правы и не правы, – вставил своё замечание всё время молчавший Симонид.
Его горячо поддержал Феогнид:
– Я того мнения, что вся эта история с Арсиноей не стоит того, чтобы так много о ней говорили. Ведь мы не для того сошлись сегодня чуть ли не на заре, чтобы слушать подробности тысяча первого любовного – и увы! на этот раз неудавшегося – похождения нашего друга и покровителя, а с тем, чтобы торжественно встретить дорогого гостя, едущего к нам с острова Самоса. Откровенно говоря, мне гораздо интереснее познакомиться со славным эолийским певцом любви, Анакреоном, чем со всеми чарами и прелестями хотя бы и распрекраснейшей афинянки Арсинои.
– Если бы вы только знали, друзья, что это за девушка, что за девушка! – воскликнул Гиппарх, и глаза его засверкали страстью. – Ты, Феогнид, не стал бы так пренебрежительно отзываться о божественной Арсиное, как ты это делаешь сейчас. Но да простят тебе боги твою близорукость.
– Тебе же, Гиппарх, от этого лучше, – смеясь заметил Симонид. – Или ты не знаешь нашего человеконенавистника Феогнида?
– Благодари Афродиту, сын Писистрата, что она уберегла сердце нашего старого греховодника Феогнида от увлечения твоей Арсиноей, – вставил с улыбкой Ономакрит. – А теперь, друзья, двинемся в дальнейший путь, – продолжал он, видя, что Гиппарх опять начинает волноваться.
– Да, солнце поднимается выше и выше, и нам пора спешить в Фалерон: здесь, на пыльной дороге становится нестерпимо жарко и в горле совершенно пересохло. Идём же, друзья, а ты, Гиппарх, будь веселее: всё ещё устроится по твоему желанию; недаром к тебе так благоволят небожители.
Это проговорил юркий Симонид, и хитрая улыбка заиграла на его тонких губах.
Все весело рассмеялись, даже хмурое чело сына Писистрата на миг озарилось беззаботной радостью. Один лишь Лас из Гермиона оставался угрюмым и молчаливым. Видно было, что замечание Гиппарха задело за живое и глубоко оскорбило его.
Со смехом и шутками друзья продолжали свой путь. Теперь солнце поднялось настолько высоко, что жгучие лучи его падали почти отвесно на головы путников. Было знойно, нестерпимо знойно, и тщетно взоры приятелей искали какого-нибудь признака тени. Одинокие маслины высились там и тут на хребтах придорожных скал, настолько, впрочем, высоких и крутых, что взбираться на них, чтобы отдохнуть в тени маслин, не приходило никому в голову. Разговоры как-то сразу умолкли, и товарищи Гиппарха думали теперь лишь об одном: как бы скорее добраться до ключа, невдалеке от Фалерона бившего у подножия высокой горы, поросшей густой растительностью. Сам Гиппарх чувствовал себя, по-видимому, бодрее всех, потому что быстро шагал по дороге, не замечая ни знойных лучей полуденного солнца, ни раскалённого песка пыльной дороги. Теперь он снова погрузился в свои размышления и, казалось, совершенно забыл о присутствии товарищей. Но вот дорога сделала крутой поворот к западу. Скалы так близко подступили друг к другу, что образовали нечто вроде ущелья. Тут было сравнительно тенисто и прохладно. Вдали показалась группа деревьев и кустов, приветливо манивших к себе усталых путешественников. Тихое журчание ключа, выбивавшегося из скалы, радостно приветствовало странников.
Оттого ли, что была самая знойная пора лета, или потому, что время близилось уже к полудню, но на этот раз около живительного ключа не было ни одного прохожего. Гиппарх с товарищами мог поэтому свободно расположиться на каменных скамейках, стоявших под тенистыми деревьями. Утолив жажду и освежив в роднике лицо и ноги, компания уже собралась было в дальнейший путь, как общее внимание обратили на себя какие-то фигуры, внезапно показавшиеся на повороте, там, где дорога, сделав обход в сторону ключа, возвращалась к прежнему направлению.
Крепко опираясь на толстую суковатую палку, мерным шагом выступал почтенный старец, согбенный под бременем лет и тяжестью поклажи – объёмистого мешка, висевшего у него за плечами. Длинная, совершенно белая борода старика обрамляла удивительно свежее, несколько раскрасневшееся лицо, озарённое прекрасными очами, сверкавшими чисто юношеским огнём. Сросшиеся на переносье густые белоснежные брови старца придавали ему несколько суровый вид, смягчавшийся лишь необычайно добродушной улыбкой, игравшей на благородно очерченных устах его. Он был довольно высок, но казался ниже своего роста, так как шёл немного сгорбившись. В нескольких шагах за ним следовал, как можно было заключить по одежде, рослый раб, нагруженный всякой всячиной. Пара дорожных мешков за плечами и в руках, связка пергаментных рукописей у пояса и довольно большая лира за спиной составляли изрядный груз, под тяжестью которого невольник, обильно обливаясь потом, согнулся в три погибели.
Когда старик увидел группу людей у ключа, он приказал рабу сложить ношу у дороги и пойти освежиться. Сам он остановился несколько поодаль и стал внимательно рассматривать Гиппарха и его спутников. Результат этого занятия, видимо, показался ему удовлетворительным: быстро подойдя к сидевшим у ключа, он с улыбкой проговорил:
– Привет вам, мужи афинские и почитатели чистой девственницы Паллады! Привет вам, незнакомцы, от иноземца, пришедшего из дальних мест снискать приют и усладу от тяжких трудов под охраной вашей светлоокой богини! Привет вам от вечного странника и ненасытного искателя, Ксенофана, сына колофонца Дексия! В моём лице приветствует дальний восток и крайний запад эллинского мира представителей его славного центра!
По мере того, как ласковая, певучая речь плавно лилась из уст старца, Гиппарх и его товарищи оживлялись. Сперва на их лицах выразилось недоумение, затем любопытство, наконец нескрываемое изумление, перешедшее в живейшую радость, когда Ксенофан назвал себя.
– Долг вежливости требует, чтобы и мы сообщили тебе имена наши, славный путник, которого так кстати ниспослали нам милостивые боги. Вот это – афинянин Ономакрит, далеко известный за пределами отечества своими неустанными трудами по собиранию песен бессмертного Гомера и стихов сурового беотийца Гесиода. Вот это – Симонид, славный эпиграммами своими уроженец Кеоса. Рядом с ним стоит мегарянин Феогнид, как и ты, достойный, не мало изъездивший стран, ища истину и нигде не находя её в совершенном виде; а это – наш славный Лас Гермионский, любимец светлокудрого Аполлона, знаток музыки и составитель начинающих греметь по всей Элладе божественных песнопений-дифирамбов.








