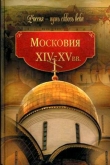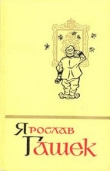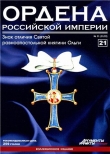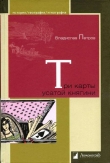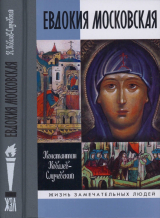
Текст книги "Евдокия Московская"
Автор книги: Константин Ковалев-Случевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Глава 4
ВДОВА
Блюстительница престола:
завещание Дмитрия Донского
Ироду своему честь добудешь, и себе доброе имя.
Из «Наставления отца к сыну», XIV в.
Можно с грустью заметить, что во всякой, даже в самой счастливой семье происходят порой не очень радостные события. Так и великой княгине Евдокии пришлось пережить своего мужа.
Трудные обстоятельства, способные переменить ход истории, иногда возникают внезапно. Таким событием стала кончина великого князя Московского – Дмитрия Ивановича Донского. Это произошло в мае 1389 года. Князь не дожил до сорока лет. Этот возраст по тем непростым временам считался солидным.
На миниатюре из Лицевого летописного свода XVI века изображены родственники князя у его одра. Мы видим редкое изображение лика княгини Евдокии, теперь уже вдовы. Все те, кто попал на миниатюру, разбиты большим горем, они эмоционально переживают случившееся.
Как писалось в «Слове о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича»: «Сий убо великий князь… огради всю землю Русьскую. От востока до запада хвално бысть имя его, от моря и до моря, от рек и до конець вселенныя превознесеся честь его… окаанный же Мамай от лица его побеже… и бысть тишина в Русьской земли».
Произошло это в тот момент, когда главные проблемы существования крепнущего Владимирского (Московского) княжества были в основном решены. Самые сильные внутренние враги были уже повержены. Разногласия с Ордой почти преодолёны. Не было на Руси тогда глобальных войн. Руководители государства занимались всеобщим устроительством. Ещё здравствовали духовный покровитель Московии – преподобный Сергий Радонежский и его первый ученик – преподобный Савва Сторожевский.
Вот как описывал те события автор книги о московских святынях Кремля И. К. Кондратьев: «Наконец, ещё более жестокий удар поразил великую княгиню: не имея ещё и сорока лет, 22 мая 1389 года умер муж её Дмитрий Иванович. «Увидев супруга своего мёртвым, на одре лежащим, – передаёт жизнеописатель Дмитрия Ивановича, – великая княгиня начала плакать, ударяя руками в грудь свою; огненные слёзы лились из очей… Зачем, – воскликнула она, – умер ты, дорогой мой, жизнь моя, зачем оставил меня одну вдовою? Зачем я не умерла прежде тебя? Куда зашёл свет очей моих? Куда скрылось сокровище жизни моей? Почто не ответствуешь мне, супруге твоей? Цвет мой прекрасный, зачем так рано увял ты? Господин мой, что же не смотришь на меня, не отвечаешь мне? Ужели ты забыл меня? Вот мы, я, жена твоя, и дети твои! Что же не даёшь нам никакого ответа? На кого ты оставляешь меня и детей своих? Рано заходишь, солнце моё, рано скрываешься, прекрасный месяц мой, рано идёшь к западу, звезда моя восточная! Где честь твоя, где слава и власть твоя? Был государем всей русской земли, а ныне мёртв и ничего не имеешь в своём владении! Много примирил стран, много одержал побед, а ныне сам побеждён смертию! Изменилась слава твоя, и на лице твоём видна печать тления! Жизнь моя, я уже не могу более находить в тебе источник веселия! Вместо многоценной багряницы ты облёкся в сии бедныя ризы, вместо венца покрыл главу свою простым платом, из светлых чертогов переселился в тесный и мрачный гроб! Зачем помрачился свет мой ясный? Если Бог услышит молитву твою, помолись обо мне, княгине твоей, чтобы мне умереть вместе с тобою, как мы неразлучены были в жизни! Юность ещё не оставила нас, ещё старость не постигла нас! Зачем оставил меня и детей своих? Немного было радостей в моей жизни с тобою, вместо веселия плач и слёзы были моею долею; вместо утехи и радости – скорбь и сетование!.. Зачем я не умерла прежде тебя? Тогда я не была бы горькою свидетельницею твоей кончины и не чувствовала бы своего несчастия! Ужели ты не слышишь жалобных речей моих? Ужели не трогают тебя горькия слёзы мои?.. Крепко уснул царь мой… не могу разбудить тебя!.. С какой войны пришёл ты, отчего так утомился?.. Звери земные идут на ложе своё, птицы небесныя к гнёздам своим, а ты, господин мой, навеки отходишь от дому своего!.. Кому уподоблю и как назову себя? Вдовою ли? Но я не знаю сего имени! Женою ли? Но царь – супруг мой – оставил меня!.. Вдовы старыя, утешьте меня! Юныя вдовы, плачьте со мною! Что может быть горестнее несчастия вдовы? Как оплакать и как выразить мне своё горе?.. Боже Великий, Царю царей, будь моим заступником! Пресвятая Богородица! Не оставь меня и не забудь меня во время печали моей!»
Этой жалобой оканчивается плач Евдокии над гробом её супруга, а потеря супруга была для Евдокии несчастьем, ничем не вознаградимым, была последним испытанием, разорвавшим все связи её с этим миром».
В этой цитате из книги XIX столетия мы в очередной раз (если следовать истории древнерусской литературы) встречаемся с текстом знаменитого «Оплакивания великой княгиней Евдокией своего мужа», которое вошло составной частью в так называемое «Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича, русского царя».
Данное, чудом дошедшее и сохранившееся до наших дней Житие (вернее, Слово о житии) великого князя Дмитрия Донского было создано, по-видимому, в самом конце XIV столетия (или в первые годы XV века), то есть ещё при жизни княгини Евдокии – тогда уже вдовы. Мы можем смело утверждать, что это уникальный образец древнерусской литературы, агиографического жанра. Неповторимое похвальное слово благочестивому и истинно мудрому правителю, который сумел победить захватчиков Руси – монголов.
«Князь сей Дмитрий, – читаем мы в Житии, – родился от именитых и высокочтимых родителей: был он сыном князя Ивана Ивановича, а мать его – великая княгиня Александра. Внук же он православного князя Ивана Даниловича, собирателя Русской земли, корня святого и Богом насаждённого сада, благоплодная ветвь и цветок прекрасный царя Владимира, нового Константина, крестившего землю Русскую и сородич от новых чудотворцев Бориса и Глеба. Воспитан же был он в благочестии и в славе, с наставлениями душеполезными, и с младенческих лет возлюбил Бога. Когда же отец его, великий князь Иван, покинул сей мир и удостоился небесной обители, он остался девятилетним ребёнком с любимым своим братом Иваном. Потом же и тот умер, также и мать его Александра преставилась, и остался он на великом княжении.
















И когда воспринял он скипетр державы земли Русской, престол земного царства, отчину свою – великое княжение, по дарованной ему от Бога благодати, почести и славу, ещё юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вёл, и непристойных слов не любил, и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал. И Священное Писание всегда с умилением он слушал, о церквах Божьих усердно заботился. И на страже земли Русской мужественно стоял, беззлобием отроку уподобляясь, а умом – зрелому мужу. Неприятелю же всегда был страшен он в бранях и многих врагов, на него поднимавшихся, победил. И славный град Москву стенами он на диво всем оградил. И в этом мире прославился – словно кедр в Ливане вознёсся и словно финиковая пальма расцвёл».
Мы находим в этом рассказе удивительную риторику, особенный язык, напоминающий тот, что был присущ Епифанию Премудрому, написавшему Житие преподобного Сергия Радонежского и создавшего уникальную школу-традицию так называемого «плетения словес». Его особенная, торжественная манера письма стала новым веянием в писаниях той эпохи, в особенности агиографических. Подобная традиция продолжилась затем вплоть до XVII столетия.
Поэтично и описание брака князя Дмитрия и княжны Евдокии: «Когда же исполнилось ему шестнадцать лет, привели ему в невесты княгиню Авдотью из земли Суздальской, дочь великого князя Дмитрия Константиновича и великой княгини Анны. И обрадовалась вся земля свершению их брака. И после брака жили они целомудренно, словно златогрудый голубь и сладкоголосая ласточка, с благочестием пеклись о спасении своём, с чистой душой и ясным умом держа земное царство и готовя себя к небесному, и плоти своей не угождали».
Современники впервые встречаются здесь с реальными человеческими описаниями жизни и деятельности князя Дмитрия. В данном Житии больше исторических фактов, нежели житийных рассуждений. Перед нами действительно уникальный источник, ознакомиться с которым имеет смысл каждому любителю русского Средневековья.
«С юных лет Бога он возлюбил, – пишет автор «Слова о житии», – и усердствовал в духовных делах; хотя и не изощрён был в книжной премудрости, но духовные книги в сердце своём держал. И ещё одно поведаю о жизни его: тело своё в чистоте сберёг до женитьбы, церковь свою сохранил Святому Духу неосквернённой. Очи всегда опускал к земле, из которой и взят был, душу же и ум обращал к небу, где и подобает ему пребывать. И после бракосочетания также тело в чистоте соблюдал, к греху непричастным. Сбылись на нём слова божественного апостола Павла, который сказал: «Вы – храм Бога Живого, говорившего: «Вселюсь в них и в них пребуду». Царским саном облечённый, жил он по-ангельски, постился и все ночи простаивал на молитве, сну лишь ненадолго предаваясь, вскоре снова вставал на молитву и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, жил он жизнью бесплотных. Землёю Русскою управляя и на престоле сидя, он в душе об отшельничестве помышлял, царскую багряницу и царский венец носил, а в монашеские ризы всякий день облечься желал».
Тот же автор книги «Седая старина Москвы» И. К. Кондратьев ещё в 1893 году писал: «Нет надобности объяснять, что в плаче Евдокии над гробом супруга много поэтического, вымышленного, и его нельзя считать буквально подлинным. Но с другой стороны, взяв во внимание современность сказания о житии Дмитрия Ивановича, общеупотребительность в Древней Руси выражения душевной скорби в плаче, то есть в разных причитаниях над умершим, нельзя не признать в нём если не всего, то, по крайней мере, много исторически достоверного. Сочинитель жития Дмитрия Ивановича мог быть свидетелем его кончины, мог слышать плач его супруги и потом, конечно с некоторыми изменениями, внести его в составленное им жизнеописание Дмитрия Донского. Если же мы и отвергли бы вполне подлинность плача, то он всё-таки будет для нас иметь важность как изображение душевного состояния Евдокии при гробе её супруга в том виде, как представлялось это состояние современникам».
Плач Евдокии (в тексте она также зовётся Авдотьей) вошёл составной частью в данное Житие. А рассказ о совместной жизни в браке Дмитрия со своей женой, включающий наставления детям, интересен и для современного читателя.
«И прожил он со своей княгиней Авдотьей двадцать два года в целомудрии, и имел с ней сыновей и дочерей, и воспитал их в благочестии. А княжение великое держал, отчину свою, двадцать девять лет и шесть месяцев, и многие славные деяния свершил, и победы одержал как никто другой, а всех лет жизни его было тридцать восемь и пять месяцев. А потом разболелся он и мучился сильно. Но после полегчало ему, и возрадовалась великая княгиня радостью великою, и сыновья его, и вельможи царства его. И снова впал он в ещё больший недуг, и стоны вошли в сердце его, так что разрывалось нутро его, и уже приблизилась к смерти душа его.
В то же время родился у него сын Константин. И призвал князь к себе княгиню свою, и других сыновей своих, и бояр своих, и сказал: «Послушайте меня все. Вот и отхожу я к Господу моему. Ты же, дорогая моя княгиня, будь детям своим за отца и мать, укрепляя дух их и наставляя всё делать по заповедям Господним: послушными и покорными быть, Бога бояться и родителей своих почитать, и страх перед ними хранить, в сердце своём во все дни жизни своей». И сказал сыновьям своим: «Вы же, сыны мои, плод мой, Бога бойтесь, помните сказанное в Писании: «Чти отца и мать, и благо тебе будет». Мир и любовь между собой храните. Я же вручаю вас Богу и матери вашей, и в страхе перед нею пребудьте всегда. Повяжите заветы мои на шею себе и вложите слова мои в сердце ваше. Если же не послушаете родителей своих, то вспомните потом написанное: «Проклятие отца дом детей его разрушит, а вздохи матери до конца искоренят». Если же послушаете – будете долго жить на земле, и в благоденствии пребудет душа ваша, и умножится слава дома вашего, враги ваши падут под ногами вашими и иноплеменники побегут пред лицом вашим, избавится от невзгод земля ваша, и будут нивы ваши изобильны. Бояр своих любите, честь им воздавайте по достоинству и по службе их, без согласия их ничего не делайте. Приветливы будьте ко всем и во всём поступайте по воле родителя своего».
Мы встречаем здесь также подробное описание завещания князя Дмитрия Донского, фактически – цитирование его духовной грамоты. Это было важное указание на соблюдение права престолонаследия, которое соблюдала вдова князя Евдокия и которое было нарушено уже после её кончины.
«И, призвав сначала сына своего старшего, князя Василия, на старейший путь, – подробно пишет автор «Слова», – передал в руки его великое княжение – стол отца его, и деда, и прадеда, со всеми пошлинами, и передал ему отчину свою – Русскую землю. И раздавал каждому из своих сыновей: передал им часть своих городов в отчину, и каждому долю в княжении их, где кому из них княжить и жить, и каждому из них дал по праву его землю. Второму сыну своему, князю Юрию, дал Звенигород со всеми волостями и со всеми пошлинами, а также и Галич, который когда-то был Галицким княжеством, со всеми волостями и со всеми пошлинами. Третьему же сыну своему, князю Андрею, дал город Можайск, да другой городок – Белоозеро, со всеми волостями и со всеми пошлинами; это княжение было когда-то Белозерским. Четвёртому же сыну своему, князю Петру, дал город Дмитров со всеми волостями и со всеми пошлинами.
И так утвердил он всё это златопечатной грамотой, и, поцеловав княгиню, и детей своих, и бояр своих прощальным целованием, благословил их, и, сложив руки на груди, предал святую свою и непорочную душу в руки истинного Бога девятнадцатого мая, в день памяти святого мученика Патрикия, на пятой неделе после Пасхи в среду, в два часа ночи. Тело его честное осталось на земле, душа же его святая в небесную обитель вселилась.
Когда же преставился благоверный и христолюбивый, благородный князь всея Руси Дмитрий Иванович, озарилось лицо его ангельским светом. Княгиня же, увидев его, мёртвым на постели лежащего, зарыдала во весь голос, горячие слёзы из глаз испуская, нутром распаляясь, била себя руками в грудь. Словно труба, на бой созывающая, как ласточка на заре щебечущая, словно свирель сладкоголосая, причитала…».
Находим мы тут и сведения о семье князя, о детях Евдокии, что помогает нам узнать некоторые подробности из их жизни.
«Пятый же сын его, Иван, умер, а шестой сын его, Константин, самый маленький, ещё младенец, ибо остался он тогда после отца четырёхдневным, седьмой же сын его старший – Данило… (некоторая путаница в сложном списке сыновей князя была присуща многим авторам. – К. К-С.).
Ещё и мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу и одна у обоих добродетельная жизнь, на будущую славу взирают, возводя очи к небу. Так же и Дмитрий имел жену, и жили они в целомудрии. Как и железо в огне раскаляется и водой закаляется, чтобы было острым, так они огнём Божественного духа распалялись и слезами покаяния очищались. Есть ли кто столь сед разумом ещё до старости?».
Дмитрий Донской успел обзавестись, как мы уже знаем, большой семьёй. Перед кончиной он знал – есть кому оставить наследство.
И в первую очередь – своей супруге Евдокии, которую он видел в качестве настоящей местоблюстительницы московского (владимирского) престола. Она должна была помочь своим детям, в особенности – сыновьям, разобраться в престолонаследии. Забота о княгине была уже традицией в московской великокняжеской семье. Ещё Иван Калита писал в своей духовной грамоте: «А завещаю тебе, сыну моему… братьев твоих младших и княгиню мою с меньшими детьми: после Бога ты будешь о них заботиться».
Как же это тогда происходило, как разбирались между собой с помощью мудрой матушки Евдокии наследники великого дела – объединения всех русских земель и завершения процесса определения их в самостоятельное государство, не зависящее от воли хана-царя, не выплачивающее дань и не ожидающее кары за свои ослушания?
Великий князь Дмитрий Донской, собирая многие годы воедино русские земли, был вынужден незадолго до своей кончины вновь делить их в своём завещании между сыновьями и своей супругой.
Видимо, уже предполагая такой исход, Дмитрий Иванович продиктовал духовную грамоту, где определил – что, кому и сколько достанется из наследников.
Духовные грамоты – завещания – писались в важнейшие и непростые моменты, когда что-то могло угрожать жизни того или иного князя. Причин было много: состояние здоровья, возраст или предстоящие походы и войны. В таких случаях всегда было необходимо позаботиться о наследстве.
В результате данные документы стали важным источником по русской средневековой истории. Они, в частности, показывают, чем владели князья, иногда – как они приобрели те или иные свои владения. По ним мы можем проследить процесс становления, собирания и объединения или раздробления земель различных княжеств.
Когда завещания подписывались, то присутствовали свидетели – «послухи», список которых затем мог включаться в текст. Среди них могли быть весьма уважаемые и пользующиеся авторитетом бояре или княжеские слуги. Так благодаря документам мы можем себе представить и состав княжеского двора того времени.
Великокняжеские духовные грамоты хранились достаточно бережно – как ценные и актуальные документы, ведь по ним определялось конкретное наследственное землевладение, и потому дошли они до нас относительно хорошо. Мы можем, например, прочитать комплекс духовных грамот великих князей Московских, начиная с Дмитрия Донского.
Само завещание великого князя Дмитрия Ивановича породило в будущем все наиболее значительные события первой половины XV века. Борьба за наследство имела прямое отношение к духовной грамоте великого князя.
Две духовные Дмитрия Донского сильно отличаются одна от другой. И это понятно – они написаны в разное время, в них отражены разные обстоятельства. Содержание завещания великого князя изменилось за годы.
Именно завещание отца (кроме прочих летописных источников) спустя четыре десятилетия привозил с собой его сын князь Юрий Дмитриевич в Орду для доказательства своих наследственных прав на московский престол (то есть, судя по всему, он показывал ордынскому хану подлинник этого ценного документа). Именно этот источник и по сей день интерпретируется историками по-разному.
Вернёмся к событиям, связанным с составлениями духовных грамот князя Дмитрия. Первую свою духовную грамоту князь Дмитрий составил перед событиями 1375 года и перед походом на Тверь, когда впервые русские подняли меч против Орды. Текст её частично сохранился.
Двое его сыновей, как мы уже знаем, тогда были ещё в малолетстве. Василию исполнилось четыре года, а Юрий только появился на свет в Переяславле. Но почему великий князь не написал духовной раньше, ведь сын-наследник у него уже был?
Факт, что Дмитрий Иванович определит наследство только после рождения Юрия. И неслучайно.
Один из сыновей великокняжеской семьи, как известно, скончался в малолетстве (как мы уже говорили, Юрий был третьим сыном). Значит, подобное могло произойти и в дальнейшем.
О том, что когда-то в будущем у Евдокии появятся и другие мальчики, – никто не мог ведать.
Князь Дмитрий поступал мудро и делал всё вовремя. Он диктует текст, по которому главные отчины уже тогда отдаёт старшему – четырёхлетнему Василию. «А что буде прикупил сёл, или примыслил, или починков, или которая будуть сёла отца моего великом княженье купля, или моя сёла купленая, или брата моего сёла, княжи Ивановы, те сёла и починки сыну моему, князю Василью, и моей княгини, и моим детём».
Формула «сыну моему, князю Василью, и моей княгини, и моим детем» – повторяется в грамоте неоднократно. Тогда князь ещё не определился окончательно – отдавать ли всё только старшему сыну или же оставить на усмотрение всех детей – под руководством великой княгини, которая могла бы мудро рассудить любые возникающие споры. Упоминание Василия первым ещё не означало конкретно, что он получит всю полноту власти и основную собственность. Оставалась некоторая неопределённость в дележе всего наследства между детьми. Но какими «детьми»?
Под фразой «моим детём» можно понимать, например, дочерей. Но обычно так не делалось. Указывались мальчики. Множественное число предполагало, конечно, возможное появление и других сыновей – пока грамота не будет переписана. Но известных нам младших братьев Василия и Юрия тогда не было ещё и «в проекте».
При диктовке завещания присутствовал митрополит Алексий, повесивший на грамоту свою печать. Также и свидетели, о которых написано: «А послуси на сю грамоту: Тимофей околничий… Иван Родивонович, Иван Фёдорович, Фёдор Ондреевич. А грамоту писал дьяк Нестер».
Новый – второй – текст завещания, составленный в присутствии «игумена Сергия» (Радонежского), был более подробен и детализирован (возможно, были и другие варианты завещаний, но нам они неизвестны).
Исходя из содержания, подписание документа датируют временем между 13 апреля и 16 мая 1389 года. Так как именно 13 апреля из Москвы уехал митрополит Пимен (он, как мы видим, не участвует в составлении документа, а должен был бы – как митрополит). И, судя по тексту, в тот момент ещё не появился на свет последний сын князя Дмитрия – Константин («а даст ми Бог сына…» – читаем мы в завещании). Родился же он 16 мая, за несколько дней до кончины Дмитрия.
Старший сын Василий получал «отчину великое княжение». Неожиданно для многих такой фразой князь Дмитрий впервые за время ордынского ига самостоятельно провозгласил передачу великокняжеской власти, добавив к этому и ещё более серьёзные определения: «А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду». Вот так правитель Москвы начал традицию постепенного отвержения монополии Золотой Орды на определение власти и дани на Руси.
Василию также отходила Коломна с волостями и половиной городских пошлин. «А дети мои, молодшая братья княжи Васильевы, – особо выделил князь Дмитрий, – чтите и слушайте своего брата старишего в моё место своего отця.
А сын мой, князь Василий, держит своего брата, князя Юрья, и свою братью молодшюю в братьстве, без обиды».
Князя Юрия в своём завещании Дмитрий Донской выделил неслучайно. Тот в эти годы явно подавал большие надежды на будущее – и образованием (что известно по источникам), и стремлением к воинскому поприщу, и необычным врождённым чувством справедливости, умением ещё с детства улаживать отношения в семье. В отличие от старшего Василия, который был наделён чертами слабохарактерного и весьма тщеславного человека. И если другие сыновья получили свою долю: Андрей – Можайск и Белоозеро, Пётр – Дмитров и Углич, Иван – «не от мира сего» – несколько волостей, а народившийся Константин потом от братьев получит в дар Углич, то наследство, причитавшееся Юрию, будет оговорено с отдельными подробностями.
И вот – самое интересное! Свою супругу князь Дмитрий в завещании выделил особо! Князь отдал Евдокии частично разные владения из наследования каждого из сыновей. Но главное, она оставалась старшей в вопросах разрешения различных внутрисемейных споров.
Это немаловажное заключение-заповедь в духовной грамоте подсказывает, что вопрос о престолонаследии возник как важный уже тогда. А через десяток с небольшим лет он станет камнем преткновения в отношениях между старшими сыновьями Дмитрия.
Например, было отмечено: «А по грехом, которого сына моего Бог отьимет, и княгини моя поделит того уделом сынов моих. Которому что даст, то тому и есть, а дети мои из её воли не вымутся».
То есть воля великой княгини становилась не менее важной, нежели воля будущего преемника Дмитрия на престоле. Поразительный факт для завещаний того времени. И поразительное доверие великого князя своей жене, женщине, что шло вразрез со многими традициями Средневековья.
И вот что было главным: вопрос о дальнейшей перемене власти. По этому поводу великий князь Дмитрий Иванович Донской написал: «А по грехом, отьимет Бог сына моего, князя Василья, а хто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему княж Васильев удел, а того уделом поделит их моя княгини. А вы, дети мои, слушайте своее матери, что кому даст, то тому и есть».
Ещё два важнейших утверждения, таким образом, находим мы в грамоте. Первое – князь Дмитрий подтверждает престолонаследие (сложившееся аж со времён Ярослава Мудрого) от старшего брата к следующему по возрасту. Второе – вдова великого князя Евдокия становилась на время судьёй в возможных разногласиях и спорах наследников. С точки зрения юридической, формула «слушайте своее матери» с добавлением почти приказа «что кому даст, то тому и есть» явилась во многом новшеством в истории властных взаимоотношений конца XIV столетия на Руси.
Заключительные слова Дмитрия Донского – «А хто сю грамоту мою порушит, судит ему Бог, а не будет на нём милости Божий, ни моего благословенья ни в сии век, ни в будущий», – по сути, являются его предсмертным приговором тому, кто начнёт не только менять суть завещания, но и положит основание известной междоусобице и братоубийству. Речь идёт о длительной распре между князьями Московского властвующего дома, которая по-настоящему начнётся через несколько десятилетий после кончины Дмитрия Донского и войдёт в историю как период междоусобными войн. А как мы знаем, начал эту распрю именно старший брат Василий, нарушив завещание, хотя поздняя история утверждала, будто во всём виноват князь Юрий.
Неслучайно в одной из фраз завещания князя Дмитрия его сын Юрий выделен после Василия как бы отдельно, особо: «А сын мой, князь Василий, держит своего брата, князя Юрья, и свою братью молодшюю в братьстве, без обиды». Этот сын был любимчиком, особенно княгини Евдокии. Умирающий князь будто предчувствовал будущую несправедливость.
Можно предположить, что от более серьёзных наследственных указаний по отношению к Юрию князя Дмитрия могла отвратить странная болезнь, которая чуть не унесла жизнь Юрия в 1388 году. Отец вдруг понял, что и этот сын может неожиданно умереть. И он побоялся недуга юноши. И хотя «Бог милова его», завещание было уже составлено. Ничего более, кроме особого выделения Юрия (в виде явного наставления-указания именно Василию) как брата, которого нельзя оставлять «в обиде», – в грамоте нет. Кстати, указание это намекает на уже тогда, видимо, непростые отношения между братьями. И, похоже, негатив исходил от старшего, что подтвердит время.
Известно, что в год кончины Дмитрия Донского ни один из сыновей его и Евдокии ещё не был женат и не имел потомства. Вот почему было так важно детально расписать в завещании и порядок передачи власти. Многие дети князя умирали в разном возрасте. Кто на самом деле выживет и сможет управлять таким большим и неустойчивым государством, как Московская Русь, – вряд ли кто-нибудь взялся бы тогда прогнозировать.
Князь Дмитрий Иванович соблюдал законы предков, причём точно. Окружение поддерживало его. Власть принимал старший сын Василий, а следующий – Юрий – придёт в своё время, когда положено. И если мы верим тем словам в завещании, где великокняжеская власть передаётся от Дмитрия к Василию, то мы должны так же точно верить и тем словам, где заповедано Василию – передать затем власть Юрию (или, в случае смерти Юрия, другому брату, кто за ним будет старшим). Таков был порядок, установленный тогда.
Этим словам верила и следовала до самой своей кончины великая княгиня Евдокия, вдова Дмитрия Донского. Увы, но жизненных дней ей отпущено было не так уж и много, хотя пережила она мужа почти на 18 лет. И за это время никаких серьёзных споров или стычек между сыновьями не произошло.
Это характеризует Евдокию как женщину мудрую, волевую, решительную и последовательную в своих решениях и поступках. Что и вызывало со стороны окружающих большое и искреннее к ней уважение, вылившееся в дальнейшем в настоящее почитание.