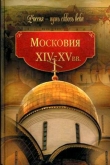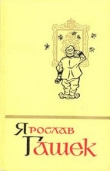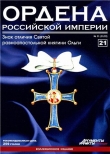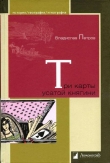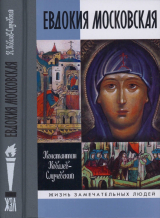
Текст книги "Евдокия Московская"
Автор книги: Константин Ковалев-Случевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Основание обители в Кремле
И монастырь честен возгради, иже есть Девический общежительный монастырь.
В мале сказание о блаженной великой княгине Евдокии, XVI в.
Пришло время, и вдова Дмитрия Донского решила осуществить задуманное. Она уже давно предполагала основать новый женский монастырь в самом центре Великого княжества Московского. В самой Москве, в Кремле. Основать обитель, где вместо церквей Святого Лазаря и Рождества Богородицы на Сенях, можно было бы погребать женщин из рода московских князей.
Так появился известный и по сей день Вознесенский монастырь.
Точный год его основания неизвестен. Поэтому существуют разные предположения на сей счёт. Варианты указываются в летописях. Например, называют 1389 или 1397 год. Находился Вознесенский девичий монастырь у Спасских (Фроловских) ворот внутри Кремля, по правую их сторону. Монастырь этот до 1917 года состоял в первом классе.
Рядом ранее был основан мужской монастырь. Вот что о нём рассказывалось во «Всеобщем иллюстрированном путеводителе по монастырям и Святым местам Российской империи и Святой горе Афону», выпущенном в Нижнем Новгороде в 1907 году: «Чудов мужской монастырь. Находится в Москве, в Кремле подле малого дворца, вблизи Спасских ворот. На месте монастыря в XIV столетии находился ханский конюшенный двор, который был подарен Алексию митрополиту Московскому ханом Ченибеком за исцеление жены его Тайдулы, для чего митрополит Алексий ездил в орду. В память этого события Алексий и основал на подаренном месте Чудов монастырь – в память чуда Архангела Михаила в Колоссах, в 1366 году».
Одним из древнейших русских женских монастырей был Ирининский, упомянутый в Лаврентьевской летописи под 1037 годом. Построен он был киевским князем Ярославом Мудрым в честь святой покровительницы его супруги – княгини Ингергерды, которая приняла при крещении имя Ирина. Ктиторские монастыри были не в диковинку, то есть правители или члены великокняжеских семей могли вложить средства в постройку обители. Целью было оставить после себя молитвенников за свою душу, если не при жизни, то после кончины. В ктиторских монастырях особое внимание уделялось заупокойным службам, гробницы украшались покровами. Великая княгиня Евдокия Дмитриевна следовала старой традиции и устроила обитель, можно сказать, на своём дворе, заложив позднее каменный храм во имя Вознесения Господня.
В Москве или в непосредственной близости от Кремля уже существовали женские обители. Например, Алексеевский монастырь в Хамовниках, который иногда называют Стародевичьим (появился с 1360-х годов, основан митрополитом Алексием на митрополичьих землях). Его первая игумения Иулиания была в числе основательниц общежительства в московских женских монастырях.
Известна была Богородице-Рождественская обитель, созданная Марией, матерью князя Владимира Андреевича Храброго, предположительно в 1386 году. Именно княгиня Мария, по всей видимости, свела ещё в ранней молодости князя Дмитрия и его жену Евдокию с преподобным Сергием Радонежским, который основал свою обитель на землях серпуховского князя, к роду которого она принадлежала. Считается, что в создании монастыря принял участие князь Дмитрий Донской. Однако великая княгиня Евдокия также внесла вклад в появление и становление обители. При этом некоторые исследователи считают её в числе главных основателей. От преподобного Сергия Радонежского монастырь получил общежительный устав, а в 1390-х годах в нём короткое время проживал преподобный Кирилл Белозерский.
Княгиня Евдокия пошла по их стопам, фактически последовала благочестивому примеру Иулиании и Марии. Она решила обустроить новый общежительный женский монастырь в самом сердце великокняжеской столицы.
Летописные известия относительно основания женского Вознесенского монастыря очень кратки и довольно неопределённы. В них мы не найдём ни точных указаний – когда именно положено было основание обители, ни подробностей о её устройстве. Только под 1407 годом – годом кончины самой Евдокии – мы читаем в летописях, что великая княгиня заложила в Москве каменную церковь Вознесения.
В кратком сказании о жизни Евдокии, супруги великого князя Дмитрия Ивановича Донского, помещённом в «Степенной книге», в главе «О постановлении святых церквей, и начало Вознесенскаго монастыря», также говорится, что Евдокия много сделала добрых дел по устроению церквей:
«По отшествии же к Богу святаго и благороднаго супруга ея, вдоствуя бяше 18 лет, много подвизаяся добродетельными к Богу исправленными, и много святыя церкви постави, и монастыри возгради; на своём же царском дворе постави церковь каменну Рожество Святыя Богородица, идеже есть придел Лазарево Воскресение, иже преже бе древяна, юже всяческими добротами украси, и чудно подписаша славни живописцы Феофан Гречанин, да Симеон Чёрный; в Переяславле же постави церковь близь града у реки у Трубежа, Рожество Святаго Иоанна Предтечи, и монастыри устрой. В царствующем же граде Москве постави церковь каменну Вознесение Христово, и монастырь честен возгради, иже есть Девический общежительный монастырь. Прочая ж святыя церкви от благага ея произволения инде поставлены быша в славу Божию».
Это и есть почти все прямые указания об основании Евдокией Вознесенского монастыря.
Краткость и кажущаяся неопределённость указаний подали повод предполагать существование Вознесенского монастыря ещё прежде смерти Дмитрия Ивановича, а порой и приписывать Евдокии не основание, а только возобновление обители, существовавшей прежде. При таком предположении приведённое выражение «монастырь честен возгради» принимается в смысле возобновления монастыря после пожара при нашествии Тохтамыша, обнесения его оградой и тому подобное. «Старость» появления Вознесенского монастыря давала повод называть его Стародевичьим, в отличие от возникшего позднее – Новодевичьего, за пределами Кремля. «Стародевичьими» иногда величали и другие женские монастыри в Москве. Но по неписаному «праву» это «звание» проницательные люди относили всё же к обители, основанной великой княгиней Евдокией.
Существуют и другие варианты даты основания обители.
Например, одно событие показывает нам такую возможность. А именно, известно, что около 1381 года (иногда указывают 1382 год) святитель Дионисий, архиепископ Суздальский (скончался в 1385 году), привёз из Константинополя две иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия» и, по преданию, передал одну специально для Вознесенского девичьего монастыря Московского Кремля (то есть монастырь уже существовал). Хотя, возможно, что эта икона попала в монастырь позднее, и сложилось предание, будто она была написана специально для обители (об иконе «Одигитрия» и её важности для Вознесенской обители далее).
Некоторые исследователи определяют дату основания обители так: 1386 или 1387 год. 1386-й называют Патриаршая, или Никоновская, Тверская и Симеоновская летописи (1387-й упоминается исследователями из-за разницы расчётов календаря). Здесь обитель упомянута уже как существующая. Ибо в ней состоялись похороны известного в то время человека, противника князя Михаила Тверского и союзника Дмитрия Донского Семена Ямы. Читаем: «6894 (1386)… Тое же зимы преставися раб Божий Семён Яма и положен на Москве в монастыри Святаго Вознесениа». Другого такого монастыря тогда не было! Хотя в некоторых списках летописи вместо Вознесения написано «в монастыри Святаго Афонасия». И это проясняет возникшие сомнения. Ведь в женском монастыре вряд ли бы похоронили, пусть даже и именитого, но светского деятеля «мужескаго полу». К тому же он тогда должен быть в числе первых из упокоившихся в данной обители, причём задолго до самой Евдокии и других представительниц правящего Московского дома. Поэтому упоминание в Никоновской летописи можно расценить как первое не для Вознесенского, а как раз для Афанасиевского мужского монастыря в Москве (в дальнейшем носившего название – Афанасиевско-Кирилловский монастырь, или «Афанасьевский монастырь, что подворье Кириллова монастыря»).
В споры внёс вклад исследователь А. А. Воронов в своей книге «Монастыри Московского Кремля». Он, ещё более запутывая тему, всё же приводит интересные сведения: «Во многих летописных сводах и списках: Уваровском, Никоновском, Ермолинском и других отмечено под 1389 г., что «июля 21 дня загореся от церкви Св. Афанасия и мало не весь Кремль погоре». Н. М. Карамзин в V томе «Российской истории» полагает, что речь в летописях идёт о храме Свв. Афанасия и Кирилла Александрийских в Вознесенском монастыре. Есть предположения, что Карамзин ошибался, так как рядом, через Спасскую улицу, находился древний Афанасьевский монастырь, известный уже в 1385 г., с храмом во имя Св. Афанасия, в то время как первые сведения о Вознесенском монастыре относятся только к 1393 г. Но имеются дополнительные свидетельства в пользу существования такой церкви и в Вознесенском монастыре, именовавшейся в архивных делах придельной у храма Вознесения Господня и имевшей самостоятельный причт, состоявший из священника и пономаря, которым выдавалась руга из дворцовой казны материалами или деньгами. Сгоревший в 1389 г. храм был восстановлен только в 1514 г. на средства ктитора Юрия Григорьевича Бобынина во имя тех же святых и на прежнем месте – там, где в XIX—XX веках находился дом для сторожей, между святыми воротами монастыря и настоятельским корпусом, что вполне соответствует месту безымянного храма на плане «Кремленаград». Нельзя исключить, что и здесь речь идёт о храме Афанасьевского монастыря. Как бы там ни было, этот храм Вознесенского монастыря на плане «Кремленаград» показан в виде небольшого одноглавого каменного сооружения с тремя апсидами».
То есть если Семён Яма всё-таки был похоронен не в Афанасьевском монастыре, а в храме Святого Афанасия Вознесенской обители, то, значит, обитель эта в 1386 году уже была! Другое дело – существовала ли уже тогда, в 1386 году, сама церковь Святого Афанасия, упоминания о которой относятся только к началу XV века (хотя позднее даже появится придел Афанасия и Кирилла в Вознесенском соборе Вознесенского монастыря). Есть даже версия, будто такой храм мог быть построен деревянным уже в 1366—1367 годах, в связи с тем, что свадьба великого князя Московского Дмитрия Ивановича с княгиней Евдокией Дмитриевной произошла в 1366 году в городе Коломне – 18 января, а это был день памяти святых Афанасия и Кирилла!
Однако и та, и другая версии ещё требуют детального рассмотрения.
Существует ещё одна версия основания Вознесенского монастыря, причём она была общепринятой в XIX столетии. Неслучайно в 1889 году в самой обители и в Москве торжественно отмечалось её пятисотлетие! Праздновали именно дату основания монастыря, были изданы брошюры по этому поводу. А чуть ранее, в 1869 году, журнал «Всемирная иллюстрация» выступил с утверждением: «В 1389 году скорбная вдова выстроила Вознесенский монастырь и сама удалилась под сень этой обители». Правда, дата празднования в 1889 году попала на 7 июля – день кончины самой святой Евфросинии Московской. И почему-то решили тогда эти две даты совместить. Если в 1889 году монастырю исполнилось 500 лет, то основан он был в июле 1389 года. А значит – сразу же после кончины мужа Евдокии – великого князя Дмитрия Ивановича Донского. То есть вполне разумно предположить, что заложен (основан) был монастырь в память об ушедшем из жизни супруге, когда сама княгиня задумалась о бренности жизни и о возможном своём упокоении.
Странно, но в наши дни почему-то почти не вспоминают об этом праздновании основания обители в 1889 году.
А мы обратимся ещё раз к «Всеобщему иллюстрированному путеводителю по монастырям и Святым местам Российской империи…» 1907 года (то есть, изданному тогда, когда обитель ещё существовала и была действующей):
«Вознесенский девичий монастырь… Основан после смерти князя Дмитрия Донского, супругой его Евдокиею в 1393 году (ещё одна дата основания, совпадающая с датой возведения по велению княгини храма Рождества Богородицы в Кремле! – К. К.-С.), которая незадолго до смерти приняла иночество под именем Ефросинии и скончалась в 1407 году, в каковой день чтится ея память. По другим предположениям Ефросинии лишь только приписывается возобновление обители. Мощи ея почивают под спудом в соборном храме монастыря во имя Вознесения. Монастырь сделался усыпальницей для великих княгинь. Каменная церковь, заложенная великой княгиней, была окончена лишь через 60 лет после ея смерти. После неоднократных пожаров церковь Вознесения возобновлена была ещё несколько раз в различный царствования. При Петре I монастырь подвергся капитальному ремонту под наблюдением капитана Баскакова. После пожара 1812 года монастырь был возобновлён и оставлен в том виде, как он существует и поныне.
В монастыре находятся три церкви: соборная Вознесенская, во имя преп. Михаила Малеина и Св. великомученицы Екатерины. Все три церкви с приделами. Из святынь собора замечательны: икона Вознесения, Благовещения, Св. Николая и др. Запрестольный крест с мощами. Напрестольные кресты дар Михаила Фёдоровича, серебряная чаша – дар Алексея Михайловича. Образ Божией Матери Казанския находится в тёплой Екатерининской церкви с древними украшениями.
В Вознесенском соборе похоронены почти все великия княгини, начиная от Евдокии и до восемнадцатого столетия. Древнейшая и богатейшая гробница самой основательницы. Помещается у правой стены церкви недалеко от боковой южной двери. Всех гробниц в соборе 35 (на самом деле их оказалось намного больше. – К. К.-С.).
В этом монастыре скончалась мать Михаила Фёдоровича, инокиня Марфа. Здесь же пребывала несколько времени Мария Мнишек, невеста Лжедмитрия, и инокиня Евдокия, первая супруга Петра Великаго. Монахини монастыря издревле занимаются различными рукодельными работами.
Ворота монастырския, по древнему обычаю, запираются во всю первую неделю Великаго Поста».
Год 1393-й не раз возникает в исследованиях историков. Упомянутый нами А. А. Воронов не утверждает, но пишет, следуя историку Зверинскому, без приведения источников: «Вознесенский монастырь был основан в 1393 г. вдовой Дмитрия Донского, великой княгиней Евдокией Дмитриевной, дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича, через четыре года после смерти в 1389 г. своего прославленного супруга, победителя монголо-татарских войск в битве на Куликовом поле, принявшей незадолго до своей кончины в 1407 г. иноческое имя Евфросинии. (Дата основания монастыря несколько отличается у разных исследователей в пределах 20 лет: 1387 – Сытин; 1393 – Зверинский; 1407 – Денисов)».
Подробности появления обители в Кремле ещё долгое время будут беспокоить исследователей. В своей книге «Седая старина Москвы» историк XIX века И. К. Кондратьев писал: «Но если прямые известия летописей об основании Евдокией Вознесенского монастыря не совсем определённы, то взамен их мы имеем другие места из летописей, хотя и не прямо указывающие на то, но тем не менее не оставляющие никакого сомнения, что Евдокия была не возобновительницей Вознесенского монастыря, а его первоначальной основательницей и что он не просто обновлён ею после пожара, а вновь устроен, основан, заложен. Так, в том же сказании о жизни Евдокии при описании шествия её в монастырь для пострижения мы читаем, что она «пойде из своего царского дому в монастырь, его же сама создала во имя Христова Вознесения». При описании её погребения опять говорится, что она положена была в церкви Вознесения, «в своём монастыре». Сама глава сказания о житии Евдокии, где так кратко и неопределённо упоминается об основании ею Вознесенского монастыря, имеет следующее заглавие: «О поставлении церквей и начале Вознесенского монастыря». Ясно, что летописец под словом «возгради» разумел основание, начало Вознесенского монастыря, а не возобновление его. Далее в летописях при описании преставления Евдокии читаем: «Того же лета (1407 г.) июля в 7 день преставися великая княгиня Евдокия и положена бысть в монастыре у Вознесения, иже сама заложила». В прологе жития Евдокии говорится, что она «пречестную иноческую обитель воздвиже во имя Боголепного Вознесения».
При таких ясных указаниях источников вышеприведённое выражение «Степенной книги» – «монастырь честен возгради» мы имеем полное право понимать и объяснять не в смысле возобновления, а в полном смысле основания и устроения новой обители, которой прежде, до Евдокии, не существовало».
То была, конечно же, заветная мысль великой княгини. Обстоятельства её жизни складывались именно в таком направлении.
«Предполагаемый монастырь, – пишет историк ХIХ столетия Кондратьев, – независимо от общей его цели, она хотела сделать местом своего успокоения от земных трудов и забот, тайным свидетелем своих подвигов в настоящей жизни и покоищем после смерти. Впоследствии её монастырь получил то же назначение, как и Архангельский собор: как последний был местом погребения московских великих князей, так и монастырь, основанный Евдокией, сделался усыпальницей для великих княгинь… Очень вероятно, что и это его последнее назначение заранее было предположено Евдокией».
Место для основания монастыря было избрано Евдокией у Фроловских ворот неслучайно. Избрание это имело своё основание: место это было памятно для вдовствующей великой княгини тем, что здесь она встречала после Куликовской битвы победоносного своего супруга и отсюда же провожала его на доблестный подвиг. На этом месте прежде были дворец Дмитрия Ивановича и терема Евдокии, откуда, по сохранившимся известиям, она смотрела вслед своему супругу, когда он с войском удалялся из Кремля. Надо полагать, что этот дворец, пострадавший в нашествие Тохтамыша, Евдокия решилась возобновить и обратить в кельи для инокинь. Такое предположение имеет тем большую вероятность, что в царствование Василия Дмитриевича царский дворец находился уже за Успенским собором. Там же находились и терема Евдокии.
«Вознесенский монастырь, – продолжает свой рассказ Кондратьев, – по крайней мере, к концу жизни его основательницы, стал вполне устроенным и совершенно готовым, так что она могла поступить в него, принять в нём пострижение и предаться подвигам духовной жизни.
Каменная церковь Вознесения, заложенная Евдокией незадолго до её смерти, по причине истребления её от пожара и по другим обстоятельствам окончена спустя 60 лет после её закладки, 20 мая 1407 года (день указан спорно, о чём далее. – К. К.-C.). Монастырь всё это время, однако же, существовал, и, конечно, во всё это время он не мог обойтись без церкви. Между тем в летописях не находится известий о её построении, так что, по летописям, в Вознесенском монастыре как будто вовсе не было церкви ни при жизни Евдокии, ни после её смерти до окончания заложенного ею храма Вознесения. Всего вероятнее, что на месте, где основан монастырь, существовала уже церковь, так что временно можно было обойтись без построения новой. Вспомнив, что на месте основанного Евдокией монастыря прежде были дворец Дмитрия Ивановича и её собственные терема, вовсе не будет предположением, что при дворце существовала и церковь, которая была дворцовой. С обращением дворцового здания в монастырское весьма естественно было и бывшую при нём церковь приписать к монастырю».
О трагической же судьбе Вознесенской обители уже в XX столетии мы расскажем в заключительных главах книги.
Постриг и кончина, споры о дате преставления
Вот венец ты оставляешь и весь царственный убор,
Постриженье принимаешь, делишь подвиги сестёр…
Стихи сестёр Вознесенской обители Московского Кремля о Евфросинии, начало XX в.
Сегодня княгиня Евдокия Дмитриевна Суздальская (или Донская) почитается Русской православной церковью как святая. При этом её называют иногда благоверной княгиней Евдокией, но правильнее – преподобной Евфросинией. Однако и «благоверная» – нельзя считать ошибкой. Будучи Евдокией, она вела благоверную жизнь, за что и стала почитаема. А когда постриглась в монахини, то после кончины, как и положено в церковной традиции, стала поминаться как преподобная, но уже не с мирским именем, а с иноческим. Можно даже сказать так, что в первом случае её помнят как великую княгиню Московскую, а во втором – как инокиню, монахиню, основательницу монастыря Евфросинию – также Московскую.
Преддверием пострига в обители стали события, о которых мы немного уже рассказали. Остановимся на них более подробно. Вот как их изложил тот же И. К. Кондратьев. Первая история нам уже известна, мы о ней рассказывали выше:
«После смерти супруга она отреклась от мира, изнуряя тело своё постом и молитвой и посвящая себя на дела благочестия и благотворения. Подвизаясь таким образом для единого Бога, она, однако же, старалась скрыть от людей свои добродетели. Следуя заповеди Спасителя «ты же, егда постишися, помажи главу твою и лицо твоё умый» (Матфей. 6, 17), преподобная всюду являлась с весёлым лицом, одевалась в великолепные одежды и даже носила по нескольку одежд, чтобы казаться тучной. Это было поводом к тому, что её стали обвинять в тщеславии, в любви к пышности и даже не пощадили её добродетели. Слухи эти дошли до неё, но она решилась перенести до конца жизни неправду клеветников и воздавать им за зло добром. Но клевета эта сделалась известна сыновьям… Призвав их к себе, она сказала им: «Не смущайтесь, любезные дети мои! Я с радостию хотела претерпеть Христа ради всякое уничижение и людское злословие; но, увидев одного из вас смутившимся, решилась открыть вам то, чего не открыла бы никогда и никому в мире. Узнайте, дети мои, истину, и да не смущают вас несправедливые обо мне клеветы». Тут она открыла часть своей одежды на груди, и сыновья увидели, что от чрезмерного воздержания, от усиленных трудов и подвигов тело её иссохло, почернело и плоть прильнула к костям. Братья, её дети, ужаснулись и стали просить у неё прощения».
Но непосредственно перед пострижением в монахини с княгиней Евдокией произошло несколько очень знаменательных событий. Одно из них связано с тем, как уверяет повесть «В мале сказание», что она сподобилась видеть явление ангела, возвещавшего ей о близком её конце.
«Когда она увидала небесного вестника, – пишет Кондратьев, – то так поражена была пресветлым его видом, что не могла говорить и несколько дней пребывала в молчании. Только знаками она показывала, чтобы призвали иконописца, который бы изобразил на доске виденного ею ангела. Когда образ был написан и принесён к Евдокии, она поклонилась изображённому на нём ангелу, но не могла сказать ни одного слова и знаками показывала, чтобы написали икону ангела другим образом. Вновь написанное изображение также представляло не того ангела, который являлся ей в видении. Она воздала Богу поклонение, но язык оставался нем. Наконец иконописец изобразил на иконе архистратига Михаила. Едва принесён был этот образ, как Евдокия, воздав ему поклонение, заговорила».
«Степенная книга» заканчивает этот рассказ такими словами: «Сего же образа наипаче любезно почиташе, ему же покланяяся и целуя, и постави его в церкви своей Рождества Пресвятыя Богородица, идеже и доныне стоит». Речь, как принято считать, идёт об иконе «Архангел Михаил с деяниями ангелов» конца XIV века (около 1399 года). Именно её заказала написать сама Евдокия. Икона сохранилась, хотя история образа была продолжительной. Документы показывали, что она находилась ещё при жизни княгини Евдокии в храме Рождества Богородицы (на Сенях), куда она, по преданию, её отнесла сама, и уже после её кончины, позднее – в Архангельском соборе Московского Кремля. После XVIII столетия располагалась там по правую сторону от Царских врат, в местном ряду. Считается, что икону подносили к смертному ложу княгини. Со временем лик изменился, но в 1946 году был заново раскрыт. Это одна из древнейших икон в иконостасе Архангельского собора.
Другая история также связана с предвидением княгиней близости предвозвещённой кончины, когда Евдокия решила исполнить своё желание вступить в монастырь, отлучиться от временного царства и облечься в иноческий образ. Повесть «В мале сказание» указывает на несколько чудес, произошедших в тот день, когда Евдокия решила отправиться в монастырь. Дорога была короткой – от княжеского терема у Соборной площади до обители у Фроловской (Спасской) башни. По-современному – 10 минут ходьбы. Но именно за это короткое время случилось многое.
По «Степенной книге» (глава «О прозрении слепаго, и о исцелении недужных») произошло следующее. Сначала – исцеление слепца. «И поиде из царскаго дому своего в монастырь, его же сама создала во имя Христова Вознесения. Идущи же ей от великия соборныя церкви Пречистыя Богоматери, и се некто слепец на пути слыша, яко Великая Княгиня грядёт, в монастырь, и возопи гласом великим, глаголя: о госпоже боголюбивая Великая Княгиня наша! Нищих питательница, мы нищи всегда всяк довод пищи и одёжи имехом от тебе, и ныне мене слепотою многа лета стражущаго не презри, но сотвори со мною милость, якоже обещася дата ми прозрение. Ибо видех тя в нощи сей во сне глаголющу ми: заутра дам ти прозрение. И се ныне время ти есть исполнит обещание своё. Блаженная же идый яко не внимаше глаголанным от него, и яко некоея ради потребы сверже с руки своея на землю рукав срачицы своея; слепый же ощути рукав ея в руку свою, и трепетом одержим бе, но обаче верою и любовию побежашеся, дерзну утерти рукавом ея слепоту-ющая своея очёса, и абие прозре, и славяше Бога».
И. К. Кондратьев завершает изложение этой истории рассказом о случившемся после прозрения слепого: «в то же время Евдокия исцелила до тридцати человек недужных, страдавших различными болезнями».
Завершим рассказ о чудесах, связанных с событиями пострижения и кончины великой княгини Евдокии, историей из «Степенной книги», из главы «О свещах, иже сами возгорахуся у гроба святыя». Этот текст объясняет, почему в скором времени стало развиваться почитание святой:
«Не токмо бо в житии сем живущи ей тако прославлена бысть от Бога, наипаче же и по преставлении ея. Многажды у гроба ея свеща сама о себе возгарашеся; молитвами же ея в том монастыри ея и оттоле вся благая множахуся и всемя потребными изобительствуя, в нём же есть ныне честное общее жительство благодатию Христовою».
Самовозгорание свечей, как известно, происходило и у гробницы князя Дмитрия Донского, и затем – у гроба его супруги Евдокии, святой Евфросинии Московской. Об этом русские летописи свидетельствуют не раз.
Действительно, тогда до кончины Евдокии оставалось недолго. По всей видимости, княгиня была уже недужна или ощущала некоторую дряхлость. Хотя это только лишь предположение. Но она предчувствовала близкий исход, а потому и совершила необходимые для этого действия.
В те два года многое происходило как будто в определённое время. События были и добрые, и тревожные.
В 1406 году скончался митрополит Киприан, оставив Московскую Русь на некоторое время в церковном безначалии. Из Орды пришла весть, что новый правитель Едигей со своим сыном убили злейшего врага Руси – хана Тохтамыша, и уничтожили его войско.
Сын Евдокии великий князь Василий I составляет первую свою духовную грамоту – завещание, где предполагает передать власть своему сыну, а не брату – Юрию (как это было завещано их отцом и мужем Евдокии – Дмитрием Донским). Эта первая открытая попытка изменения в порядке престолонаследия в Московской (Владимирской) Руси показала ещё раз, что местоблюстительница престола великая княгиня Евдокия уже не могла по старости сдерживать возникающие споры о власти среди своих сыновей.
Типографская летопись конца XV – начала XVI века, дошедшая до нас в двух редакциях – Синодальной и Академической, отмечает под 1407 годом: «Бысть знамение на Похре: иде кровь от иконы святая Богородица. Месяца нуля в 7 день преставися великаа княгини Евдокея Дмитриева Ивановича, нареченная в мнишеском чину Ефросиния, и положена бысть в монастыри Вознесениа, юже сама заложи».
То есть 7 июля 1407 года почила на 54-м году жизни инокиня Евфросиния. Похоронили её точно в указанном ею месте, где она заложила только что каменный собор.
Вышеупомянутое событие – кончина Евдокии-Евфросинии – могло бы остаться не особо замеченным для потомков. Скончалась пусть даже и весьма уважаемая великая княгиня, но таковых было немало на Руси. Но если посмотреть на всеобщую историю этого времени свысока, словно «приподнявшись» над простыми бытовыми фактами, то в событии этом можно заметить гораздо более серьёзные обстоятельства и происшествия, которые могли бы привлечь достойное внимание пытливого исследователя или любителя истории.
В самом деле, 1407 год от Рождества Христова и несколько ему предшествующих были весьма заметными. И какие люди, какие имена «украшали» эпоху только своим участием в этих событиях!
Двух лет не прошло, как неожиданно скончался самый страшный и известный современникам человек, имя которого наводило ужас на любого жителя почти половины планеты, – Тимур, иначе называемый Тамерлан. «Великий Хромец» завоевал большую часть мира, заставил преклонить колени Золотую Орду, потрепал европейцев, подавил азиатов, чуть не покорил Русь и уже отправился окончательно подчинять себе Китай, когда вдруг внезапно смертельно заболел и умер.
В Риме взошёл на престол новый папа – Григорий XII, правивший затем Ватиканом почти десятилетие. В Англии приняли знаменитый «Статут о сожжении еретиков», а некая тамошняя компания «купцов-авантюристов» впервые получила королевскую хартию для купли-продажи шерсти и сукна по всей Европе, что открывало новую страницу в истории мировой торговли.
Флоренция захватила, наконец, логово своего старого врага – город Пизу. В Германии открылся Вюрцбургский университет – гнездо образования в средневековом мире. Великий китайский флотоводец Чжэн Хэ заставил платить дань своему императору всё побережье океана – от Индокитая до Африки. В Париже произошло убийство Людовика Орлеанского, знаменовавшее ещё более кровавые повороты в охватившей страну гражданской войне.
Золотая Орда была ослаблена смутой, престол в течение одного года переходил от хана к хану, сначала – к Пулату, затем – к Джеляль-эддину и вновь – к Пулату. Великий князь Литовский Витовт угрожает Москве, подбирается к столице Руси вплотную, присоединив к своим владениям княжества Смоленское и Вяземское.
В 1407 году впервые в русской истории появляется летописное упоминание о Сибири и Сибирских землях – так всё более обширным становился в то время кругозор жителей государства. Прошло чуть больше года, как иконописцы Феофан Грек, Андрей Рублёв и Прохор с Городца расписали Благовещенский собор Московского Кремля, и вслед за этим Рублёв с Даниилом Чёрным начали роспись Успенского собора во Владимире.