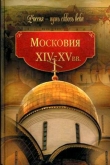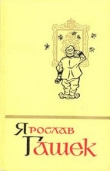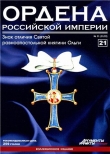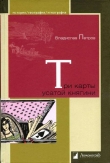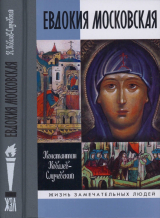
Текст книги "Евдокия Московская"
Автор книги: Константин Ковалев-Случевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Прославление благоверной княгини
Не токмо бо в житии сем живущи ей тако прославлена
бысть от Бога, наипаче же и по преставлении ея.
В мале сказание о блаженной великой княгине Евдокии, XVI в.
Не прошло и десятилетия после кончины, как слух о благоверной жизни княгини Евдокии распространился по Русской земле, к мощам её потянулись люди, уверовавшие в святость преподобной, происходившие чудеса подтверждали их веру, местное почитание начинало перерастать во всеобщее. Хотя летописи и другие документы не баловали потомков упоминаниями о её житии, но не истекло ещё даже столетия, как народ поминал её, можно сказать, как святую.
Возможная же официальная канонизация затянулась. К тому времени, когда об этом заговорили вновь, – многое уже забылось, причём настолько, что материал для Жития собирали по крупицам.
И вновь забежим немного вперёд. В конце XV столетия начинается так называемое местное почитание святой. Это значит, что, несмотря на отсутствие официальных церковных решений, народ стремился к месту, связанному с жизнью или деятельностью почившей подвижницы. Фиксируются – устно или письменно – различные события, с этим связанные, а также чудеса. Они приводили к исцелению от болезней, порой неизлечимых.
Когда количество таких событий возросло и не говорить о них стало нельзя, речь пошла о канонизации. Относят это к XVI веку, когда митрополит Макарий предпринял множество действий по канонизации известных русских святых. Это означало, что будет назначен определённый день памяти о святой, который внесут в церковный календарь, затем будут составлены её Житие, Служба о ней, а также написаны её иконописные лики (образы) как святой и даже освящены церкви или приделы церквей в её честь. Именно тогда появилась повесть о княгине Евдокии, названная «В мале сказание», которая стала прототипом или даже вариантом её Жития. Затем повесть вошла в Лицевой летописный свод, появились изображения княгини в миниатюрах, её стали называть «благоверной». Но, увы, тогда эта работа не была доведена до конца. Канонизация (в отличие от местного почитания) не состоялась, хотя некоторые исследователи с этим не согласны и считают, что канонизация тогда всё-таки произошла. Например, Л. Е. Морозова в своём труде «Роль великих княгинь в становлении русского централизованного государства» пишет: «Православная церковь оценила заслуги великой княгини, в иночестве – Евфросинии. В 1547 г. она была канонизирована». Увы, ссылок на источники мы не видим. Так же, как не видим указания источников в труде А. А. Воронова «Монастыри Московского Кремля», где утверждается, что Евдокия «была канонизирована на одном из Макарьевских соборов в XVI в.».
После воцарения династии Романовых, в XVII и XVIII столетиях, большим вниманием продолжал пользоваться московский в честь Вознесения Господня женский монастырь в Кремле. Он был тогда на пути самых массовых и народных крестных ходов (о них далее). Тогда и поминали его основательницу Евдокию.
Возрождение более пристальной памяти о княгине произошло в начале XIX столетия. Возможно, после 1807 года, когда с момента её кончины прошло 400 лет. У нас нет сведений о том, как и в каком масштабе отмечалась эта дата в те дни. Но особое почитание Вознесенской обители было налицо. Именно тогда, в 1821—1822 годах, появилась новая рака над её гробницей с дарственной надписью (слова «мощи» в надписи на раке не было), а над ней была поставлена икона – образ преподобной, которая при устроении раки была обложена богатой серебряной ризой. Затем, в течение короткого времени, обустройство раки менялось. Менялись и образы над нею. В 1872 году раку над гробницей княгини сделали другой, уже с балдахином, почитаемую икону святой, висевшую у южной грани южного столпа, украсили окладом из золочёного серебра, а ризу убрали драгоценными камнями. В то самое время над ракой появилась сохранившаяся на фотографиях композиция «Исцеление слепого преподобной Евфросинией», по сюжету, взятому из «В мале сказания» («Чудо о слепце»). Создал её иконописец Н. М. Сафонов.
Как уже говорилось, появились и Служба, и акафист Евдокии Димитриевне, а затем стали появляться её жития, в основу которых также лёг текст повести «В мале сказание». Народ уже почитал её как святую, благоверную и преподобную защитницу Москвы.
Так с какого же времени мы можем считать официальную канонизацию преподобной Евфросинии Московской состоявшейся? Однозначно ответить на этот вопрос пока не получается. Но есть косвенные свидетельства, приближающие нас к ответу. Например, появление новой раки в 1821—1822 годах и упоминание современником событий, историком А. Е. Викторовым, о постоянно проводящихся в то время в Вознесенском монастыре панихидах по Евдокии-Евфросинии (он, как мы помним, в 1857 году даже сослался на некий рукописный документ с последованием такой великой панихиды) могли бы показать, что вот – она уже канонизирована. Но не всё так просто. По этому поводу другой историк – Е. Е. Голубинский уже в 1903 году сделал весьма существенные замечания.
Голубинский считал, что необходимо было различать неофициальное почитание и местную канонизацию. Он пишет: «В первом издании книги (речь о книге Голубинского «История канонизации святых в Русской Церкви». – К. К.-С.) мы поставили её в числе святых; но теперь мы имеем в руках книжку: «Великая княгиня Евдокия, во иночестве преподобная Евфросиния», напечатанную в 1857-м году, из которой узнаем, что память её празднуется панихидами по ней и, следовательно, что она не есть канонизованная святая, а только почитаемая усопшая». Он упоминает здесь книгу А. Е. Викторова.
Развивая свою мысль, Голубинский приводит интересный документ – письмо митрополита Санкт-Петербургского Серафима к митрополиту Московскому Филарету от 20 ноября 1823 года: «В рассуждении благоверной княгини инокини Евфросинии я говорил с членами Св. Синода: но решительного от них на сие ответа не получил. Говорили pro и contra, представляя подобный пример благоверной же княгини инокини Анны, в Кашине почивающей, которой также пели молебны, даже церкви во имя её в некоторых местах освящены были, но после один архиерей запретил петь молебны, и теперь, как вам известно, поют панихиды, и, что всего страннее, читают молитву про конце оные такую, которая читается только одним святым. Есть ли угодно знать вам моё по сему предмету мнение: то я советую вам отписать о сём обстоятельно к кн. А. Н. Г. (Имеется в виду князь Александр Николаевич Голицын, на тот момент возглавлявший Министерство духовных дел и народного просвещения, в его компетенции были и вопросы канонизации. – К. К.-С.) Может быть, он переговорит о сём деле со мною, а вероятно – доложит и государю. Вреда из сего никакого последовать не может». То есть автор письма сожалеет, что не проведена настоящая, официальная канонизация великой княгини Евдокии. Голубинский комментирует: «В письме даётся знать, что митр. Филарет желал и искал, чтобы княгине Евфросинии петы были молебны вместо панихид о ней или чтобы она признана была местною святою, и что он ссылался при сем на прежнее время, когда княгине петы были молебны».
Казалось бы – горестное заключение, но с надеждой на ближайшее решение этой проблемы. Однако завершает комментарий Голубинский удивительным выводом, который – что редкость – является прямым указанием на момент канонизации святой. Он пишет следующее: «Сообщено нам за достоверное, что в настоящее время, не позднее как с 1869-го года, княгине поются молебны: следовательно, когда-то после 1857-го и до 1869-го года она причтена к лику местных святых (собственно – восстановлена в их лике)».
Год 1857-й понятен – это год выхода в свет книги А. Е. Викторова. А вот слова Голубинского о «восстановлении в лике» святых – это очень интересно. Ибо они вновь намекают на более раннюю канонизацию. Хотя остаётся лишь догадываться – какие времена прежнего почитания святой Евдокии-Евфросинии историк имел в виду.
Мнение Голубинского может поддержать документ – опись имущества Вознесенского монастыря за 1910 год. По этой бумаге в обители хранились иконы с изображением святой Евфросинии только XIX или XX столетий. Если бы официальная канонизация произошла раньше, более ранних икон было бы много.
Есть ещё один интересный факт, связанный с нашей темой, на который уже обратили внимание исследователи творчества писателя Ф. М. Достоевского, а мы его подробно рассмотрим. Он может показаться, на первый взгляд, фантастичным. Но…
Этот факт тоже связан с именем святой Евфросинии. Как известно, в 1866 году Достоевский создал роман «Преступление и наказание». Действие романа начинается так: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки…» Казалось бы, ничего особенного. Но можно заметить несколько удивительных совпадений и ассоциаций, которые писатель, видимо, неспроста внедрил в повествование. Давайте первоначально предположим, что сюжет «Преступления и наказания» начинается указанным июльским вечером, но уточним – например, 7 июля. Раскольников мысленно обращается к сестре: «Знаю и то, о чём ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чём молилась перед Казанскою Божией Матерью, которая у мамаши в спальне стоит…». И вот тут возникает множество аналогий. Рассмотрим их.
Во-первых, 7 июля – день почитания Влахернской иконы Божией Матери, а это канун празднования Казанской иконы (Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, 8 июля). То есть вечер этого дня упомянут весьма уместно, со знанием автором православного богослужения. Кроме этого добавим, что в XVIII и в XIX веках в Вознесенском кремлёвском женском монастыре была отдельная церковь в честь Явления Казанской иконы Богоматери, построенная на средства княжны Иоанны Барятинской, в схимонахинях Анны, при игумении Евдокии (!) Челищевой. Во-вторых, 7 июля – это день почитания Евфросинии Московской – великой княгини Евдокии. В-третьих, Влахернская икона Божией Матери была обретена в Иерусалиме императрицей Евдокией (!) и принесена в Константинополь, где затем императрицей Пульхерией поставлена в церкви Влахернской.
А теперь напомним: имя сестры Раскольникова в романе – Евдокия (Авдотья), а имя его матери – Пульхерия! Случайное ли это совпадение?
Продолжим.
Как известно, из Влахернской церкви Константинополя епископом Дионисием Суздальским в 1381 году на Русь были присланы иконы – списки со святынь, одна из которых – почитаемая «Одигитрия». Именно эта икона была передана затем великой княгине Евдокии, супруге Дмитрия Донского, помещена ею в основанном ею же Вознесенском женском монастыре, а позднее, переписанная известным иконописцем Дионисием, стала главной святыней этой кремлёвской обители. То есть время происходящих событий – начало июля – также выбрано автором романа неслучайно.
И вот тут, в-четвёртых, в финале романа Достоевского сестра героя – Авдотья (Евдокия) Романовна – становится супругой Дмитрия (!) Разумихина. Возникает пара – Дмитрий и Евдокия…
Во всей этой цепи есть что-то задуманное автором: начало июля – Казанская и Влахернская иконы – Пульхерия – Евдокия и Дмитрий…
А теперь главное – герой романа – Родион Раскольников – является братом Евдокии (Авдотьи) Романовны. Достоевский описывает её так: «Авдотья Романовна была замечательно хороша собою – высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, – что высказывалось во всяком жесте её и что, впрочем, нисколько не отнимало у её движений мягкости и грациозности». Не исключено, что отчество является намёком на особое происхождение героев. И если предположить, что здесь есть ассоциация с великой княгиней Евдокией – супругой Дмитрия Донского (естественно, с Рюриковичами, а не с Романовыми, но всё же…), то тогда будет уместно вспомнить – кто же был братом или братьями той, исторической Евдокии (Авдотьи)! А братьями её были Василий и Семён Дмитриевичи, которые после Куликовской битвы (вспомним Родиона Ослябю!) в 1382 году участвовали в походе хана Тохтамыша на Москву – против своей же сестры. Именно они выманили защитников города на переговоры, гарантировав им безопасность от ордынцев. Москвичи открыли ворота. Однако обещание не было выполнено, ордынцы убили переговорщиков и ворвались в город. Москва подверглась страшному погрому, более 24 тысяч жителей были убиты, город полностью сожгли… Тогда сама их сестра – великая княгиня Московская Евдокия – чудом спаслась со своими детьми от нападавших, то есть от своих братьев! Трудно ли было автору найти или придумать более жутких прототипов персонажа, которые, как Раскольников, преступают небесные законы и готовы на преступление?
Для чего мы обратили внимание на данные факты? Можно лишь предположить, что в 1866 году, когда Достоевский создал роман, в промежутке между 1854 и 1869 годами, как мы уже говорили, видимо, уже состоялась официальная канонизация преподобной Евфросинии Московской. Само это событие, возможно, произвело на писателя некоторое впечатление. По этой причине он внёс свой код имён и времён в происходящие «космические» деяния героев романа.
Всё это ещё требует расследования силами историков и литературоведов. Но мы видим ещё одно косвенное подтверждение внимания общественности России к имени святой как раз в эти годы, что – также косвенно – указывает на время её возможной канонизации.
Во всяком случае уже в 1889 году в дни празднования 500-летия основания обители (подробнее о событии ниже) журнал «Исторический вестник» отмечал: «Храм, начатый постройкой основательницею монастыря, великою княгиней московскою Евдокиею Дмитриевною, супругою Дмитрия Ивановича Донского, в иночестве Евфросинией, причисленною к святым и погребённою в этом храме…». То есть здесь она уже официально названа канонизированной святой.
К началу XX века происходит пик почитания святой Евфросинии Московской. Важная деталь! Вплоть до этого времени основательница Вознесенской обители являлась единственной из всех женщин Московского великокняжеского дома (не путать с более поздними – Царским или Императорским домом), которая была причислена к лику святых!
Особенно это было замечено в год 500-летия со дня её кончины – в 1907-й. Тогда память о ней приняла общенародный масштаб. Газета «Русское слово» за 7 июля 1907 года сообщала: «Вчера исполнилось 500-летие со дня основания Вознесенского монастыря. Обитель построена Великой княгиней московской Евдокией, в иночестве Евфросинией, супругой кн. Дмитрия Донского». Почему «вчера», то есть 6 июля (а не 7 июля), – пусть останется на совести корреспондента, ведь в те времена уже установилась дата почитания – 7 июля. Кроме этого, корреспондент явно перепутал «основание Вознесенского монастыря» и день кончины святой. Ибо, как мы уже говорили ранее, 500-летие со дня основания обители уже отмечалось в 1889 году!
Итак, 5-7 июля 1907 года в Москве было организовано празднование по случаю 500-летия кончины преподобной Евфросинии. В торжествах приняли участие митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский), епископы Серафим Можайский, Трифон Дмитровский, Евдоким Волоколамский и Анастасий Серпуховский. От Вознесенского монастыря – игумения Евгения, настоятель храмов обители иерей А. И. Пшеничников (автор труда по истории монастыря), сёстры, духовенство и прихожане московских храмов, а также многочисленные делегации из многих городов России.
Богослужения происходили непрерывно, в течение всех трёх дней. Второй день был ознаменован Крестным ходом из Вознесенского монастыря в Архангельский собор Московского Кремля. Кто-то из современников отметил: «Казалось, что сама Преподобная, снова, как и 500 лет тому назад, совершала свой благодатный обход древлестольной Москвы». Участники Крестного хода несли 58 тяжёлых хоругвей, в большинстве изготовленных сёстрами монастыря, а также икону «Вознесение Господне», вышитую ими же шелками, как предполагается, – по образцам из известного пособия придворного иконописца В. П. Гурьянова. Икону торжественно возложили на гробницу супруга великой княгини Евдокии – Дмитрия Ивановича Донского. Поразили всех принявшие участие в празднике почти 500 хоругвеносцев, каждый из которых получил выпущенный для торжеств памятный жетон.
Вечером того же дня в Вознесенской обители служили всенощное бдение. Молящиеся предстояли с зажжёнными свечами. Утром митрополит Московский и Коломенский Владимир отслужил литургию, по окончании которой раздавали юбилейные медали, образки и листки с жизнеописанием святой.
К юбилею как раз и выпустили памятные медали с изображением самой княгини Евдокии на лицевой стороне, а на обороте было помещено изображение Успения Богородицы или же образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (по приделу в диаконнике Вознесенского собора). Одной из памятных икон того времени можно предположительно считать образ святой преподобной Евфросинии Московской в полный рост на фоне обители (ныне хранится в иконостасе храма Воскресения Христова в Сокольниках в Москве).
В праздновании 1907 года приняла особое участие великая княгиня Елизавета Фёдоровна, будущая преподобномученица. Вообще, гробницу святой Евфросинии посещали императоры Александр I и Александр II с супругой. Дважды в монастыре бывал император Николай II, также вместе с супругой. Тогда Николай Александрович беседовал с игуменьей Вознесенской обители Евгенией, посещал детский приют для девочек-сирот, организованный при обители. Известно, что сёстры – императрица Александра Фёдоровна и великая княгиня Елизавета Фёдоровна – вместе с монахинями Вознесенской обители вышивали в кремлёвских покоях бархатные покровы для храма. В 1900 году великий князь Сергей Александрович в письме отметил: «Днём ездили с царями в Вознесенский женский монастырь, где прикладывались к мощам и все осмотрели». Император Николай II записал в дневнике в 1903 году: «Поехали в Вознесенский женский монастырь поклониться плащанице. Осмотрели гробницы цариц и великих княгинь».
Как известно, вместе с супругом, великим князем Сергеем Александровичем, великая княгиня Елизавета Фёдоровна не раз бывала в кремлёвском Вознесенском монастыре. После убийства мужа террористом в 1905 году она приходила туда на молитву о его упокоении. Великий князь был погребён в Кремле, рядом с Вознесенской обителью, – в Чудовом монастыре. Великая княгиня после кончины супруга посвятила себя делам милосердия и благотворительности. Она стала раздавать и продавать свои драгоценности. 24 мая 1907 года на вырученные средства Елизавета Фёдоровна приобрела в Замоскворечье, на Большой Ордынке, земельное владение с постройками и садом – у купцов Соловьёвых, один из которых – К. М. Соловьёв – известен был как собиратель книг по истории России. Здесь затем будет открыта Марфо-Мариинская обитель (Обитель Милосердия). Ещё чуть ранее, 21 мая 1907 года, в Петербурге и Иерусалиме великая княгиня была среди организаторов празднования 25-летая Императорского православного палестинского общества. Император Николай II тогда записал в дневнике: «В 3 часа во Дворце состоялось празднование 25-летия Палестинского Общества».
Часть своих драгоценностей великая княгиня передала заранее в Вознесенский монастырь, они были использованы для украшения покрова святой Евфросинии Московской. Для празднования же 1907 года Елизавета Фёдоровна заказала гирлянды из роз и васильков для украшения раки с мощами святой (она сама приняла участие в украшении икон и раки цветами). На поверку цветочных гирлянд оказалось слишком много, поэтому ими украсили весь иконостас в соборном храме обители. Также великая княгиня Елизавета Фёдоровна пожертвовала к мощам святой Евфросинии золотую лампаду.
Она также приняла участие в Крестном ходе с иконой Вознесения, который направился из Вознесенской обители в Архангельский собор для возложения иконы на гробницу мужа Евдокии – князя Дмитрия Донского. Вечером в обители прошло богослужение – всенощное бдение, а на следующее утро литургию служил московский митрополит Владимир (Богоявленский). После чего всем участникам торжества были розданы юбилейные медали, образа и печатные листки с Житием преподобной Евфросинии Московской. Был также организован Крестный ход на Красной площади, на который пришло множество народа. Здесь было публично оглашено послание от государя в честь торжества.
Нельзя не сказать о некоторых памятных вещах, связанных с жизнью монахинь Вознесенской обители и имеющих отношение к дням празднования памяти преподобной Евфросинии Московской в 1907 году. Сёстрами обители было изготовлено также праздничное полное архиерейское облачение, по подолу которого помещена вышивка с текстом: «Сие облачение принадлежит Московскому Вознесенскому монастырю, сработано сёстрами обители при игумении Евгении Виноградовой в память пятисотлетия памяти святой преподобной княгини Евфросинии».
О знаменитом покрове на раку святой княгини Евфросинии, также изготовленном к празднеству, уже хорошо известно. Сёстры приготовили его с изображением святой в полный рост. По углам покрова вышиты были изображения святителя Алексия Московского, преподобного Сергия Радонежского, благоверного князя Даниила Московского и супруга Евдокии – великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Приведём здесь полный текст, который был вышит на нём сёстрами-золотошвеями:
«Святая Преподобная княгиня Евфросиния, чада обители твоея, тобою созданныя, и в пятих вецех прешедших, молитвами твоими покрываемая, ныне благодарно исповедающеся благохваления Господеви приносят и святую твою память светло торжествующе молебно ти взывают: и в грядущая времена и лета не престани покрывати нас молитвами твоими и помогати нам в жизни нашей и во исходе душ наших и в будущем веце. Аминь. 1407—1907 года июля 7 дня».
В те дни Вознесенский монастырь получал множество подарков. Один из них был привезён из Казанской Головинской обители. То была икона преподобной княгини Евфросинии, вышитая шёлком и золотою нитью. На иконе сёстры поместили венец, украшенный жемчугом и недорогими камнями. А на обороте сохранялась надпись: «1907 года июля 7 дня в память 500-летия со дня преставления Св. преподобной княгини Евфросинии Московской приносится сия икона Московскому Вознесенскому монастырю от настоятельницы Казанского Головинского монастыря игумении Евгении с сёстрами».
Среди других даров, которые получил монастырь в честь юбилея, были и другие иконы, а также лампады, хоругви, подсвечники и богослужебные книги. Одним из таких приношений стало Евангелие, полученное в дар от Крестовоздвиженской Иерусалимской обители Подольского уезда Московской губернии. На лицевой стороне Евангелия было помещено шитое шелками по белому муару изображение Христа Спасителя, а с оборотной стороны – также шитая шёлком монастырская икона дарителей – Божией Матери «Иерусалимская». Известно, что игумения Екатеринбургского Тихвинского монастыря преподнесла в честь праздника икону Святой Софии, которая была изготовлена из уральских самоцветов.
Также к торжествам в самой обители были подготовлены многочисленные памятные вещицы, которые распространялись среди паломников. То были медали с изображением собора Вознесенского монастыря и надписью: «В память пятисотлетия блаженной кончины преподобной Евфросиньи, 7 июля 1907 года», брошюры с житиями Евфросинии и историческим описанием монастыря, иконы, крестики, открытки или образки с изображением самой святой.
После завершения празднования в июле 1907 года митрополит Владимир, игумения Евгения и сёстры монастыря отправили на имя императора Николая II телеграмму: «Благочестивейший государь! Московский Вознесенский монастырь, совершив церковное торжество в память исполнившегося пятисотлетия со дня блаженной кончины своей основательницы преподобной Евфросиньи, великой княгини московской, возносил усердные молитвы ко Господу, да сохранит неисчерпаемою милостию Своею драгоценные дни Ваши и всего царствующего дома во благо Церкви Православной, на славу и счастье нашей дорогой Родины». Газета «Новое время» за 11 июля 1907 года в разделе «Московская хроника. По телефону» разместила следующую информацию об ответе монарха: «Сегодня митрополит московский Владимир по случаю юбилейных торжеств в Вознесенском монастыре получил от Государя Императора следующую Высочайшую телеграмму: «Сердечно благодарю Вас, владыко, и прошу передать игумении и всем сёстрам св. Вознесенской обители Мою искреннюю благодарность за молитвы. Николай».
Иконописные изображения преподобной Евфросинии Московской сегодня широко известны. С XVIII столетия было принято изображать святую на фоне основанного ею монастыря. Сложившиеся традиции привели к установлению некоторых правил. Вот одно из них.
В 1910 году было издано «Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в порядке дней года» (В. Д. Фартусов). В списке святых, которых вспоминают 7 июля, мы находим следующую запись: «Святая преподобная Евфросиния, в миру Евдокия, княгиня Московская, типа русскаго, преклонных лет, чрезвычайно худа, лицом красива; одежды монашеския. Скончалась в 1407 году. Можно ей писать хартию с ея изречением: «Аз хощу всякаго суесловия поношение с радостию претерпети».
Под хартией имеется в виду листок, который держит изображённая на иконе святая, на нём и должно или могло быть начертано данное изречение. Откуда оно? В данном случае мы имеем интерпретацию текста из «В мале сказания о Блаженной Великой княгине Евдокии, в иночестве Евфросинии» (хотя мы не можем отвергать версию, что автор книги имел другой вариант текста житийной повести). В оригинальном виде мы читаем сначала так: «хотяше блаженная с молчанием до конца претерпевати, иже о ней неправедное тайноглаголание». А затем приводятся слова самой Евдокии, как прямая речь: «Аз с радостию желах до конца претерпевати Христа ради всяко уничижение и лже словесие человеческое». Текст этот является частью главы «О увещании чудесном благородном сыновом», в которой рассказывается, как по суесловию и поношению смутились сыновья великой княгини, услышав, будто она ведёт неправедную жизнь, но она показала им истязаемую и «благородную плоть свою» как доказательство духовных подвигов.
Во всяком случае к началу XX века и в наши дни распространились самые разнообразные изображения святой, которые вошли в широкий обиход. Среди них почти обязательный лик преподобной Евфросинии Московской в ряду почитаемых духовных подвижников на иконах: «Собор Радонежских святых» и «Собор Московских святых», что соответствует песне канона русским святым: «Радуется славный град Москва, и веселия исполняется вся Россия»!