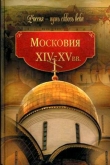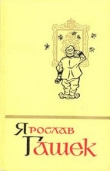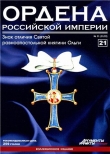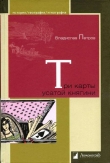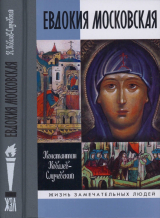
Текст книги "Евдокия Московская"
Автор книги: Константин Ковалев-Случевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
В случае с княжной Евдокией всё устроилось так, как и предположить было не просто.
Глава 2
КНЯГИНЯ. ЗАМУЖЕСТВО
Жених – внук Ивана Калиты
Князь сей Дмитрий родился от именитых и высокочтимых родителей.
Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича,царя русского XIV—XV вв.
Действительно, русские летописи впервые упоминают княжну Евдокию, дочь суздальского и нижегородского князя Дмитрия Константиновича, только в 1366 году, в возрасте тринадцати лет. Возможно даже, что ей было ещё двенадцать, так как свадьба состоялась 18 января. И дело не в том, что летоисчисление на Руси было либо мартовским, либо сентябрьским. Просто мы не знаем точно её дня рождения.
Во всяком случае, жених – Дмитрий Иванович – сватался или приезжал к отцу невесты для переговоров о женитьбе ещё до того, как ей исполнилось 13 лет.
Летописи так и пишут – о свадьбе двух молодых людей. Собственно, самому Дмитрию тогда было лишь шестнадцать лет. Первых детей княгиня начнёт рожать только спустя несколько лет.
Два слова о возрасте, при котором невесты тогда вступали в брак. Был ли он ранним для княжеских семей? Например, в 1349 году дочь Симеона Гордого – Василиса – сыграла свадьбу в 14 лет, как и дочь великого князя Ивана Красного, выйдя замуж за литовского князя в 1356 году. Позднее возраст великокняжеских невест немного вырос. Анна – младшая дочь Дмитрия Донского – вышла замуж в 18 лет. Этот же возраст бракосочетания мы видим в XV столетии. Надо сказать, что жёны тогда, как правило, переживали своих мужей, хотя проблемы деторождения с точки зрения медицины были весьма серьёзными, и не раз во время родов женщины уходили из жизни…
Брак Дмитрия с Евдокией означал заключение союза между Московским и Нижегородско-Суздальским княжествами, правители которых до этого вели борьбу за владимирский великокняжеский стол, доставшийся в итоге, как мы помним, московскому князю Дмитрию.
Иногда историки пишут, что этот брак не был связан с каким-либо расчётом или взаимоотношениями между Москвой, Суздалем и Нижним Новгородом, что он произошёл только лишь по любви и велению души. Мы готовы согласиться с такой романтической трактовкой. Однако династические браки совершались, если можно так сказать, по всем поводам сразу! И то, что в данном случае расчёт совпал с искренними чувствами, что брак стал продолжительным, счастливым и многодетным – это только подтверждает. Объединение в одну семью стало возможно благодаря усилиям митрополита Алексия и преподобного Сергия Радонежского.
Неслучайно спустя четыре столетия Екатерина II, будучи правительницей России, так заинтересованно отмечала имя правительницы Руси XIV века – Евдокии. Императрица Екатерина Великая внимательно изучала русскую историю. Её перу принадлежат некоторые исторические труды. Имея под рукой источники, которые могли быть утеряны позднее, она приводила иногда очень интересные факты. Так ею была создана записка (вариант жития) «О преподобном Сергии Радонежском», где императрица повествует: «В 1366 году (по разным расчётам календаря это было на самом деле в 1365 году. – К. К.-С.) преподобный игумен Сергий, по просьбе князя великаго Дмитрия Ивановича, ездил послом в Нижний Новгород к князю Борису Константиновичу о мире, и мир и тишину паки восстави, и первыя слова о браке князя великаго Дмитрия Ивановича со дщерью князя Дмитрия Константиновича Суздальскаго были пособием преподобнаго игумена Сергия, чем пресеклись междоусобныя распри о великом княжении Владимирском на Клязьме».
Как писалось позднее в «Степенной книге царского родословия» (XVI век), в специальной главе под названием «Брак державного Димитрия»: «Великий сей Князь Димитрий Иванович помысли законному браку приобщитися, уже тогда ему сушу лет яко шти надесять, и по благословению чудотвориваго Христова Архиерея Алексия Митрополита всея Русии, и приведоша ему невесту от Суждальския земли дщерь Великаго Князя Димитрия Константиновича, благородную Великую Княжну Евдокию, ею же оженися во граде Коломне месяца Генваря 18 дня, и взрадовася вся земля о сововуплении брака его, по браце же целомудренно живяста со умилением, смотряста своего спасения в чистоте совести».
Более близкая по времени молодожёнам Троицкая летопись так описала это событие: «В лето 6874 (1366)… месяца генваря в осемнадцатый день, на память святых отец наших Афанасия и Кирила, в неделю промежу говенеи, женился князь великий Дмитрей Ивановичь, у князя у Дмитрея у Костянтиновича у Суждальскаго, поял за ся дщерь его Овдотью, и бысть князю великому свадьба на Коломне».
На свадьбу «Овдотья» действительно приехала в город Коломну, а не в Москву. Там же венчалась и её старшая сестра Мария, вышедшая за Николая Васильевича Вельяминова, коломенского наместника, род которого сыграет в ближайшем будущем очень большую роль в истории Русского государства.
Можно было бы сыграть свадьбу и в Москве. Но только что там произошли пожар и большой мор – эпидемия. И как раз после этого князь Дмитрий Иванович затеял строительство нового белокаменного Кремля, которое осуществил только через год после венчания. Всё это, видимо, и предопределило выбор Коломны для столь важного и торжественного события. Правда, в одной из множества летописей – Львовской – сообщается, что свадьба произошла в Москве. Но на эти сведения никто уже не обращает внимания.
Предположительно, венчал новобрачных Коломенский епископ Филимон, что сохранило предание, но не подтверждено документами. Есть предположения, что венчание происходило не в кафедральном соборе, а в одном из приходских храмов Коломны, где служил тогда простой священник Михаил, ставший чуть позднее духовником самого князя Дмитрия, его печатником и очень близким другом, которого князь даже прочил на пост митрополита Московского (его летописи называют также Митяем).
Ныне на этом месте в Коломне, на территории древнего Кремля стоит храм Воскресения Словущего, приписанный к собору Успения. Но он относится к более позднему времени. Сохранились на этом месте археологические остатки древнейшего деревянного храма, относящегося как раз к XIV столетию. Видимо, в нём и венчались Дмитрий и Евдокия.
Когда-то храм имел ещё два алтаря. Один в честь Боголюбской иконы Божией Матери, а другой – во имя святых Космы и Дамиана. В каменной церкви Воскресения Словущего хранились древние иконы, такие как «Сошествие во ад», относящаяся к XIV веку, и «Троица», датируемая XV столетием. Теперь они находятся в Государственной Третьяковской галерее. А до закрытия храма в 1929 году (в 1990-х годах тут вновь был открыт приход) здесь хранили ещё одну уникальную реликвию – ковш для вина, который, по преданию, использовался при венчании князя Димитрия Донского и княгини Евдокии. Увы, ныне местонахождение его неизвестно.
Нам важно знать сегодня, что подыскал невесту жениху выдающийся человек своего времени – митрополит Алексий. То есть можно с точностью сказать, что Евдокия знала святителя, и он хорошо знал её. Потому что опекал московского правителя, а решение о браке, тем более – таком, было крайне важным делом в то время.
Однако в те времена на Руси существовал крепкий обычай: не могла младшая дочь в княжеской семье сыграть свадьбу до замужества своей старшей сестры. И перед бракосочетанием князя Дмитрия Ивановича возникла проблема – у Евдокии была старшая сестра Мария, и она была незамужней. Чтобы не нарушать традицию (а может быть, даже и по любви), Марию немедленно взял в жёны и сыграл свадьбу (по преданию, в один день с Дмитрием и Евдокией) Николай Васильевич Вельяминов (летописи величают его Микулой). Он был сыном московского тысяцкого – Василия Васильевича Вельяминова, а тот был воспитателем князя Дмитрия Ивановича. Так воспитатель решил проблему своего подопечного. А боярин-воевода Микула Вельяминов затем погибнет в Куликовской битве…
В конце XIX века один из москвоведов – И. К. Кондратьев – в своей книге «Седая старина Москвы» так описал замужество суздальской княжны: «Бракосочетание Евдокии с великим князем Дмитрием Ивановичем совершено было в 1366 году, января месяца в 18-й день, когда князю совершилось 18 лет (тогда так считали. – К. К.-С.) и когда он княжил шестой год. Брачное торжество праздновалось в Коломне со всем великолепием и пышными обрядами того времени. По словам летописца, это событие преисполнило невыразимой радостью сердца всех русских и тем более виновников торжества. Но недолго суждено было молодой княгине наслаждаться безмятежной жизнью счастливого супружества: по собственным словам её, «не много испытала она радостей в супружестве за Дмитрием». В самый год бракосочетания ужасная моровая язва поразила Москву. Затем следовали пожары Москвы, нашествия Ольгерда, поездка Дмитрия в Орду. Все эти бедствия, не относясь к Евдокии лично, само собой разумеется, подвергали опасности мужа, столицу, а затем уж и её саму как супругу великого князя московского. Но она с твёрдостью переносила эти бедствия, являясь, сколько было в её силах, помощницей своего супруга».
О женихе княжны Евдокии можно рассказывать много. Но в данной части книги мы ограничимся лишь некоторыми необходимыми сведениями.
Родился отрок Дмитрий, как предполагается, в 1350 году, октября в 12-й день. Отец его – князь Московский Иван Иванович Красный – был второй раз женат на княгине Александре Ивановне. Дед – великий князь Иван Данилович Калита – известен был всей Руси.
До сих пор мы очень мало знаем о детстве Дмитрия. Даже известное произведение «Похвальное слово», где рассказывается о его житии, не проясняет того, в каких условиях рос отрок, проявлявший очень сильную тягу к участию в любых событиях своего времени. Известно, что, когда ему исполнилось три года, на Русь пришла эпидемия чумы. Тогда скончались митрополит Феогност, великий князь Московский Симеон Иванович (дядя Дмитрия) и два его маленьких сына. По этой причине княжеский престол Владимирский и Московский неожиданно перешёл к Ивану Ивановичу Красному.
Отец Дмитрия не успел показать все свои государственные таланты. Он удачно общался с соседями и с Ордой, укреплял своё княжество. Даже в период знаменитых ордынских дворцовых переворотов он умел отстоять собственное право на власть.
Быть может, именно сильный характер спас князя Дмитрия Ивановича в трудные годы, когда он, будучи ещё совсем мальчиком, осиротел. По всей видимости, очередная эпидемия («моровое поветрие») в Москве 1359 года унесла с собой и его совсем ещё молодого отца. В девять лет управлять государством да ещё решать проблемы сложнейших взаимоотношений с другими княжествами, а в первую очередь, – с Ордой?! Непростое занятие.
Но Дмитрий мог с этим справляться исключительно потому, что рядом с ним находился его наставник и воспитатель – митрополит Алексий. Поставленный руководить церковными делами «всея Руси», он много помог в своё время и отцу князя. А теперь поддерживал мальчика в трудную минуту.
Можно предполагать, что вокруг отрока было много и других способствовавших ему людей, в частности бояр. Одно имя мы уже называли: то был тысяцкий Василий Вельяминов, много сделавший для князя добрых дел. Поразительно, что мы не имеем сведений ни о каких внутренних смутах или неопределённостях в Московском княжестве в период, когда Дмитрий был ещё столь молод. Духовный пастырь Алексий воспитывал юного князя, и, видимо, именно он вкладывал в его разум и сердце сокровенную мечту – об освобождении Руси от тяжёлого владычества Орды.
Благодаря такому покровительству князь Дмитрий с десятилетнего возраста начинает отстаивать свои права на великое княжение Владимирское. На протяжении нескольких лет, как мы уже говорили, ему придётся сталкиваться на этой почве с Суздальским князем Дмитрием Константиновичем. Власть с переменным успехом переходила из рук в руки.
Орда первоначально благоволила Суздалю. Но юный Дмитрий с посольством отправился в саму Орду. Переговоры проводились долго, с не простыми и разными правителями. И ничего могло бы не получиться, если бы не упорство теперь уже мужающего юноши. В 1362 году в знаменитом граде Владимире, в Успенском соборе, 12-летний отрок будет венчан на великое княжение.
Дмитрию Ивановичу удалось не просто помириться с Дмитрием Константиновичем, но даже породниться с ним. И когда он решил жениться на его дочери, совсем юной княжне Евдокии, то уже знал, что таким образом прекратятся все споры и разногласия.
Итак, летописи отметили венчание и пышную свадьбу, которую сыграли в граде Коломне, в княжеском дворце.
Через год Дмитрий построил каменный Кремль в Москве. В Рогожском летописце читаем: «Тое же зимы (1367 года. – К. К.-С.) князь великый Димитрей Иванович, погадав с братом своим с князем с Володимером Андреевичем и с всеми бояры старейшими и сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша. Тое же зимы повезоша камение к городу».
Это была грандиозная работа. Многим не под силу. Но не амбициозному молодому князю Дмитрию. Каменья везли на судах по реке, а зимой и того проще – на санях всё по той же реке. Части стен оставались деревянными. Как писал историк И. Е. Забелин, промежутки между каменными зубцами забивались «заборолами» – толстыми досками, напоминающими забор. За ними скрывались от стрел наступающих врагов. Жители Москвы тогда ощущали себя в особенной безопасности, что подтверждает текст летописи: «твёрд град имуще, иже суть стены каменны и врата железны».
Князь Дмитрий благодаря новому Кремлю затем отразил два очень сильных нападения со стороны Литвы в 1368 и 1370 годах. А чуть позднее ему пришлось вступить в долгую борьбу с зятем Ольгерда – Михаилом Александровичем, великим князем Тверским.
К тому времени князь Дмитрий Иванович окончательно вырос, окреп и возмужал. Он превратился в настоящего правителя (17 лет – это был зрелый возраст для того времени). Современники отмечали его самостоятельность в обсуждении важных проблем и решительность в практических действиях. Уже в 1373 году он взял под контроль берега реки Оки, поставив «засеченные» стражи на её бродах.
А к 1374 году, большому съезду всех русских князей, он уже был полон самых великих планов, осуществить которые возможно было только в общем единении. Время междоусобиц и князей-одиночек прошло. Разумные правители понимали, что великие дела могли решаться только великими силами.
Впереди у князя Дмитрия были славные победы на реке Воже и на поле Куликовом. До них оставалось лишь несколько лет…
Кремлёвский обиход
В камене стене саму Москву тако-же написавый, терем у князя великого незнаемою подписью и страннолепно подписаны.
Епифаний Премудрый – Кириллу Тверскому, начало XV в.
Где можно было бы лучше скрыться от реалий и опасностей бытия, чем не за стенами Московского Кремля! К этому времени это была уже весьма защищённая крепость и очень красивый город, наполненный светской и православной архитектурой, спланированный с тщательностью и разумом, обжитый и удобный для повседневной жизни.
Что видела вокруг себя великая княгиня Евдокия, находясь среди такой красоты? Попробуем это реконструировать, хотя, признаемся, сделать это не так-то и просто. По современным учебникам истории, богато иллюстрированным репродукциями картин или рисунков известных художников, работавших и работающих в историческом жанре, можно представить себе хотя бы общий вид Москвы второй половины XIV столетия. Но художники многое домысливали, не стеснялись применить своё воображение, порой не основанное на документах или археологических находках. Впрочем, воображение иногда приносит позитивные плоды. А мелкие огрехи или даже ошибки исправляются только одним способом – временем, то есть тем, что приносит новые открытия в науке, позволяющие с большей степенью приблизиться к правде.
Попробуем следовать документальным источникам и описать Москву, в которой прожила Евдокия большую и насыщенную жизнь.
Перво-наперво избавимся от стереотипов. Москва и Кремль были совсем другими, нежели сегодня. Не было ещё знаменитых «сорока сороково московских церковных куполов. Город мог бы показаться гораздо беднее, проще, неудобнее. Но тогда это было совсем не так. Умело управляясь с деревом и камнем, искусные строители добивались уникальных результатов. Жаль только, что лишь единичные примеры их труда дошли до наших дней. Дерево просто не дожило, погибло в огне или от ветхости. А каменные постройки переделывались столько раз, что стали бы просто неузнаваемыми для тогдашних жителей (если бы они смогли на это посмотреть через века!).
Что ж, начнём с жилого дома правящей великокняжеской семьи – Дмитрия Ивановича и Евдокии Дмитриевны. По документам известно, что их могло быть два, и оба – внутри Кремля. Упоминается большой терем на холме, где-то в районе нынешнего Теремного дворца. А также имеются косвенные свидетельства о существовании ещё одного терема (двора) княгини у Фроловских (ныне Спасских) ворот.
Какой из них более старый? Историк архитектуры А. В. Можаев считает, что «ансамбль построек Кремлёвского дворца начал складываться между нынешними Боровицкими воротами и Соборной площадью, вероятно, с конца XIII века (согласно данным археологии, ранее княжеский двор находился у Фроловских ворот)». То есть более ранним можно считать тот терем великого князя, который располагался у нынешней Спасской башни, а следовательно, – у будущего Вознесенского монастыря, который будет спустя годы основан княгиней Евдокией.
Два двора, два терема. Более старый и новый.
Исследователь И. А. Масленникова считает, что когда появился «первый каменный памятник, отметивший женскую половину государева двора, – церковь Рождества Богородицы, построенная в 1393 г. княгиней Евдокией Донской на месте древней деревянной церкви во имя Воскрешения Лазаря и освящённая в 1394 г.», – то сама эта церковь уже «располагалась рядом с теремом великой княгини и, вероятно, служила для неё домовым храмом». И далее: «От постройки конца XIV в. до наших дней сохранилась лишь нижняя часть храма, верхняя неоднократно перестраивалась. Корпус из девяти каменных палат северной части древнего дворца западным торцом примыкает к церкви Рождества».
О каменном храме Рождества Богородицы мы расскажем позднее, его возведение будет связано с событиями уже после кончины великого князя Дмитрия Ивановича. Но нам важно ощутить, как жила их семья, что предпринял князь для укрепления домашнего быта, возведения дворца, особенно в то время, когда он отстроил новый белокаменный Кремль.
Сначала о самом Кремле.
Как известно, московский князь Иван Калита, получивший титул великого князя, значительно его расширил. Внутри крепости появилась Соборная площадь, образованная внутри периметра трёх каменных храмов: Успенского собора (1327 год), церкви Иоанна Лествичника с колокольней (1329 год) и Архангельского собора (1333 год). При Иване Калите построили каменный храм Спаса на Бору – рядом с теремом князя.
В 1339 году возведены были кремлёвские стены и башни из дуба. Хотя вероятнее всего, что они и до этого были дубовыми. Просто Иван Калита их обновил. Однако стоять им пришлось не более четверти века. Как мы уже знаем, дубовые стены были заменены на белокаменные при великом князе Дмитрии Ивановиче (будущем Донском). Новая крепость имела пять или шесть проездных башен и три глухие круглые угловые башни. Именно в это время площадь Кремля стала увеличиваться и достигла почти современной величины.
В Кремле в XIV веке, когда там проживала княгиня Евдокия и до основания ею собственного, Вознесенского монастыря, было уже устроено несколько обителей. Они были основаны великими князьями или их родственниками, а одна – митрополитом Алексием.
Приведём их перечень.
1. Спасо-Преображенский монастырь на Бору, созданный в 1330 году, центром которого стала древняя московская церковь Спаса на Бору («собор Спаса-Преображения что на Бору», известный ещё деревянным с конца XIII века). В храме-монастыре хоронили тогда московских князей и княгинь (до построения Архангельского собора, церкви Рождества Богородицы и Вознесенской обители). Монастырь стал просто храмом при московском княжеском дворе после создания Новоспасского монастыря в конце XV века чуть поодаль от Москвы.
2. Чудов монастырь, основанный митрополитом Алексием в 1365 году. Он находился у нынешних Спасских ворот, то есть рядом со старым княжеским теремом. Его центром стала церковь Чуда Архангела Михаила в Хонех, здесь и похоронили самого митрополита Алексия. По преданию, на месте Чудова монастыря когда-то находился «царёв двор» (не путать с великокняжеским), то есть предназначенный для ордынского «царя» и его послов. Этот двор царица Тайдула передала митрополиту Алексию в награду за излечение её от глазной болезни.
3. Троице-Богоявленский монастырь, называемый также «Богоявленский монастырь на Троицком подворье». Это Троице-Сергиевское подворье располагалось у Троицких ворот Кремля со второй половины XIV века, когда, по свидетельству Кормовой книги Троице-Сергиева монастыря, Дмитрий Донской определил в Кремле преподобному Сергию Радонежскому место рядом со своими палатами на случай его приездов в Москву. Однако о служебных или жилых помещениях обители в то время почти ничего не известно.
4. Афанасиевско-Кирилловский монастырь, называемый также «Афанасьевский монастырь, что подворье Кириллова монастыря». Располагался у Фроловских (Спасских) ворот, у другого терема князя.
Троице-Богоявленская и Афанасиевско-Кирилловская обители могли на самом деле быть в то время просто храмами-подворьями, иногда в обиходе именовавшимися монастырями, и только позднее стали таковыми.
В этот список мы не вносим Вознесенский монастырь, основанный княгиней Евдокией. Ибо в тот период времени, о котором мы здесь пока повествуем, его ещё не было. Однако ниже мы подробно расскажем о его истории.
За пределами Кремля существовали и другие обители, включая женские, но о них речь чуть ниже.
Кроме монастырских построек в Московском Кремле тогда существовали уже и другие храмы. Например, церковь Введения Богородицы на подворье Симонова монастыря у Никольских ворот или церковь Богоявления на Троицком дворе. Москва гордилась своими каменными постройками, включая крепостные стены. Только Новгород и Псков могли похвастаться большим их количеством. Но ведь в реальности им намного меньше доставалось от ордынских нашествий. Каменные строения были редкостью. Но семья Дмитрия Донского многое сделала для того, чтобы украсить ими Кремль.
О некотором количестве церквей в Москве рассказывает летописное известие о пожаре, случившемся позднее в Кремле, в 1476 году, когда горели 10 каменных храмов, а 12 деревянных полностью сгорели.
Представим себе Московский Кремль времени почти сразу после свадьбы князя Дмитрия Ивановича и Евдокии Дмитриевны с высоты птичьего полёта. Что бы мы тогда увидели?
Во-первых, Кремль, обнесённый стеной с башнями, с многочисленными постройками, а вокруг него – Подол, Заруб, Посад или Замоскворечье.
Начнём с Кремля.
Большую часть его занимала территория великокняжеского двора. Того, что был не рядом с Фроловскими воротами, а вблизи храма Спаса Преображения на Бору. Рядом со двором князя – комплекс хозяйственных построек. Для обеспечения жизни правящей семьи нужны были кроме самого терема-дворца – житный двор, скотный двор и конюшни, амбары для хранения запасов, колодцы и резервуары для воды, а также сад и огород. Хранение продуктов и воды было крайне важно в период многочисленных военных конфликтов. Сам терем князя, конечно же, был деревянным. Впрочем, как и большинство или даже все постройки тогдашней столицы.
Как выглядел терем князя и княгини? На этот вопрос историки ответить не смогут. А художники с помощью воображения неоднократно пытались сотворить что-то подобное исторической правде. Деревянные постройки больше ста-двухсот лет не «живут». На самом деле, в результате постоянных пожаров – вообще существуют очень недолго. А ведь терем князя был деревянным.
Есть изображения, относящиеся к эпохе Дмитрия Донского, но сделанные в XVI или XVII веке. Например, в Лицевом летописном своде или в «Сказании о Мамаевом побоище». Мы даже видим терем князя, стены Кремля, другие дома города. Но тогда уже не существовали подлинники этих строений. Всё это – плод воображения художников, основанный на их жизненном опыте, то есть на постройках их времени. Хотя можно сказать, что за два столетия деревянная архитектура не изменилась до неузнаваемости и, возможно, была почти идентичной.
Интерес представляют миниатюры с изображением великой княгини Евдокии, сидящей у окна княжеского терема. Варианты Лицевого летописного свода похожи один на другой. А вот вариант (копия) «Сказания о Мамаевом побоище», хранящийся в Лондоне, в Британской библиотеке, очень любопытен, так как здесь мы видим необычное изображение дворца вместе с Евдокией Дмитриевной и текстом: «великая княгиня Авдотья со снохой своей поёт сидяше в теремце златоверхом под стекляным окном вслед глядяше великому князю» (эпизод проводов Дмитрия Ивановича на битву).
Как говорят источники, княгиня жила в «златоверхом» тереме. То есть верхняя его часть или крыша были украшены позолотой. Видимо, наподобие храмовых куполов. А значит – ярко блестели на солнце и были видны издалека. Окна его были «стеклянными». Буквально? Может быть, и так, ведь стекло уже давно изготавливалось на самой Руси, хотя, в первую очередь, здесь имеется в виду, что они были прозрачными! Терем назывался иногда «набережным», а это даёт возможность определить, что он был обращён фасадом в сторону берега Москвы-реки. В таком случае из окон дворца можно было лицезреть Замоскворечье и путь в сторону Орды, куда и направлялся по вышеприведённой цитате князь Дмитрий.
Есть в вариантах «Сказания о Мамаевом побоище» и иные детали, связанные с княжеским теремом. Например, что княгиня Евдокия сидела на «урундуце под стекольчаты окны». Это ещё одно указание на строение терема. Рундук – это крыльцо. Если Евдокия сидела «под стекольчаты окны», то значит, терем был как минимум двухэтажным, а скорее всего, имел не менее трёх этажей, так как крыльцо-рундук бывало очень большим, с колоннами, поддерживающими балкон второго или третьего этажа. Это крыльцо выполняло функции парадного входа во дворец.
Частью княжеского терема были сени. Это неотапливаемое входное помещение. Слово «сени» закрепилось в названиях некоторых кремлёвских построек (храм Рождества Богородицы, «что вверху, на царицыных сенях»; церковь Святого Лазаря «на сенях»). «Набережная» палата с сенями были местом для приёмов, встреч с послами и торжественных случаев. Известно, что гораздо позднее княжеский терем был расписан фресками великим Феофаном Греком. Были ли подобные фрески при Евдокии? Мы не знаем.
Вокруг дворца-терема располагались, кроме церковных построек и монастырских подворий, многие дома жителей Кремля. В непосредственной близости селились родственники князя и княгини, члены великокняжеской семьи. Ведь некоторые из них, по праву наследования, могли претендовать на ярлык великого княжения. Бывало, что терема удельных князей не уступали по размерам дому великого князя. Поодаль стояли дома бояр, служивших князю верою и правдою. Одним из важных строений был двор митрополита Московского. На тот момент им был святитель Алексий.
Далее жили москвичи попроще. А за кремлёвской стеной – тем более. Сама новая белокаменная стена Кремля не была непрерывной. Оставались участки, не скрытые камнем, но плотно заделанные деревом. Территория самого Кремля разбивалась на несколько частей. Одна была на холме (нагорная, здесь стояли терема князя), а вторая – в низине, называемая, как нижняя часть одежды-платья – Подолом. На Подоле жили также и бояре. Сохранились сведения, что здесь находился «подольный садец» митрополита Алексия.
Место у края горы называли Зарубом. Как писал историк И. Е. Забелин, «заруб и взруб означали особое устройство береговой крутизны, посредством насыпной земли, ограждённой бревенчатою постройкою для увеличения пространства существовавшей нагорной площади». Верхняя часть холмов, переходящая к Красной площади, иногда называлась напольной.
Через весь Кремль – от Фроловских до Боровицких ворот – проходила знаменитая Большая улица. Были и другие улицы, носившие название по направлению движения. От Соборной площади к Никольским воротам – Никольская. По Подолу возле кремлёвских стен шла проезжая улица. От церкви Иоанна Лествичника к Чудову монастырю складывалась ещё одна известная площадь Кремля – Ивановская. Был важным выезд из Кремля через Константино-Еленинские ворота, откуда из Подола можно было попасть на Посад. Именно правление Дмитрия Донского дало новый толчок для быстрого расширения московского Посада. Постепенно его территория становится больше, нежели площадь самого Кремля, который ширился в напольную сторону к Красной площади. Начало роста поздней территории Китай-города и затем Белого города было заложено в это время. Хотя в 1368 году во время нашествия князя Литовского Ольгерда на Москву, по Лицевому летописному своду XVI века, «князь же великий Дмитрий Иванович повелел сжечь под Москвою посад, а сам затворился в городе». Этот манёвр позволил ему отогнать войско Ольгерда от Москвы после нескольких дней осады.
Конечно же, большинство улиц Кремля были замощены в те времена деревом. Существовали в укреплённом граде и административно-служебные постройки, часть из них располагалась в башнях крепости, которые таким образом использовались «в мирных целях». Были в кремлёвском пространстве и приёмные покои, и тюрьмы, и рыночные сооружения для торговли.
В этом многолюдном и многоликом городе и жила княгиня Евдокия. В столице, которая могла бы конкурировать со многими европейскими, если бы её развитие не тормозило трудное бремя владычества Орды.
Новая счастливая семья не могла оставаться без потомства. И действительно, семейство стало пополняться детьми. Да какими! Мальчиков княгиня Евдокия рожала одного за другим. Как на подбор.