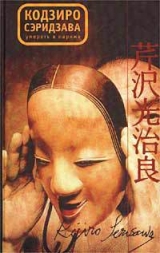
Текст книги "Умереть в Париже. Избранные произведения"
Автор книги: Кодзиро Сэридзава
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Поскольку к обеду я не спустилась в столовую, мадам Рене пришла навестить меня после воздушных ванн.
– Весенняя тоска? – смеясь, сказала она и бегло взглянула на мой температурный график.
– Нельзя лежать в постели только из-за того, что температура у вас немного подскочила. Взгляните, какой чудесный весенний дождь за окном! Да вставайте же!
И она насильно вытащила меня из постели и вывела на балкон. Действительно, шёл чудесный весенний дождик.
– Видите? В прошлом году после такого дождя снег быстро растаял и настала весна. Попробуйте вздохнуть полной грудью. Чувствуете, как пахнет весной?
Да я и сама ощущала, что откуда-то уже повеяло теплом, хотя день был по-зимнему суровым.
– А я-то думала, что в здешних местах весна обычно бывает поздняя, – сказала я, чувствуя, как в душе моей снова рождается надежда, и стала радостно слушать шум дождя, как будто это были шаги весны.
На следующее утро мадам Рене, в последние дни явно пребывавшая в приподнятом настроении, пригласила меня на прогулку. Постучав в мою дверь, она тут же вошла и сказала:
– Уже совсем весна. Начал таять снег, поэтому надевайте боты, иначе не пройдёшь.
И, полностью игнорируя то обстоятельство, что у меня опять был небольшой жар, она вытащила меня на поляну, освещённую ярким солнцем. Если бы не она, я бы не решилась покинуть своё ложе. Да, снежные дорожки, которые ещё недавно были скованы льдом, превратились в хлюпающую снежную массу, от покрытых снегом пастбищ поднимался пар, повсюду темнели проталины, на которых кое-где уже зазеленела первая травка. Весеннее солнышко было таким заманчивым, что пациенты санатория все как один устремились в город, они весело шли по дорожкам, прикрываясь от солнца зонтиками, и щебетали, как воробьи.
"Ах, наверное, в Париже тоже рассеялись туманы, – думала я, – пора возвращаться. Весна, весна… Вот и закончилась эта ужасная зима. Скоро домой…"
Встречаясь, люди возбуждённо приветствовали друг друга. А я восторженно смотрела на ярко-зелёную травку, которая так долго томилась под снегом, но сумела дождаться весны, и думала, что я тоже непременно выживу и долго ещё буду делить с тобой радости жизни. Ах, как легко стало у меня на душе! Весеннее настроение передалось и мне, и вместе с мадам Рене я весело направилась вниз, в город.
Когда мы подходили к церкви, на дороге, ведущей из Чёрного леса, показалась похоронная процессия во главе с чёрным катафалком, на котором стоял гроб. Наверняка хоронили кого-то из пациентов санатория. Под яркими, весёлыми лучами весеннего солнца процессия казалась особенно суровой и внушительной, остановившись, мы молча поклонились ей. И всё же почему ниточка жизни становится такой тонкой именно теперь, в пору таяния снега?
– Мы словно школьники, – засмеялась мадам Рене, – весна и для нас время выпускных экзаменов, кто не занимался достаточно усердно зимой, тот наверняка провалится.
Но мне её слова не показались смешными. Эти ужасные микробы, из-за которых мне пришлось сюда приехать, словно набухающие ростки, прорастают в наших организмах. И тот, кто недостаточно крепок телесно, не может бороться с ними и в конце концов сдаётся, предоставляя им убивать себя. Размышляя об этом, я шагала, увязая в тающем снегу, и чувствовала себя такой несчастной! Меня била дрожь, мне казалось, я вся горю. Я попыталась взять себя в руки, но так и не сумела отделаться от ощущения, что тень смерти легла и на меня.
– Вы-то у нас отличница, – сказала мадам Рене. – И года ещё не прошло, а вы уже заканчиваете курс в этом санатории. Я-то зимой снова приеду сюда, уже в третий раз, всё никак не удаётся попасть в число выпускников. – Засмеявшись, она хлопнула меня по плечу, но в этот миг раздался заунывный колокольный звон. Похоже, госпожа Рене его не слышала, а я, тихо внимая ему, пошла по направлению к городу.
Этот колокол звонит почти ежедневно. Но природа вокруг, словно каждый день открывая новую страницу, так стремительно преображается, что в конце концов и этот колокольный звон перестал казаться мне таким мрачным. Снег на пологом склоне позади санатория быстро растаял, из-под него возникли зелёные листики примул, и скоро всё вокруг покрылось прелестными розовыми цветами. Мне кажется, я только теперь впервые узнала, как замечательно пахнет земля. Какую радость доставляют мне ежедневные прогулки! По лугу, позвякивая бубенцами, бродят коровы и овцы, безжалостно поедая примулы. Сегодня я опять поднялась до скалы Ангела и увидела покрытые нарциссами склоны, сверкающее синевой озеро Леман внизу… О, я едва не закричала от восторга, не зря Швейцарию называют раем земным! Никакими словами не опишешь это роскошное пиршество природы! Внезапно мной овладел гнев – как можно допускать, чтобы среди такой красоты люди страдали от неизлечимых болезней, почему Бог так жесток? Я понимаю, думать так – величайшая дерзость с моей стороны, но природа была слишком прекрасна, и мне невольно стало жаль себя…
Любуясь весенним убранством гор, я подосадовала, что отказалась от предложения Миямуры приехать за мной. До безумия захотелось показать ему окутанную первой зеленью Швейцарию. Конечно, было бы куда приятнее и спокойнее уехать отсюда вместе с ним, но его приезд в Швейцарию помешал бы его работе, а самое главное, ты, пусть и ненадолго, осталась бы одна с чужими людьми…
Здесь, в этом горном санатории, вдалеке от родных, меня посетило что-то вродеозарения,я вдруг поняла, что должна забыть о себе, о своих радостях и желаниях, а думать только о твоём счастье и счастье Миямуры. Я ещё не писала ничего о том, как мучительна и сурова была моя борьба с болезнью, как часто мне думалось, что умереть было бы гораздо приятнее и легче. Возможно, не будь тебя, я не выдержала бы существования, полного унизительных запретов, пронизанного одиночеством. Я перенесла зиму только потому, что сознавала – для вашего счастья нужна ещё и я. Может быть, придёт день, я расскажу тебе о том, что мне пришлось пережить, и мы вдвоём посмеёмся над твоей глупой матерью. Одна мысль об этом дне согревает мне душу. Если мне разрешат весной покинуть санаторий, это произойдёт только потому, что вы с отцом постоянно были здесь, со мной, поддерживали меня. А просить, чтобы за мной приехали, – роскошь, которую я не могу себе позволить…
Сегодня утром одна из пациенток уехала домой во Францию. Ей первой разрешили вернуться к нормальной жизни, и все остальные, увидев в этом добрый знак, воспряли духом и пришли её проводить. Я тоже вышла вместе со всеми, хотя и не была особенно близка с мадам Убер. Стоя в толпе, которая приветствовала отъезжающую машину радостными криками, я, как ни странно, не могла удержаться от слёз…
Наконец пришёл день нашего «выпускного экзамена». Нас должны были в последний раз осмотреть и вынести решение, можно ли курс лечения в санатории считать законченным. Многие француженки говорили, что им абсолютно всё равно, каков будет приговор врачей, ничего необычного в этом осмотре нет, всё равно с наступлением сезона туманов придётся снова вернуться сюда, а сейчас они просто получат рецепты, чтобы продолжать принимать лекарства в Париже. Но я очень волновалась, хотя и была уверена, что получу разрешение уехать отсюда насовсем, ведь, когда я приехала в санаторий в прошлом году, мне обещали, что к весне лечение будет закончено, да и чувствовала я себя значительно бодрее, ощущала необыкновенную лёгкость во всём теле.
– Мадам собирается вернуться в Париж? – глядя мне в лицо, спросил доктор Боннар, закончив осмотр, и я внутренне сжалась: неужели нельзя? – однако тут же постаралась улыбнуться. Но наверное, страх всё же отразился у меня на лице, потому что доктор Боннар поспешно сказал: – Это вполне естественно. Вы, должно быть, соскучились по дочке?
Наверное, я всё же не набрала проходного балла. Я вцепилась в подлокотники кресла, но тут же подумала, что японка никогда не должна терять самообладания.
– За время, проведённое здесь, я научилась подавлять собственные желания, – ответила я наконец, и тогда доктор снова спросил:
– Когда вы возвращаетесь в Японию?
Когда я возвращаюсь в Японию? Его ласковый голос словно разом перенёс меня на мою далёкую забытую родину, я растерялась и, не понимая смысла слов, только бессмысленно хлопала глазами.
– Когда ваш муж планирует вернуться в Японию?
Когда Миямура планирует вернуться в Японию? Мне никогда не приходило в голову спрашивать его об этом, но тут я вспомнила, что, когда, приехав однажды в Париж, позвонила ему из гостиницы, он сказал, что его работа близится к завершению и мы в любой момент можем вернуться на родину… И я поспешно ответила:
– Он заканчивает свою работу, да и ребёнку уже почти полтора года, так что мы уедем очень скоро.
Разумеется, мой ответ был продиктован ещё и желанием как можно быстрее покинуть санаторий.
– А как вы смотрите на то, чтобы полечиться у нас ещё некоторое время? Я посоветовал бы вам побыть здесь до тех пор, пока срок вашего возвращения в Японию не будет окончательно определён. Если бы вы собирались остаться в Европе, вы могли бы зимой снова приехать сюда на лечение, но раз вы уезжаете в Японию, неплохо было бы набраться сил перед отъездом. Ведь вам предстоит долгое путешествие на пароходе…
Я рассеянно слушала доктора и видела перед собой большой, раскрывающий лепестки цветок – неужели я скоро снова буду в Японии? Поэтому, когда доктор спросил меня – согласна ли я остаться в санатории, я утвердительно закивала головой: да, мол, конечно, конечно согласна. Какое счастье – вернуться в Японию всей семьёй! Представляю, как обрадуются родители! Но главное – оказавшись в Японии, я снова смогу заняться самосовершенствованием. Я так хочу стать достойной женой для Миямуры! И я обещала доктору Боннару задержаться в санатории ещё на некоторое время.
С тех пор мысль о возвращении в Японию полностью завладела мной.
Каждый день кто-нибудь из пациентов уезжал домой. Некоторые говорили, что проживут дома только два месяца – май и июнь, а потом вернутся в санаторий. Май и июнь – самое здоровое время в Париже, вот они и проведут эти два месяца дома и, насытившись любовью близких, снова вернутся сюда.
Мадам Рене осудила меня, узнав о том, что я решила остаться в санатории.
– И вы говорите, что любите мужа? – сказала она. – И ребёнка? Не могу не оценить вашу стойкость, но всему есть предел.
Я же завидовала каждому, кто уезжал, и чувствовала себя такой одинокой! Я так тосковала по тебе и твоему отцу! Но, говоря себе: так нужно, чтобы вернуться в Японию, – я терпела, стиснув зубы, терпела из последних сил… Неужели эта француженка не могла понять меня, ведь казалось, она испытывает ко мне тёплые чувства…
– Ну, на вас я уже давно махнула рукой, но мне искренне жаль вашего мужа. Ведь любовь питается только совместными усилиями. Она зачахнет, если вы и дальше не будете видеться. Вы заботитесь только о своём здоровье и совершенно не дорожите любовью мужа. Может статься, что, выздоровев, вы обнаружите, что его любовь уже отдана кому-то другому. И что тогда? Такая жизнь хуже смерти.
Казалось, она нарочно говорит мне всё это, желая уколоть моё самолюбие.
А как же японки, мужья которых уезжают в Европу одни? Ведь они покорно ждут их возвращения. В разлуке моя любовь к мужу становится только сильнее. Какая же это любовь, если она чахнет оттого лишь, что супруги некоторое время не видятся? Конечно, верно, что любовь строится совместными усилиями, но разве жизнь в разлуке не требует таких усилий?.. Но убеждать в этом мадам Рене у меня не было сил, поэтому, слушая её, я молчала и только кусала губы. Очень скоро и она уехала в Париж, а я осталась совсем одна.
На письмо, в котором я спрашивала, когда мы вернёмся в Японию, Миямура ответил, что пока не может сказать ничего определённого, и просил меня не думать об этом. Он писал, что, хотя его работа и близка к завершению, всё время возникают новые аспекты, требующие дополнительных усилий, к тому же в молодые годы вообще не мешает подольше пожить в Европе, это открывает хорошие перспективы для будущего, что же касается университета, то там готовы пойти ему навстречу и продлить срок стажировки, поэтому я могу лечиться совершенно спокойно. Я никогда не получала от Миямуры таких длинных писем, обычно он изъяснялся чрезвычайно кратко. Я хорошо понимала, что его письмо продиктовано заботой обо мне, но вместе с тем у меня остался от него какой-то неприятный осадок. Во-первых, как это ни нелепо, из этого письма я впервые узнала о том, что срок его стажировки заканчивается. Конечно, он постарался продлить его исключительно ради меня. Все эти слова о работе, якобы требующей от него дополнительных усилий, явно подсказаны желанием успокоить меня.
Я почувствовала себя виноватой, меня стали терзать сомнения… Из-за меня Миямура откладывает наше возвращение в Японию, причём откладывает на неопределённое время. Конечно, я написала ему, что чувствую себя хорошо, что температура больше не поднимается, но ведь я не возвратилась на лето в Париж, хотя лечусь в санатории уже целый год… Он мог прийти в отчаяние, решив, что на самом деле мне так и не стало лучше… Только ради Миямуры и тебя я всю зиму боролась с болезнью, и что же, получается, мои усилия напрасны?
В следующем письме была твоя фотография. Ты, в ботиночках, держась за руку мадемуазель Рено, прогуливаешься по саду, но лицо у тебя заплаканное, по щекам текут слёзы. Я понимала, что эту фотографию прислали мне из добрых побуждений, желая показать, какой ты бываешь, когда плачешь, но стоило мне увидеть твоё заплаканное личико, как жалость к тебе словно воспламенила всю кровь в моём теле, и я окончательно потеряла покой.
Я вернусь и обниму тебя. Пусть Миямура своими глазами увидит, какой я стала здоровой и сильной. И мы уедем в Японию, пока моих сил достаточно для морского путешествия. Желание немедленно отвезти тебя в Японию, где ты будешь в безопасности, пронзило меня словно стрелой, я готова была уехать сегодня же и потребовала встречи с доктором Боннаром.
Доктор был очень удивлён, но сказал:
– Вам приходится срочно возвращаться в Японию? Я полагал, вы задержитесь ещё на полгода… А вы, значит, решили уехать? Меня волнует, как вы перенесёте сорокадневное морское путешествие… После того как вы вернётесь в Японию, постарайтесь хотя бы года два жить подальше от моря.
Скорее всего, он не разрешил бы мне уехать, если бы я не обманула его, сказав, что мы должны немедленно возвращаться в Японию. Доктор дал мне последние советы, и, слушая его ласковый голос, я почувствовала, что поступила очень дурно, и глаза мои увлажнились.
– В Японии я сразу же выздоровею. Ведь я смогу есть свою любимую японскую еду. Дышать родным воздухом. Ходить по земле, которая меня взрастила.
Я попыталась улыбнуться, но долго сдерживаемое волнение наконец прорвалось наружу, и я разрыдалась. Я рыдала, не испытывая никакого стыда перед доктором, не боясь, что меня услышат, мне было так горько, так жаль себя! Доктор молчал, но я чувствовала на себе его внимательный взгляд и в конце концов, вытерев слёзы, спросила:
– Скажите, если я буду жить вместе с ребёнком, он не заразится?
Доктор, словно не в силах скрыть волнение, только отрицательно покачал головой, когда же я пошла прочь, улыбаясь, добавил:
– Только не целуйте её.
– Не беспокойтесь, у нас в Японии это не принято.
Я тоже попыталась улыбнуться, но тут доктор энергично приблизился ко мне и крепко сжал мою руку.
– В своих пациентах, – сказал он, – я всегда вижу мучеников, жертвующих жизнью ради победы над одной из самых ужасных болезней человечества. Для того чтобы победить, нужна решимость бороться с болезнью не на жизнь, а на смерть. Взять хотя бы меня. Я, конечно, не пациент, но ведь и я вынужден оставаться здесь, в горах, ибо посвятил этой борьбе свою жизнь… Думаю, что только в терпении можно обрести счастье. Впрочем, восточным людям это можно и не объяснять. Желаю вам здоровья и благополучного возвращения на родину.
Я, забыв пожать ему на прощанье руку, только смотрела на его короткую белую бороду, затем неожиданно для себя самой прижалась лбом к его тёплой руке.
Выйдя от доктора, я немедленно отправилась в контору. Я попросила к завтрашнему утру подготовить мне счёт и заказать билеты на международный поезд до Парижа. Стоял прекрасный вечер. Поднявшись к себе, я увидела, что через распахнутое окно в комнату врываются лучи заходящего солнца, окрашивая белые стены и белую кровать нежно-розовым цветом. Я вышла на балкончик, где в течение года каждый день в одиночестве принимала воздушные ванны. Было ясно, внизу вдалеке виднелось озеро Леман, за ним, на фоне тёмно-синего неба, белели Савойские горы и нежно-розовым блеском сверкала вершина Монблан. Горы Швейцарии, я никогда не увижу вас больше… Я долго смотрела на них, надеясь запечатлеть в своём сердце.
Господи, я не знаю, полезно ли мне ехать в Париж или нет. Но место матери рядом с её ребёнком.
Может быть, я и умру, но я не в силах больше жить в разлуке со своей девочкой. Уж лучше умереть в Париже. Ведь, оставаясь здесь, я всё равно что мертва для неё. Прошу тебя только об одном – не призывай меня раньше, чем я вернусь в Японию вместе с моим ребёнком.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Прочитав записки, я пришёл к выводу, что следует отдать их Марико, как того желала её мать. За эти годы Марико превратилась в красивую и умную женщину, поэтому можно было не опасаться, что она превратно истолкует смысл написанного и усомнится в своих родителях, наоборот, читая между строк, она наверняка поймёт, что стремилась сообщить ей её мать, и извлечёт для себя много ценного и поучительного. Мне очень хотелось прочесть ещё и записки Миямуры, которые, по его словам, он написал, потрясённый дневниками жены. Но я сдержался и не стал просить его об этом, отчасти понимая, что восхищение, которое я испытал, познакомившись с написанным его женой, является недостаточным для того основанием, отчасти из боязни, что меня могут упрекнуть за свойственное якобы писателям стремление копаться в чужих тайнах. Поэтому на следующий день я позвонил Миямуре и сказал самым непринуждённым тоном:
– Вчера ночью я прочёл дневники и думаю, что их следует отдать Марико.
– Значит, ты полагаешь, что всё-таки надо это сделать? – Мне живо представилось растерянное лицо Миямуры. – Тогда, может быть, ты возьмёшь на себя труд… Когда она вернётся из свадебного путешествия, я попрошу её зайти к тебе… – сказал он, затем нерешительно добавил: – Я надеюсь, тебе удастся ей объяснить и она всё поймёт правильно… И ещё, расскажи мне потом, как она отреагировала.
– Конечно расскажу. Но если Марико скажет, что хочет прочесть твои записки, ты отдашь их ей сам.
– Думаю, до этого не дойдёт, – смущённо сказал он, – всё зависит от того, как она воспримет дневники Синко. Там видно будет.
Через несколько дней после этого разговора я получил открытку от Марико и её мужа. Оба написали по нескольку слов.
"Цукисиро тоже оказался Вашим поклонником, – обычным своим шутливым тоном писала Марико. – Это одно из самых приятных открытий, которые я сделала за время путешествия".
Прошло ещё две недели, и однажды воскресным вечером она зашла навестить меня вместе с новоиспечённым мужем.
В тот вечер жена с детьми были дома, дети тут же стали тянуть Марико каждый в свою сторону: "Марико-сан, да Марико-сан", поэтому её застенчивость мгновенно улетучилась, я же тем временем смог весьма содержательно побеседовать с Цукисиро. Он изучал социологию, и мы начали с Дюркгейма, работы которого я изучал до того, как стал писателем. Из разговора с Цукисиро я извлёк впечатление, что человек он, судя по всему, надёжный, и порадовался за Марико. Жена суетилась, не зная, чем попотчевать дорогих гостей, дети шумели, и в этой суматохе я по рассеянности едва не забыл про тетради. И только когда гости стали прощаться, вдруг вспомнил о них и, вытолкав недоумевающих жену и детей из кабинета-гостиной, сказал как бы между прочим:
– А это тебе, Марико, от твоей мамы… – и вытащил из книжного шкафа те самые три тетради.
– От мамы? – спросила Марико недоуменно.
– От той, которая умерла в Париже, – добавил я, и она уставилась на меня большими испуганными глазами, потом перевела удивлённый взгляд на тетради, которые я держал в руке.
Подумав, что её мужу тоже не мешало бы знать об этом, я добавил:
– Умирая, твоя мать отдала эти тетради твоему отцу, наказав вручить их тебе, когда ты будешь выходить замуж. Уважая её волю, он бережно хранил тетради, но, когда настало наконец время отдавать их тебе, усомнился, стоит ли это делать, не омрачат ли они твоего счастья? Поэтому он поручил мне принять решение, и я прочёл эти записки. И считаю, что должен исполнить желание твоей покойной матери и передать их тебе, я уверен, что ты способна всё правильно понять…
– Как бы вам это сказать… – решился добавить я. – Дело в том, что твой отец, Марико, прочтя эти дневники сразу же после смерти твоей матери, решил записать свои собственные впечатления о том времени. Если после того, как ты прочтёшь эти тетради, у тебя возникнет желание прочесть и записки отца, я думаю, он не будет возражать.
Я несколько раз повторил это, когда они собрались уходить, и тогда Марико впервые прервала молчание.
– Хорошо, я поняла, – сказала она, опустив глаза.
Потом я позвал жену и детей, присутствие которых сразу разрядило обстановку, и мы стали прощаться.
Через три дня я получил длинное письмо от Марико. Я привожу его здесь полностью.
Сэнсэй, извините меня за моё поведение в тот вечер. Я настолько растерялась, получив посмертные записки матери, что не могла выдавить из себя ни слова. Простите. Боюсь, не огорчили ли мы Вас – отец тем, что навязал Вам роль посредника, я – своим замешательством? Так или иначе, я считаю себя обязанной сообщить Вам, какое впечатление произвели на меня записки матери. Только, наверное, правильнее было бы сначала признаться в том, что до сих пор я от Вас скрывала. Впрочем, не только от Вас – от всех. Я считала неприличным навязывать Вам эту тайну, которая касается только меня и моей матери. Но теперь пришла пора рассказать всё.
Я не помню, когда именно узнала, что моя мать умерла в Париже. Я привыкла считать матерью нынешнюю жену отца, а родная мать всегда представлялась мне чем-то смутным и далёким. Но, даже став взрослой, я никогда не печалилась, думая о ней, и ни разу не ощущала, что живу с мачехой. Наверное, это потому, что моя нынешняя мать – прекрасный, добрый человек, да и отец воспитывал меня правильно. Так или иначе, я совершенно не помню своей родной матери, у меня сохранились лишь смутные воспоминания о мадемуазель Рено и мадам Демольер, которые воспитывали меня за границей и были так добры ко мне. Однако, когда я читала эти записки, меня почему-то очень взволновало страстное, граничащее с мольбой желание матери, чтобы после её смерти я искала поддержки у Марико Ногавы. Дело в том, что моя мачеха так умна и хороша собой, что действительно сумела заменить отцу ту Марико, может быть, именно поэтому я и привязалась к ней как к родной матери.
Вы знаете, что я училась в школе, где главное внимание уделяли французскому языку, а поскольку я владела французским с детства, то, помимо школы, брала ещё дополнительные уроки у француженки-монахини. Когда я поступила в женский колледж, то могла читать трудные французские книги, прекрасно писала сочинения и владела разговорной речью так, что удивляла своих преподавателей. И вот как-то на Новый год, перебирая присланные отцу поздравительные открытки, я обнаружила около двадцати, написанных по-французски. Отцу и раньше писали из Франции, но на сей раз это были всего лишь новогодние поздравления, и я решила, что не будет ничего дурного, если я их прочту. Я прочла их без особого труда и, к своему величайшему удивлению, обнаружила, что в некоторых упоминается обо мне!
"Поцелуйте от меня милую Мари. Она, наверное, уже совсем большая?"
Или:
"Шлю новогодние поцелуи нашему белому зайчику. Наверное, она уже такая большая, что может сама писать по-французски?"
Или:
"Не могу представить себе, какой стала наша милая Мари".
Сначала я изумилась, а потом преисполнилась гордости и стала приставать к отцу, расспрашивая, от кого эти открытки.
Не обратив никакого внимания на то, что мои расспросы привели его в замешательство, я заявила, что хотела бы всем этим людям отправить новогодние поздравления. И, не дожидаясь его согласия, достала припрятанные открытки и стала усердно сочинять поздравления по-французски. Отцу ничего не оставалось, как написать на каждой открытке адрес и дать некоторые объяснения: "Мадам Демольер заботилась о тебе в детстве. Мадам Биар – твоя няня, раньше её звали мадемуазель Рено, а потом она вышла замуж за врача по имени Биар. Брандо – профессор медицинского университета, он наблюдал за тобой, когда ты родилась". Опустив открытки в почтовый ящик, я тут же забыла о них, но незадолго до праздника девочек, к моему величайшему удивлению, получила ответы почти на все. Обрадовавшись, я даже принесла их в школу и показала монахине. Ответные письма пришли в тот день, когда я выставила своих кукол, я запомнила это потому, что мадам Рене обещала прислать мне в подарок куклу, и я с нетерпением ждала, когда эта кукла наконец придёт и я смогу поставить её рядом с остальными… В письме госпожи Рене было нечто для меня непонятное.
"Милая Мари! Мне так и не удалось встретиться с тобой во Франции, но поскольку мы часто говорили о тебе с твоей мамой, мне кажется, я знаю тебя очень хорошо, может быть, даже лучше, чем если бы видела своими глазами. Но я совершенно не представляла себе, что ты уже такая большая и так замечательно умеешь писать поздравительные открытки по-французски. Наверное, ты похожа на свою маму, наверное, ты счастлива. Вспоминая то тяжёлое время, когда мы жили рядом с твоей мамой, я не могу удержаться от слёз. Будь же счастлива в своей далёкой Японии…"
Помню, я никак не могла уловить смысл последних фраз и стала расспрашивать мать, приведя её тем самым в замешательство. "Вырастешь, поймёшь", – только и сказала она, улыбаясь. Теперь, прочтя мамины записи, я узнала о том, что связывало её с госпожой Рене, и поняла смысл того письма.
Так или иначе, с тех пор я поддерживаю переписку со многими знакомыми покойной матери. Девочки вообще любят писать письма, переписываться же с иностранцами особенно увлекательно, поэтому я писала с удовольствием, радуясь случаю попрактиковаться во французском. Мадам Биар исправляла мои ошибки, указывала на стилистические неточности, бдительно следила за моим воспитанием, словно продолжая выполнять обязанности няни. Каждый раз в день рождения я непременно посылаю ей свою фотографию и постоянно получаю фотографии всего её семейства. Обычно они снимаются перед новой клиникой доктора Биара, открытой в рабочем городке Сен-Дени. У мадам Биар уже трое детей, но меня она продолжает называть, как в детстве, – мон-анфан – дитя моё, наверное, во Франции так принято. К моему совершеннолетию мадам Биар прислала мне в подарок красивую сумочку, полную всякой косметики. Тогда-то она впервые и открыла мне тайну моей родной матери. До того времени мне никто не говорил ничего определённого. Поэтому, как ни печальна была истина, я рада, что наконец узнала её, и очень благодарна за это мадам Биар. Ниже я привожу её письмо. Вы ведь читали дневники мамы, а в этом письме есть некоторые дополнительные обстоятельства…
Моя милая девочка, поздравляю тебя! Тебе исполнился двадцать один год, ты стала совершенно взрослым, самостоятельным человеком. Как я ждала этого дня! Я беспокоилась, что, если Господь призовёт меня раньше, я не смогу выполнить обещания, данного твоей матери, но судьба оказалась ко мне благосклонной. О, если бы ты знала, в каком я смятении! Будь ты сейчас рядом со мной, я бы взяла тебя за руку, мы бы вместе поплакали, и я рассказала бы всё, что до сих пор хранила в своём сердце. Прошло уже двадцать лет, но я помню события тех дней так отчётливо, будто это произошло вчера. Вот только сумею ли выразить словами? Наверное, отец рассказывал тебе о твоей покойной матери? Поэтому я напишу только о том, о чём непосредственно просила меня твоя мать.
Тебе было тогда года полтора и ты уже сама начинала ходить по саду, когда твоя мать неожиданно, без всякого предупреждения, вернулась из санатория. Кажется, она предложила твоему отцу немедленно уехать в Японию, сказав, что чувствует себя достаточно хорошо и доктор разрешил ей ехать. Твой отец несколько месяцев тому назад завершил определённый этап работы и собирался возвращаться в Японию, как только позволит здоровье твоей матери, но именно в тот момент, когда она покинула санаторий, он получил уведомление из своего университета о продлении срока стажировки и тут же приступил к новым экспериментам, полагая, что проведёт во Франции ещё год. К тому же состояние твоей матери, хотя она и говорила, что выздоровела, по-прежнему внушало опасения, я думаю, она бы не вынесла утомительного морского путешествия, не выдержала изнуряющей жары, которая всегда бывает в Красном море и в Индийском океане. Ты же, привыкшая ко мне и госпоже Демольер, побаивалась своей смуглой черноволосой матери. Не представляешь, сколько сил я затратила на то, чтобы ты перестала дичиться. Но мадам только улыбалась.
– Оставьте её, – говорила она. – Только бы малышка была здорова, для меня счастье просто видеть её. Даже лучше, что она не подходит ко мне, а то ещё заразится.
У твоей матери была чарующая и вместе с тем немного печальная улыбка. Мадам Демольер часто говорила, что в её улыбке светится красота души. Постепенно ты привыкла к матери и во время прогулок по Клямарскому лесу уже не вырывала у неё ручку, когда она хотела вести тебя сама… Но тем летом погода выдалась такая непостоянная: то была ужасная духота, потом сразу же похолодало, наверное, это сказалось на здоровье мадам, во всяком случае, ей явно сделалось хуже, и мсье предложил снова отвезти её в Швейцарию, но она и слушать его не стала, твёрдо решив остаться в Париже.
Она говорила, что жизнь в санатории ведёт к полной деградации человека, может быть, для больных это и хорошо, но выздороветь окончательно там невозможно, что она предпочла бы какую-нибудь лечебницу во Франции, рассчитанную на французов… Отец и Биар долго искали что-нибудь подходящее, и в конце концов её положили в принадлежащее одной религиозной организации заведение в парижском предместье Бург-Ля-Рен. По-моему, к тому времени твоя мать действительно приняла католичество, во всяком случае, покидая Клямар, она сказала мне:








