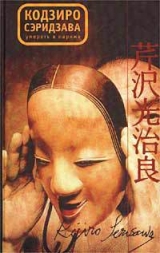
Текст книги "Умереть в Париже. Избранные произведения"
Автор книги: Кодзиро Сэридзава
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
Я не знала тогда, как сильно развито в Миямуре чувство справедливости, как глубоко умеет он сочувствовать чужому горю, поэтому, делая вид, что слушаю его ласковые речи, по скверности своего характера истолковывала их в дурную сторону. Я была не очень-то понятлива и весьма ограниченна. До замужества общалась только с отцом да братом, поэтому и Миямуру мерила той же меркой, что и своего отца, делая скидку лишь на то, что муж на тридцать лет моложе. Я не понимала тогда, что на самом деле они – и в интеллектуальном, и в эмоциональном отношении – столь же различны, как если бы жили на разных планетах. Увы, я и представить себе не могла, сколько страданий придётся мне испытать только потому, что я судила о муже точно так же, как судила бы об отце.
Скоро наш корабль вошёл в Индийский океан, о котором говорила мне Хацуко Макдональд. Ещё уезжая из Японии, я опасалась, что буду страдать от жары, но оказалось, что переносить её здесь не так уж и трудно – водная гладь была спокойной и неподвижной, как будто по поверхности океана разлили масло, иногда налетал шквальный ветер. Для меня всё здесь было впервые: беспрестанно меняющиеся оттенки воды и неба, игра солнечных лучей, – я могла целыми днями просто сидеть и смотреть вокруг. Обычно мы устраивались на палубе в шезлонгах, и, пока Миямура читал что-нибудь развлекательное, я занималась французским, потихоньку произнося вслух слова из самоучителя. Когда мне это надоедало, я смотрела на море.
И днём и ночью вокруг не было ничего, кроме моря и неба, наверное, именно это лишало людей самообладания, делая их нервными и раздражительными. Я начинала понимать, что имела в виду Хацуко. Среди пассажиров первого класса, разумеется помимо меня и Хацуко, было всего несколько женщин: жена секретаря из министерства иностранных дел, жена банковского служащего, командированного на работу в лондонский филиал, и две дочери какого-то богатого промышленника, которые ехали учиться в Лондон. Я заметила, что все эти женщины инстинктивно стараются не оставаться в одиночестве.
Да и сама я через пару дней, после того как мы вошли в Индийский океан, несколько раз ощутив на себе суровый взгляд мужа, перестала играть на палубе в гольф и стала держаться к нему поближе.
Сейчас, когда я вспоминаю об этом, то дни, проведённые на пароходе, пересекающем Индийский океан, кажутся мне очень похожими на моё нынешнее существование: только тогда люди впадали в тоску, ощущая прикосновение пустоты, а я изо всех сил сражаюсь со смертью.
Однажды вечером, когда наш пароход бороздил просторы Индийского океана, а я, по своему обыкновению, безмятежно дремала в шезлонге, внезапно раздался пронзительный сигнальный гудок. Поскольку с нами не раз проводили учения, объясняя, как следует вести себя во время тревоги, то мы – и я, и Миямура – испуганно вскочили. Однако это оказался вовсе не сигнал тревоги, а просто приветственный гудок – к "Хакусан-мару" приближалось другое японское судно. Все бросились на верхнюю палубу. Вдали качался на волнах пароход серого цвета, на его палубе толпились люди. Пароходы стали медленно сближаться, словно радуясь счастливому случаю, который неожиданно свёл их в безбрежном Индийском океане. Каким теплом наполнились при этом наши сердца, сердца людей, оставивших далеко позади свою родину! Все стали неистово размахивать носовыми платками. Мы не могли разглядеть лиц друг друга, но испытывали удивительное чувство близости к своим соотечественникам. А пароходы всё гудели. Это продолжалось считанные минуты, но мне никогда не забыть испытанного тогда волнения! Встречный пароход почти исчез вдали, но люди продолжали стоять на палубе и провожали его взглядами до тех пор, пока он не превратился в еле различимую чёрную точку. "Сколько лет пройдёт до того дня, когда и мы вот так будем возвращаться в Японию! – подумала я. – А пока надо сделать всё возможное, чтобы муж мог спокойно заниматься своей работой". Мне вдруг стало тоскливо, я почувствовала себя одинокой. Когда мы покидали Японию, когда позади осталось море Гэнкай и в надвигающихся сумерках стали таять вдали окутанные лиловой дымкой равнины и горы родной земли, все, стоя на задней палубе, не отрываясь смотрели назад и молчали, испытывая при этом ни с чем не сравнимое волнение, но тогда я не чувствовала себя одинокой, я просто рассеянно думала о разных нелепых пустяках, вроде того, что моя мать сидит сейчас за столом в нашем старом доме и ест маринованные баклажаны. Я уже даже открыла рот, чтобы поделиться этим с мужем, но тут же осеклась и прижала ко рту ладонь. Мне вдруг подумалось, что Миямура станет презирать меня, если услышит что-нибудь подобное. Может быть, когда я глядела на этот возвращающийся в Японию пароход, в душе вдруг шевельнулось неосознанное предчувствие, что я никогда больше не вернусь в Японию и умру на чужбине, и именно поэтому я так остро ощутила своё одиночество? Или в моей тогдашней тоске тоже был виноват Индийский океан?
Помню, взглянув в тот миг на Миямуру, я увидела печаль и на его лице. Может быть, он чувствовал тогда то же, что чувствовала я?
Потом мы пошли пить чай. Выйдя через некоторое время из столовой, я зашла в каюту за учебником французского и пошла на палубу. Обычно в эти часы Миямура проверял выполненные мной задания. Однако ни на одном из шезлонгов, которые мы давно уже привыкли считать своими, его не оказалось. Я побродила по палубе, разыскивая его, но так и не нашла. Спустилась в читальный зал, заглянула в игровую комнату, однако везде только наталкивалась на пылкие взгляды мужчин, а Миямуры нигде не было. Встревожившись, я поднялась по узенькой лестнице на верхнюю палубу и там увидела его. Он стоял прислонившись к шлюпке, рвал на мелкие клочки какие-то листки бумаги и бросал их в волны Индийского океана.
Подозревая недоброе, я подошла к нему. Заметив меня, он пришёл в замешательство, и лицо его омрачилось. Тут я вдруг увидела, что на парусине, прикрывавшей шлюпку, лежит целая пачка писем.
– Что ты делаешь?
– Да вот выброшу сейчас всё это за борт, и дело с концом.
Он говорил нарочито бесшабашным, так не идущим ему тоном, но мои глаза не отрывались от писем.
– Чьи это письма?
– Они не имеют к тебе никакого отношения.
– Тогда давай я тебе помогу. – И я протянула руку к письмам.
Он тут же схватил их, готовый разом бросить за борт всю пачку, но мне всё-таки удалось удержать его, и я успела заметить на оборотной стороне одного из конвертов женское имя: "Марико Аоки". Марико Аоки! При виде этого имени меня бросило в жар, я ощутила болезненный укол ревности. Я уже слышала его в тот день, когда впервые встретилась с Миямурой в доме дядюшки Исидзаки.
– Когда-то я очень любил одну женщину, – сказал он. – Говоря "любил", я не имею в виду ничего предосудительного, наша любовь была чисто платонической. Этой женщине я обязан очень многим, можно даже сказать, всем, что есть во мне хорошего. Не будь её, я жил бы совсем по-другому. В течение долгих лет я отдавал все силы тому, чтобы стать достойным её любви. Я счёл необходимым сказать вам это заранее, и если вы всё-таки решите связать свою судьбу с моей…
Нельзя сказать, чтобы у нас были какие-то особенно торжественные смотрины, но я очень нервничала, боялась поднять на него глаза, думала о совершенных пустяках вроде: "Он носит очки" или "Кажется, мы одного роста, это будет заметно, когда мы будем идти рядом". Поэтому я не придала особого значения его словам. Сидящий рядом со мной отец спросил:
– Надеюсь, вы окончательно порвали с той женщиной?
Сейчас я понимаю, что отец поступил бестактно, так грубо прервав его, впрочем, ничего другого от моего отца и ожидать было невозможно. Но тогда я вздрогнула от неожиданности и наконец позволила себе взглянуть на Миямуру.
– Она уехала за границу и вышла замуж, – спокойно ответил он.
Дядя и тётя Исидзаки, как видно, были хорошо осведомлены о его отношениях с этой женщиной, во всяком случае, дядя сказал:
– Это дочь Аоки из банка И. Одно время Миямура-кун преподавал ей математику.
А тётя весело добавила:
– Марико – прекрасный человек, я буду рада, если Синко подружится с ней, когда вернётся из-за границы, у неё есть чему поучиться.
"Ну, если у них такие отношения, что она может стать мне подругой…" – подумала я и успокоилась.
Мой отец был человеком не очень чистоплотным в отношениях с женщинами, поэтому ему, очевидно, показалось странным, что Миямура вообще заговорил об этой Марико. Почесав в затылке, он широко улыбнулся и сказал:
– Что ж, дело молодое… Я бы только не хотел, чтобы моя дочь страдала. Конечно, не мне давать вам советы, сам-то я доставил немало огорчений её матери, но зато это совет, так сказать, от чистого сердца.
Тут он рассмеялся, а вслед за ним и все остальные. Они смеялись так добродушно, что слова Миямуры тут же вылетели у меня из головы, я и думать забыла об этой Марико Аоки, хотя, наверное, это было весьма неосмотрительно с моей стороны.
И вот, стоя на верхней палубе, я сжимала в руке пачку писем Марико Аоки и думала о том, что никак нельзя выбрасывать их за борт. Меня мучила ревность – значит, он не забыл этой женщины, если, даже женившись на мне, сохранил её письма да ещё и взял их с собой в Европу. Мне захотелось побольше узнать об этой Марико, и, с трудом сдерживая подступавшие слёзы, я решила, что непременно должна прочесть её письма.
– Отдай их мне, – сказала я, сама удивляясь своей решительности, но, как ни странно, он послушно отдал мне письма. – Расскажи мне побольше об этой женщине, – добавила я. Почему-то в тот миг мной овладело необычное возбуждение. Возможно, меня взволновало и уязвило то, что он так бережно хранил письма Марико, а может быть, мне вспомнилась жизнь моих родителей…
У отца постоянно были какие-то женщины, и мать очень из-за этого страдала, а поскольку всё происходило у меня на глазах, я привыкла, хотя старалась этого не показывать, относиться к супружеской жизни своих родителей критически. Мне казалось, что своей полной покорностью, неумением оказывать сопротивление мать только поощряет отцовскую распущенность. Я считала, что счастье женщины зависит не столько от неё самой, сколько от того, кто станет её мужем. Поэтому я тайно мечтала выйти замуж за человека, который не был бы похож на моего отца, за такого, который не пьянствовал бы и не развратничал. Став женой Миямуры, я возблагодарила судьбу, пославшую мне серьёзного, непьющего и некурящего мужа, мужа, бывшего полной противоположностью моему отцу. Мне даже казалось, что судьба вознаградила меня за страдания матери.
И, узнав, что всё это время он тайно хранил письма от женщины, которую когда-то любил, я и возмутилась и огорчилась одновременно.
"В конце концов, все мужчины одинаковы, и он ничем не отличается от моего отца", – подумала я.
Вспоминая об этом теперь, я понимаю, что вела себя неправильно, но ведь и он тоже мог бы быть со мной помягче, а он отвернулся от меня и с каменным лицом, ссутулясь, пошёл вниз. Спускаясь за ним следом, я, отдавая дань своей склонности к преувеличениям, размышляла о том, что, наверное, и тогда, в сингапурском порту, он набросился на меня из-за этих писем. И вот, твёрдая в своём намерении прочитать их все до последней строчки, я осторожно спускалась по лестнице, сжимая в руках сумочку, в которую бережно, словно главную улику, положила письма.
Миямура уселся в шезлонг. Я тоже прилегла рядом и стала бездумно глядеть в небо. Дул приятный ветерок, над головой то и дело хлопал парусиновый тент, защищавший нас от солнца. Я ждала, что муж заговорит со мной, но он лежал молча, будто очень устал. Во мне нарастало беспокойство – то ли оно было связано с щемящей тоской, которую пробудил в душе тот встречный пароход, то ли мне стало страшно ехать в далёкую чужую страну с человеком, который, как оказалось, был для меня загадкой… Если бы я обнаружила эти письма ещё в Токио, то, скорее всего, отправилась бы плакаться к тётушке Исидзаки. Я была ещё слишком юна и неопытна, поэтому совсем растерялась, оказавшись наедине со своим неприятным открытием, к тому же я боялась лишиться доверия мужа и объясняла себе его молчание разочарованием во мне. И, видя, что он продолжает молчать, я даже позволила себе усомниться в нём и подумала: "И зачем только я вышла за него замуж?"
У меня есть младшая сестра. Я называю её младшей, потому что Канако родилась на шесть месяцев позже меня, а к нам в дом её взяли, когда она была в четвёртом классе младшей школы.
Я и раньше слышала от матери, что у меня есть сестрёнка, которая воспитывается в другом месте, и в тот день, когда она должна была приехать, со всех ног бежала домой из школы, с нетерпением ожидая встречи с ней. В моём воображении рисовался образ милой маленькой девочки, поэтому я была поражена и разочарована, увидев Канако, которая оказалась выше меня ростом. Она пришла в наш дом с одним маленьким узелком в руке, её привела наша семейная парикмахерша. Когда я сейчас мысленно возвращаюсь к тому времени, мне становится совершенно ясно, что с того дня, как Канако перешла в нашу школу, и до нашего с мужем отплытия из Японии я постоянно соперничала с ней. Возможно, и за Миямуру я вышла прежде всего потому, что мне хотелось опередить Канако. Думаю, что ни отец, ни мать не подозревали, какой несчастной сделали меня, приняв Канако в нашу семью. С тех пор как она переехала к нам, в моём сердце пустила ростки злоба.
Однажды, когда мы возвращались из школы, Канако позвала меня:
– Пойдём со мной в гости к моей маме.
Мне показалось странным, что, кроме моей мамы, есть ещё какая-то "мама Канако", и я рассеянно поплелась вслед за ней.
Путь от нашего респектабельного квартала до квартала, где жили гейши, показался мне удивительным приключением: мы пересекали трамвайные пути, двигались вдоль них, шли по маленьким узким улочкам… Я до сих пор отчётливо помню все подробности, помню, как тревога и любопытство распирали мою маленькую грудь.
Мать Канако звали Орики-сан, она была бывшей гейшей и преподавала игру на кото, говорят, что, узнав о том, что у отца есть другие женщины, она словно бы повредилась в уме, тогда-то отец и решил взять Канако к себе, не знаю, было ли это правдой или нет, но в тот день, едва мы вошли в дом, Орики-сан появилась в прихожей, расчёсывая только что вымытые волосы, и, даже не пригласив нас войти, злобно уставилась на меня, совсем ещё крошку, и сказала:
– Если ты когда-нибудь посмеешь обидеть Канако, я сама приду и расправлюсь с тобой! Хорошенько это запомни!
Перепугавшись, я выскочила из дома, побежала куда глаза глядят и не останавливалась, пока не пробежала около половины квартала.
Оглянувшись, я обнаружила Канако. Увидев её, наконец дала волю слезам. Долго сдерживаемые рыдания в один миг словно прорвали плотину, и я разревелась.
Прислуживающий нашему дому рикша заметил нас, плачущих, на улице и привёз домой, но перед моими глазами долго ещё стояло искажённое злобой лицо Орики-сан, в конце концов у меня поднялась температура, и я два дня провела в постели.
По-моему, именно с того дня мать перестала скрывать от меня то печальное обстоятельство, что отец ведёт двойную жизнь. Заботясь о репутации семьи и не желая уязвлять чувства отца, мать старалась относиться к нам с Канако одинаково, но чем больше она старалась, тем острее я ощущала несправедливость её отношения к себе и неразумно терзала своё сердце. Я поступила в женский префектуральный колледж, а Канако – в частный, поэтому внешне победа была вроде бы на моей стороне, но, не чувствуя себя удовлетворённой, я по-прежнему видела в ней соперницу. Окончив колледж, мы обе уехали в Токио, где я поступила в Высшее училище Цуда, а Канако – в Токийский женский университет. Здесь тоже победила я. К сожалению, в моём сердце уже в то время поселилось высокомерие, и я была уверена, что моя победа совершенно справедлива. Я не оставляла без внимания пересуды домашней прислуги и слышала, о чём шептались на улице, поэтому втайне презирала сестру, которая была внебрачным ребёнком, и не сомневалась в собственной правоте.
Впрочем, если бы мы так и остались вдвоём учиться в Токио, моё сердце, возможно, и смягчилось бы. Однажды в воскресенье Канако, жившая в университетском общежитии, пришла ко мне – я тогда снимала комнату в доме своего учителя – и попросила совета.
– В общежитии плохо кормят, так и заболеть недолго, я хочу бросить университет и вернуться домой, – сказала она.
Я не могла не посочувствовать Канако, тем более что и сама скучала по дому и тяготилась необходимостью ютиться в домике учителя с тремя другими студентками. И заявила, что сама поеду её проводить, как полагается старшей сестре. На самом-то деле мной двигало не столько сочувствие, сколько дух соперничества. Учителю я объяснила, что провожу сестру, которая заболела и решила уехать домой, после чего сразу же вернусь в Токио. Он не возражал, и мы отправились в "Суймэйкан", гостиницу в Цукидзи, где всегда останавливался отец, хозяйка заказала нам билеты, вручила подарки, и мы уехали домой.
– Знаешь, когда я смотрел на этот возвращающийся в Японию пароход, я неожиданно остро ощутил, как печальна человеческая жизнь, как одинок человек, и вдруг понял, что она правильно поступила, выйдя замуж в Европе. И простил её.
Я вздрогнула – голос мужа внезапно вырвал меня из моих грёз: мысли были в далёком прошлом.
– Я считал, что могу не рассказывать тебе о ней. Но, вероятно, я всё-таки должен сделать это, хотя бы ради того, чтобы окончательно выкинуть её из своего сердца. Боюсь, что, если я не расскажу тебе обо всём сейчас, другого случая может и не представиться. Поэтому я хочу, чтобы ты меня выслушала.
Он приподнялся и смотрел на меня блестящими от волнения глазами. Я тоже выпрямилась. Меня внезапно бросило в жар, но я сумела выговорить: "Хорошо, слушаю".
Почему Миямура не обманул меня тогда? Наверное, он считал меня равной себе, вполне сложившейся женщиной, а я была просто глупой, не знающей жизни девчонкой, высокомерной и спесивой, к тому же имеющей определённое и весьма предвзятое – спасибо отцу – представление о мужчинах.
Желая, чтобы я знала о нём всё, Миямура стал рассказывать мне о своём прошлом, но я слышала только то, что касалось Марико, остальное же пропускала мимо ушей. Всё, что он говорил о ней, я жадно впитывала и потому запомнила до последнего слова, а остальное тут же вылетело у меня из головы.
Он говорил, к примеру, что сблизился с семьёй Марико, потому что их дача находилась в пригороде города Н., где он жил в юности, и я тут же начинала ругать себя за то, что не осмотрела как следует тех мест.
Незадолго до отъезда в Европу Миямура повёз меня к себе на родину, решив показать могилы предков и деревню, в которой прошли его детские годы. Но меня всё это мало интересовало. Родители его уже скончались, дома тоже не сохранилось, осталась только тётка, которая, занимаясь крестьянским трудом, одновременно присматривала за виллой моего дядюшки Исидзаки, там, на этой вилле, мы с ней и встретились. Миямура родился в крестьянской семье и очень рано потерял родителей. Жизнь у него была очень тяжёлая, и университет он окончил ценой неимоверных усилий, однако мне вовсе не хотелось вдаваться в подробности его нищенского существования. Когда я вышла за него замуж, он уже был ассистентом профессора в университете, мог рассчитывать на материальную поддержку со стороны моего отца, и я считала, что ему совершенно необязательно помнить о своём крестьянском прошлом. Поэтому я отказалась знакомиться с более дальними родственниками, и сразу после посещения могил мы уехали. Может быть, я спешила ещё и потому, что на обратном пути мы собирались заехать к моим родным.
Могилы семейства Миямура находились в сосновом бору у подножия горы. Пройдя через бор, мы вышли к морю. Затем по берегу дошли до устья реки, вдоль которой располагались виллы. Неподалёку виднелось несколько десятков рыбацких домов, один из которых принадлежал дяде Миямуры. Встретили нас там очень радушно, но дом оказался таким тесным, что буквально некуда было ступить, везде громоздились рыбачьи снасти, резко пахло рыбой, поэтому, несмотря на уговоры, я не пожелала войти в дом, и мы присели на веранде. Тётушка постелила для нас новые циновки и, сказав, что в доме вряд ли найдётся что-нибудь, что пришлось бы нам по вкусу, послала в лавку за сидром. Но я даже не пригубила его и, рассеянно любуясь большой рекой, вид на которую открывался с веранды, думала только о том, как бы не опоздать на обратный поезд. Перед домом собрались люди, знавшие мужа в детские годы, пришла и его тётушка, присматривавшая за виллой дядюшки Исидзаки, и многие другие. Они привели с собой детей, и все от мала до велика пожирали меня глазами – похоже, в этих краях не часто появлялись люди в европейском платье. Не в силах выносить это, я стала торопить мужа, и очень скоро мы откланялись. Дядя мужа посадил нас в небольшую лодку, и по реке мы добрались до городка, где можно было нанять машину. Река была широкая и красивая. Дядюшка грёб один, издавая при этом какие-то странные монотонные звуки. Миямура предавался воспоминаниям, показывая мне то каменную ограду, рядом с которой он обычно купался в детстве, то омут под деревом эноки, в котором он ловил рыбу. "Вон при том храме была наша начальная школа, а под той горой – средняя", – говорил он. И храмовая роща, и гора были прекрасны, но, откровенно говоря, меня совершенно не интересовали ни местные пейзажи, ни его воспоминания. Могилы я посетила и, выполнив, таким образом, свой долг, хотела только одного – поскорее оказаться дома. Там ждали меня отец и мать да и многие другие люди, которые радовались, что я еду за границу, и готовились торжественно отметить это событие. Моё сердце было с ними, а не на родине мужа. А уж любоваться окрестными видами мне тем более не хотелось.
Но вот что странно – когда там, посреди Индийского океана, Миямура стал рассказывать мне о Марико Аоки, в моей памяти возникли смутные воспоминания о той нашей поездке, я словно снова увидела ту реку, те прекрасные пейзажи…
– Если бы я не встретился с Марико, – продолжал говорить Миямура, – я, может быть, никогда бы не понял, что у человека есть душа. Я привык рассматривать его только с точки зрения физиологии, для меня существовало только тело как объект для медицинских исследований, а о душе я никогда и не задумывался. Мне казалось, что любое явление можно объяснить с точки зрения физиологии, я часто спорил об этом с Марико. Она боялась, что я стану материалистом, и старалась почаще рассказывать мне о прочитанных книгах, учила понимать музыку и живопись. В студенческие годы, да и позже тоже, я только и делал, что учился, у меня не оставалось времени на чтение книг, выходящих за рамки моей специальности, а уж тем более на искусство, и Марико занималась моим образованием. Иногда она говорила, что непременно докажет мне, что душа существует, и думаю, что за те пять лет, что мы любили друг друга, ей удалось это сделать. Именно она и моя любовь к ней пробудили во мне интерес к проблемам человеческой жизни.
Миямура сказал, что расстался с Марико, так ни разу и не коснувшись её, но я ему не очень-то поверила, ведь они любили друг друга целых пять лет и проводили вместе почти все каникулы – Марико на это время возвращалась на виллу, он тоже приезжал домой, так неужели они всё время только спорили? Думая об этом, я терзалась от ревности, вспоминая сосновую рощу на берегу моря, вишнёвую аллею вдоль реки, небольшую гору с башней наблюдения за движением рыбных косяков на вершине – наверняка этой парочке был знаком там каждый уголок. Я вспомнила, что, когда мы плыли на лодке в город, Миямура сказал:
– Летом дядя обычно катает на этой лодке гостей с вилл и часто выходит с ними в открытое море. В детстве я всегда увязывался за ним и очень хорошо знал, в какой стороне ловится рыба кису, какая должна быть температура воды, чтобы начинать лов макрелевого тунца…
"Может быть, и так, – думала я, – но главное – другое". На этой же самой лодке он катался с Марико. И, останавливаясь с ней перед словно забытыми в сосновой роще древними камнями, наверное, говорил то же самое, что сказал мне:
– Это очень простые могилы, но такие и должны быть у моих родителей, проживших простую и достойную жизнь.
Ещё я вспомнила, как он уверял меня, будто непременно хочет показать мне землю, на которой вырос, и мне тут же пришло в голову, что на самом-то деле он просто хотел перед отъездом из Японии ещё раз увидеть те места, где бывал с Марико. Да, я буквально сгорала от ревности, слушая признания мужа.
– В семье Марико меня готовы были принять как репетитора, – говорил он, – учился я всегда очень хорошо, и меня жалели, зная, с каким трудом мне удалось вырваться из крестьянской среды, но в качестве зятя я им никак не подходил. Как только отец Марико узнал, что мы любим друг друга, он тут же закрыл передо мной двери своего дома. Они заставили нас расстаться, причём причины выдвигались самые разные – то они говорили, что простой ординатор не пара дочери банкира, то обвиняли меня, заявляя, что за моей внешней порядочностью скрывается подлая душа, что якобы я вкрался к ним в доверие, имея в виду соблазнить их дочь… Разумеется, я понимал, что на самом деле причина была одна – сын бедного крестьянина не годился в мужья их дочери. У меня не было ни положения в обществе, ни состояния, ничего такого, чем семья Аоки могла бы гордиться. После того как отец Марико запретил нам встречаться, мы стали переписываться и всё равно верили, что когда-нибудь будем вместе. "Придёт время, – думали мы, – отец сам благословит нас, и мы поженимся". Я хорошо понимал, что для достижения этой цели должен как можно быстрее получить учёную степень и стать ассистентом профессора, иного пути не было. Однако, окончив Высшее училище Цуда, Марико, уставшая отказывать своим многочисленным поклонникам, решила уехать в Европу. Её отец тут же согласился, полагая, что таким образом удастся наконец оторвать её от меня, и со спокойным сердцем отпустил дочь за границу, тем более что она собиралась ехать вместе со своим учителем. Однако у Марико был свой план: она хорошо знала, что недалёк тот день, когда университет пошлёт за границу меня, и решила поехать первой и ждать меня там. Ждать надо было недолго: поговаривали, что мой профессор предполагает отправить меня в Европу уже в следующем году. Нам казалось, что мы сумели обмануть Аоки. Марико покинула Японию, лелея тайную надежду на нашу скорую встречу в Европе и утешая себя тем, что когда-нибудь её отец сменит гнев на милость. Таким образом, мы оказались по разные стороны океана и стали каждый день писать друг другу письма. Но, увы, наша радость была преждевременной, случилось нечто такое, что запутало наши судьбы. Ни в следующем году, ни через год я не смог поехать за границу, правительство просто прекратило выделять на это средства. Оказавшись на чужбине одна, Марико стала проявлять беспокойство, и я посоветовал ей вернуться в Японию, но она ответила, что не может вернуться, хотя бы потому, что ей ещё нечем порадовать отца… Так прошло три года. Если бы только у меня были деньги, я бы сию же минуту отправился в Европу… Постепенно мы перестали понимать друг друга, отношения между нами становились всё хуже, и кончилось тем, что она вышла замуж. Наверное, решила, что не должна забывать о дочерней почтительности, во всяком случае, её избранник принадлежал к влиятельному семейству и учился на экономическом факультете…
Я и теперь помню, как злорадствовала, с тайной усмешкой слушая его рассказ. Видите ли, всё это время он не мог простить её и простил только в тот момент, когда увидел пароход, возвращающийся из Европы в Японию! "Ничего удивительного, – говорил он, – Марико оказалась совершенно одна в чужой стране, ей было тоскливо, вот она и доверилась первому попавшемуся японскому мужчине". Он готов был сам просить у неё прощения! Слушая его, я только иронически улыбалась, не испытывая ни жалости, ни сострадания. "Что ж тут такого, – высокомерно думала я, – Марико правильно поступила, бросив его, недоверие её отца тоже в порядке вещей. Мой повёл бы себя точно так же. Стоило бы ему увидеть тётку Миямуры, он никогда бы не допустил нашего брака. Да и сама я согласилась только потому, что считаю его приёмным сыном дяди Исидзаки. Во всяком случае, он больше не якшается с этими своими родственниками, насквозь пропахшими рыбой. А может быть, Миямура привёз меня к себе на родину потому, что хотел похвастаться мной? Смотрите, мол, какая у меня жена, куда до неё Марико Аоки…"
Я до сих пор помню тот час перед закатом, Индийский океан, сверкавший всеми цветами радуги. Да и как не помнить? В тот вечер я чувствовала себя победительницей и никакие мрачные мысли не мешали мне любоваться морем. Скоро прозвучал гонг, приглашающий к ужину. Я, как будто ничего не случилось, спустилась в каюту переодеться, а Миямура остался на палубе. Войдя в ресторан, я увидела, что мужа ещё нет, хотя собрались почти все пассажиры, и пошла искать его. На безлюдной, окутанной сумерками палубе я увидела одинокую, уныло поникшую фигуру, и мне стало так страшно, что я не смогла выдавить из себя ни слова. Кажется, всё это произошло за два дня до нашего прибытия в Коломбо.
Странное ощущение собственной победы, возникшее после того, как я выслушала признания Миямуры, довольно быстро покинуло меня, я снова начала сомневаться в муже и терзаться ревностью. Когда мы вошли в порт Коломбо, он был в таком же дурном расположении духа, как и в Сингапуре, и я мысленно сразу же связала его настроение с Марико.
Сам он объяснил свою раздражительность тем, что, увидев, как жестоко обращаются англичане с рабочими-индусами, невольно вспомнил своё тяжёлое детство, но я ему не поверила. (Наверное, я так до конца и не поняла, сколько страданий пришлось ему испытать в прошлом.) У меня возникло ощущение, что эта неизвестная мне Марико потихоньку вклинилась между нами, и меня это раздражало. Даже когда он был нежен со мной, ласкал меня, моё сердце пронзала ревность: я думала, что он просто повторяет то, что когда-то говорил ей, делает со мной то же, что делал с ней. Раньше я критически относилась к матери, безропотно сносившей безобразия отца, и самонадеянно считала, что уж со мной-то такого никогда не случится. Теперь же я ударилась в другую крайность и пришла к выводу, что все мужчины одинаковы.
Помнится, это было на второй или на третий день после того, как мы вошли в Красное море. Однажды Миямура вдруг спросил:








