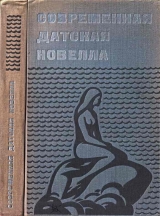
Текст книги "Современная датская новелла"
Автор книги: Карен Бликсен
Соавторы: Ханс Браннер,Харальд Хердаль,Карл Шарнберг,Вильям Хайнесен,Улла Рюум,Пер Шальдемосе,Поуль Эрум,Бенни Андерсен,Франк Егер,Сесиль Бёдкер
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Карл Эрик Сойя
Мировая слава
Перевод А. Сергеева

Нас было только двое в трамвае – мой сосед и я, и мы скучали, я во всяком случае. Но квартал, по которому мы проезжали, совсем и не располагал к веселью. Это была одна из тех грустных, прозаических окраин, которые рождают мечтателей и фантазеров.
Сосед мой был самый обыкновенный человек, если судить по виду. Среднего роста, средней полноты, среднего ума, средних лет. Он был немного похож на меня самого, и я решил, что, как индивид, он совсем не интересен. Но мне пришлось изменить свое мнение, когда он неожиданно сообщил:
– Наконец-то я понял, как прославиться на весь мир.
Я остолбенел. И не потому, что он заговорил со мной, не представившись – я ведь не швед, – и не потому, что передо мной, кажется, был сумасшедший, – ведь и среди моих знакомых есть такие. Нет, я остолбенел, потому что… Впрочем, лучше мне помолчать. Слишком много у меня недругов, не стоит мне раскрывать тайны своей души. Я немного успокоился и сказал:
– Забавно. И как же вы собираетесь это сделать?
– Дело в том, что я готовлю цирковой номер, – ответил он, – а, как известно, великие цирковые номера всегда завоевывали мировую славу.
Я кивнул.
– Вы правы. Грок, братья Ривельс, Баггесен…
Мой спутник продолжал.
– Я готовлю феноменальный номер, – сказал он. – Вот сейчас я сидел и думал. Теперь мне ясно все в деталях, и если вам интересно…
– Еще бы.
– Но вы, конечно, не злоупотребите моим доверием?..
– Ну, что вы! Фокусов я не краду.
– Так слушайте… Сначала выходят два помощника с реквизитом. Они в ливреях. Я много думал, в каких ливреях: в красных или зеленых, но все же склоняюсь к тому, что они должны быть в зеленых. Красный цвет – это слишком избито. Так вот, темно-зеленые ливреи с золотыми галунами.
– Очень эффектно, – вставил я. Мне хотелось показать, что я внимательно слушаю его.
– Реквизит, – продолжал он деловито, – состоит из стола, аквариума, десятка золотых рыбок и десятка головастиков. Золотые рыбки и головастики – в аквариуме из пластмассы, чтобы он не разбился. Придется, наверное, заказать в Америке.
Служители вносят стол, аквариум стоит на столе, а рыбки и головастики резвятся в аквариуме.
Установив стол в центре манежа, помощники уходят.
– Не помню, сказал ли я, что в аквариуме должна быть также и вода, но вы, наверное, и сами догадались.
Я кивнул. Конечно, догадался.
– Потом выхожу я.
Правда, мне еще не совсем ясно, в чем я буду, во фраке или в обычном костюме. Все же думаю, что остановлюсь на костюме. Да, костюм чуть поновей, чем этот. – Он взглянул на измятые жилетку и брюки. – Но ничего особенно дорогого или слишком нарядного. Представляете, как это ошеломит – слава, богатство и такая скромность в одежде.
На остановке мой сосед смолк: видимо, он боялся, что кондуктор проникнет в его великий замысел.
С передней площадки в вагон поднялся рабочий, и мы снова тронулись.
– Я кланяюсь, – продолжал мой попутчик, – с достоинством, но учтиво. И номер начинается. Оркестр затихает. Понимаете? Почти весь номер должен идти в тишине. Тогда зрители сразу почувствуют: это нечто невиданное!
Я опускаю руку в воду, вылавливаю головастика, маленького, невинного головастика, и бросаю его вверх. Под купол цирка. И он исчезает.
– Исчезает? – перебил я с неподдельным изумлением.
– Да. Становится невидимым. Растворяется в воздухе. Тогда я хватаю золотую рыбку и – вверх. Представляете, как все уставятся?!
– Еще бы, – сказал я. – Вытаращат глаза. Я-то знаю, как реагируют зрители. Они и рты разинут, чтобы лучше видеть.
– Головастик – золотая рыбка, головастик – золотая рыбка и так далее. До тех пор, пока все они не исчезнут под куполом.
Я осторожно спросил:
– Вы действуете внушением?
Но он не ответил на мой вопрос и продолжал:
– И вот очередь дошла до аквариума. Я беру его обеими руками и швыряю вверх. Он исчезает.
– И аквариум?!
– И аквариум.
– Но каким же образом?..
– Тут я хватаю стол. И – в воздух! Стол исчезает. Тает, словно в тумане. А публика сидит ни жива ни мертва. Был стол, и – пшик – нет его!
– Вот черт…
– Я кланяюсь. Учтиво, но с достоинством. И ухожу.
– Уходите?
– Ну да. За кулисы. Музыка тем временем начинает играть что-то торжественное. Скорее всего какой-нибудь гимн. Музыканты могут играть довольно долго. Ничего, что зрители в замешательстве, а может, даже несколько раздражены. Тем сильнее будет эффект в конце. При последних тактах появляются помощники, они несут большую круглую лохань и ставят ее точно на то место, где стоял стол.
Затем они наполняют лохань водой. Я думаю, тут лучше воспользоваться шлангом, ведрами носить слишком долго. Потом все уходят, музыка прекращается, и снова появляюсь я. Кланяюсь. Учтиво, но с достоинством. На арену выходит шталмейстер. На четырех языках он объявляет, что зрителям будет продемонстрировано величайшее чудо циркового искусства! Как все это произойдет, он объяснить не может – это тайна великого артиста. До сих пор никто не смог проникнуть в нее. И никто не знает, что это – гениальный фокус или загадка природы. Шталмейстер уходит. Я немного выжидаю, до тех пор, пока в цирке не воцарится мертвая тишина. И тогда, ничуть не смущаясь, подхожу к лохани, бросаю взгляд вверх под купол и легонько хлопаю в ладоши. В лохань плюхается головастик. Зрители пока еще молчат. Они сомневаются, действительно ли они видели все это. Снова хлопок, и золотая рыбка, блеснув, словно молния, уже плавает в воде. И так я хлопаю до тех пор, пока все головастики и все золотые рыбки не шлепнутся в лохань. Потом я хлопаю два раза – вниз несется аквариум; три раза – стол.
Я кланяюсь… Вы слышите аплодисменты?..
– Слышу, слышу. Это колоссально!
– Ну как, прославит меня этот фокус на весь мир? Как вы считаете?
– Еще как прославит! В этом нет никакого сомнения. Вы затмите самого Чаплина! Но как, собственно, вы собираетесь это сделать?
– Да, вот именно, – произнес он с сомнением в голосе, – я как раз сидел и думал, как мне это сделать? И надо сказать, я еще не совсем понял как, – тут лицо его вдруг прояснилось, – но я пойму и прославлюсь на весь мир.
Я снова был потрясен. У меня даже дыхание перехватило. Это же именно…
Впрочем, об этом я лучше тоже умолчу.
Я сошел на следующей остановке. На две остановки раньше, чем надо. И поплелся пешком по одной из тех грустных, прозаических окраин, которые рождают мечтателей и фантазеров. Рассказ моего попутчика расстроил и смутил меня. Так случается, говорят люди, когда встречаешь своего двойника.
Вильям Хайнесен
Девушка рожает
Перевод С. Петрова

Северная Атлантика иногда даже в самую мрачную зиму ведет себя по-летнему – штиль, теплынь, пронзительный блеск солнца. Удалые моряки былых времен называли такую летнюю погоду в зимнюю пору «гальционовой». Об эту пору зимородок – гальциона – высиживал птенцов, и, пока он сидел на яйцах, боги бури отдыхали.
Такова была погода на море в конце декабря 1919 года, когда пароход «Ботния» вдруг наскочил на плавучую мину между Исландией и Фарерскими островами. Мина эта была полуподводная. Вахтенный заметил ее, когда уже было бесполезно бить тревогу: он услышал, как она шаркнула по борту, и на несколько секунд потерял ощущение реального, перенесясь домой, к молодой жене – ему было всего лишь двадцать, и он недавно женился. Но ничего не произошло, мина не сработала. Может быть, она испортилась, слишком долго находясь в воде. Пароход преспокойно шел своим курсом, а волны веселыми молниями взблескивали на солнце. Вахтенный подумал, что, если бы пароход пошел ко дну, солнце светило бы по-прежнему и все в мире шло бы своим чередом.
Через несколько дней, когда «Ботния» находилась приблизительно в восьмидесяти морских милях к востоку от Фарерских островов, срок высиживать птенцов у зимородка кончился, и три тысячи океанид, которых Нептун прижил со своей женой Фетидой, ринулись проказничать, всячески пакостя добропорядочным кораблям. Им как маслом по сердцу, когда горка посуды съедет с накренившегося буфета и грохнется на пол. Когда несчастные пассажиры без кровинки в лице, с ледяным бисером пота на лбу проходят через неописуемые муки морской болезни, они орут, как детишки на качелях, и помирают со смеху, когда зеленая кипучая водяная гора с белым гребнем валится на палубу и железный корпус содрогается и жалобно стонет под ней.
Больше всего они веселятся и радуются, когда шхуну ударит насмерть, и ничто их так не бесит, как спокойствие и решительность моряков или невозмутимость пассажиров, которые не поддаются морской болезни, а сидят себе как ни в чем не бывало в курительном салоне, попивая грог и попыхивая сигарами.
Особую ненависть злокозненные дочери морского бога питали, видно, к старому капитану «Ботнии» Тюгесену, чье багровое одутловатое лицо всегда сохраняло неуместно веселое и насмешливое выражение; похоже было, что он насмехается над разбушевавшейся стихией. Первый штурман Странге был человек серьезный и тоже не любил эту беззаботность капитана. Он считал ее ненормальной и происходящей, видимо, от старческого склероза. Ведь не было ровнехонько никакой причины ухмыляться в такую мерзкую погоду, когда ветер не меньше десяти баллов, а барометр предвещает бурю, да еще когда идешь по такому фарватеру, где плавучих мин, что изюмин в рисовой каше. Судно уже восемнадцать часов еле тащилось, и шансов вернуться домой в сочельник не осталось. Штурман Странге мысленно видел, как его жена и три дочурки сидят, уныло и растерянно глядя на зажженную елку, если только вообще надумали зажечь ее.
Когда море волнуется, каюты на пассажирском пароходе превращаются в лазарет, там до омерзения воняет желчью, и рвотой, и камфарными каплями, и из тесных каморок исходят стоны тихого отчаяния или несутся громкие крики о помощи вперемешку с кашлем и полузадушенным клекотом в горле. Само собой разумеется, что морская болезнь не смертельна, но она вроде как бы в карикатурном виде преподносит нам предвкушение той смерти и гибели, что всех нас в конце концов ожидает, и телодвижения жертв ее мало чем отличаются от телодвижений грешников в Дантовом аду, хотя, надо сказать, последние куда менее разговорчивы.
При таких обстоятельствах судовой горничной предъявляются прямо-таки нечеловеческие требования, она должна творить чудеса и спасать грешные души. Горничная во втором классе, семнадцатилетняя исландская девушка, почти сутки напролет делала на совесть все, что могла, а потом свалилась сама, и некому стало отзываться на мольбы больных о помощи. Официанту Эрнфельдту, который сидел себе спокойненько в кают-компании и играл в домино с единственным оставшимся на ногах пассажиром, следовало заменить ее. Это было ему вовсе некстати. Он попробовал вдохнуть жизнь в изнемогающую девушку.
– Как тебе не стыдно, Мария! – увещевал он. – Нельзя горничной поддаваться такой ерунде, как морская болезнь. Это вовсе не болезнь, а одно воображение.
Девушка лежала в обмороке и не отвечала. Растрепанные светло-рыжие волосы свисали ей на лоб, усеянный капельками пота.
Ресницы у нее были светлые, как у телки. Она лежала одетая, да еще наверчено на ней было всяких юбок, платков и прочего вздора.
– Сбросила бы с себя хоть малость тряпок-то, чего в них кутаться! – сказал официант. – Сроду этакого наряда не видывал!
Он с раздражением рванул все это дурацкое тряпье. Горничная лежала неподвижно с закрытыми глазами и открытым ртом.
– Дьявол! – произнес официант голосом, охрипшим от изумления. – Так ты в положении? Черт меня подери, ежели она не в положении, господи, прости меня, грешного! Ну и история! Чтобы в положении да на судно…
Мария рванулась и пыталась избавиться от руки, которая шарила по ней. Вдруг она очнулась, приподнялась и со злостью глянула на него.
– Убирайся!
– Подумаешь, какая неженка, – сказал он, скаля зубы в возбужденной улыбке.
Лицо у Марии исказилось, она закусила губу и вдруг ударила официанта по лицу. Тот схватился за нос – на руке была кровь.
– Ах, чтоб тебя!.. – воскликнул он, выхватил носовой платок, намочил и, встав перед зеркалом, стал прикладывать его к кровоточащему носу.
Мария по-детски зарыдала во весь голос, широко открывая рот, но через секунду вдруг сорвалась с койки и исчезла.
– Погоди ты у меня, сука! – крикнул ей вслед официант и угрожающе захохотал. – Будешь ты у меня порядок знать!
– Чистая комедия! – сказала горничная первого класса Давидсен и начала раздевать Марию. На палубе Марию окатило волной, и она насквозь промокла. Дрожала и щелкала зубами.
У Давидсен были суровые чаичьи глаза и глубокая морщина на лбу.
– Сколько? – спросила она.
– Восемь месяцев, – сказала Мария.
– Эх ты, бедолага! – сказала Давидсен. – Вот выпей-ка, согреешься.
– На девятый пошло, – закрыв глаза, шепнула Мария.
– Рехнулась девка, – сказала Давидсен. – Ложись здесь и лежи спокойно!
– Нечего мне лежать, – ответила Мария. – Мне теперь совсем хорошо стало.
– Да уж лучше некуда, – сказала Давидсен. – Что ж, надо как-то выпутываться. Поговорю-ка я со стюардом!
– Ой, не надо! – взмолилась про себя Мария.
Давидсен исчезла и вернулась со стюардом. Он глядел на девушку и качал головой. Это был пожилой мужчина отеческого вида, со сверкающей плешью и обвислыми усами. Он приподнял холодную руку Марии.
– Болит где-нибудь?
Мария покачала головой.
– Нет. Теперь опять хорошо. Я пойду к себе…
– Эрнфельдт приставал к ней, – пояснила Давидсен.
– Пускай Аманда побудет во втором классе. От той он живо отстанет, – сказал стюард. – Есть у тебя жених? – обратился он опять к Марии.
– Нет.
– Бросил?
– Да.
– Зачем же ты из дому удрала?
Мария молча опустила веки.
– Ты просто сумасшедшая, – сказал стюард.
– Теперь мне опять хорошо стало, – ответила Мария. – Я справлюсь с работой.
Стюард обернулся к Давидсен:
– Приглядывай за ней!
На другой день буря поослабла и судно начало потихоньку продвигаться по курсу. Анемометр колебался между семью и девятью. Таким образом прошли еще добрые сутки, настал сочельник, а норвежский берег еще и не показался. К обеду погода испортилась, ветер перешел в настоящий шторм. Пена кипящих валов шквалом обрушивалась на судно. Но воздух был чист, и между солеными водопадами сверкало у самого горизонта багровое солнце, озаряя все вокруг волшебным и словно подземным пламенем.
В первом классе были на ногах только четверо пассажиров. Они сидели верхом на мягких стульях в курительном салоне, закинув назад руки и охватив ими спинки стульев. Трое из этих салонных всадников были исландцы: врач, часовщик и известный поэт Эйнар Бенедиктссон. Четвертый был фаререц, машинист Грегерсен, низенький, лохматый, бородатый, неизменно улыбающийся доброй улыбкой старый фавн. Исландцы сжимали в руках стаканы с водкой. Фаререц был трезвенник. К стулу врача была прикреплена соломенная плетенка, в которой, точно младенец в колыбели, покачивалась и перекатывалась бутылочка.
Шум непогоды и неистовая качка судна затрудняли беседу, но часовщик увеселял компанию пением. У часовщика Балтазара Ньяльссона были хорошие голосовые данные, однако использовались они только в кругу добрых друзей и под влиянием возбуждающих средств, а репертуар у Ньяльссона был хотя и ограниченный, но зато изысканный: он состоял из великопостных и погребальных псалмов старинного псалмослагателя Халлгрима Пьетюрссона. Балтазар, сын священника и сам священник по образованию, отверг религию, считая ее безнравственной, старинные псалмы, однако, любил по-прежнему и знал их назубок. Оба его соотечественника подпевали ему в тех местах, где они помнили слова.
Фарерский машинист внимательно слушал и удивленно рассматривал трех распевающих соотчичей. Двое из них, поэт и врач, были, видно, силачи; первый – статный, с пронзительным взглядом; второй – грузный, как бык, и черномазый, как мулат. Часовщик же был чахлый и бледный, безбородый, с тонкими чертами лица. Одет он был аккуратно и даже франтовато – в пиджаке и при белом воротничке, а остальные были в халатах и туфлях, и их утомленные бессонной ночью лица за сутки поросли щетиной. Про Эйнара Бенедиктссона всем было известно, что он, кроме писания стихов, занимается еще и политикой, а также торгует недвижимостью. Ходили слухи, что он продавал богатым и чудаковатым английским дельцам такие земельные участки, где были бы и землетрясения, и золотые жилы, и северное сияние.
Начинало темнеть, и официант пришел зажечь свет, но поэт об этом и слышать не хотел, он предпочитал блаженствовать, сумерничая и глядя, как носятся по волнам светлые отблески. Врач протянул официанту пустую бутылочку, чтобы тот заменил ее, и, пока медленно вечерело, а буря все бушевала, самовластная и обезумелая, исландцы продолжали петь свои псалмы.
Смерть суждена на муку
тому, кто жить рожден.
Отвесть угрозы руку
напрасно тщится он.
Не минешь муку эту —
у мрака быть в гостях.
Едва взнесясь ко свету,
ты снова станешь прах.
За вечер шторм превратился в ураган. Вокруг судна кипел неугомонный прибой, корпус напрягался и стонал, как роженица в муках. Шальная волна сорвала две спасательные шлюпки, уцелевшие требовали дополнительного крепления. В одиннадцать отдраился грузовой люк на баке, и – тут уж не зевай! – матросы в клеенчатой одежде ринулись во мрак с инструментом, фонарями и веревками. Командовал штурман Странге. Взгляд у него освирепел и стал совсем дикий. Ремонтные работы, которые в спокойную погоду были бы безделицей, вылились в ожесточенную войну с великанами; двоих моряков унесло бы за борт, если бы не предусмотрительность штурмана, который велел их привязать крепкими веревками к кабестану.
Когда Странге, покончив с этим делом, поднялся на мостик, капитан опять по своей привычке улыбался в бороду.
– Какого черта вы, в сущности, ухмыляетесь? Чему? – спросил штурман в бешенстве.
– Ухмыляюсь? Да неужто? – расхохотался во все горло Тюгесен.
Штурман отвернулся и пробормотал что-то вроде «ненормальный» и «безответственность».
– Вы молодец, Странге! – заметил капитан, и казалось, что его опять одолевает приступ смеха.
А внизу, в пассажирском отделении, положение стало прямо-таки катастрофическим; у многих не хватало сил ухватиться за койку, и их швыряло во все стороны. Они стукались, набивали себе желваки, обдирали до крови кожу или теряли сознание. Дети и женщины кричали и стонали от дикого страха. И было чего бояться. Стюард, официант и юнги были вынуждены прийти на помощь горничным, у которых дела было по горло. В разгар всего этого Марии опять стало дурно. Опасаясь самого худшего, Давидсен уложила ее на койку, но немного погодя упрямая девчонка снова была на ногах.
Наверху, в салоне, четыре всадника скакали сквозь ночь на своих привинченных стульях. Под потолком, между недвижными лампочками сигарный дым стоял столбом или плавал спокойными кругами, словно ему и дела не было до трагических метаний судна. Часы на стене остановились, время перестало существовать и не имело больше значения. Дьявольское безвременье царило в освещенном салоне, а свирепые чудища рычали и обезумело выли во мраке моря.
Балтазар кончил петь псалмы и предавался наслаждению сигарой. Он считал, что пришла очередь поэту развлекать честную компанию. С этим согласился и врач, а Эйнар Бенедиктссон был не таков, чтобы махнуть рукой на своих добрых соотечественников, стосковавшихся по литературе. Он опорожнил стакан, закрыл глаза, припомнил и начал мягким, но вдохновенным голосом читать свою великую оду океану всемогущему, колыбели и могиле жизни.
Как роскошны владений твоих и картины и тени!
Ты мне припомнился в дни, когда свет брезжит в сумрачной сени.
Ты волнистою грудью вздымаешься, маясь глубоко,
и мрака всесильного кубок ты вволю впиваешь,
и беспросветным веком свое смыкаешь ты око.
Как в саван мертвецкий, ты берег в прибой одеваешь,
и будто призраки стонут на дне одиноко.
В огне их могилы, в мерцающей царственно пене.
Лицом, изнемогшим во сне, как в оковах сурового рока,
взирают, как жизнью и гробом ты был и бываешь.
Вошел официант, чтобы обменять бутылку.
– Погасите этот дурацкий свет! – сказал Балтазар.
– Да ведь вы, господа, не будете же сидеть в темноте?
– Эйнаровы стихи в темноте ярче светят, – заметил врач.
Свет погасили, но прежде налили стаканы. И длинный волшебный гимн раскинул свои огромные сети, несомый энергичным, но спокойным и даже как бы чуть-чуть застенчивым голосом поэта, голосом, лишь в последней строфе поднявшимся на могучих крыльях навстречу дню.
Как дети дивятся, резвясь на берегу после шквала
и видя ракушки – улов твоего смертоносного лона,
так любы мне грохоты бурь и потоков подводные стоны,
ты, о игривая глубь, где сердца вовек не бывало.
Вихри миражей, тени, скалы одинокой колонна —
все лики твои будут ныне и присно со мною.
Пусть холодна твоя грудь под пряжкой зари ледяною,
пусть зря к тебе скалы взывают, не получая ответа,
верь, что видений единство туманное это
в душу мне хлынет, кипя исполинской волною.
Молча выпили стаканы. Настала долгая пауза.
– Теперь твой черед, Бьёрн! – сказал поэт. – Каждый из нас должен внести свою лепту, чтобы скоротать эту дьявольскую ночь.
– Мой? – хрипло спросил врач. – Да ведь у меня ни голоса, ни вдохновения. Я только и умею, что вспарывать и снова зашивать людям брюхо. Нет уж… а нельзя ли спеть что-нибудь веселенькое? Ты, фаререц, наверняка не откажешься угостить нас песней.
– Трудновато будет петь без приплясу, – раздался из тьмы сиплый голос фавна.
– Так спляшем! – сказал Эйнар Бенедиктссон. – Зажигайте свет!
Балтазар осторожно отделился от стула и тут же беспомощно растянулся на полу. Врач тоже предпринял попытку добраться до выключателя, но и его постигла та же участь. Во мраке раздавались смех и ругань двух потерпевших неудачу.
– Не трогайтесь с места и держитесь крепче! – приказал поэт. Он улегся плашмя на пол и при помощи разных ухищрений пытался доехать на брюхе до выключателя, однако и он покатился кувырком и пришвартовался под столом в противоположном конце салона.
А тем временем машинист Грегерсен завел свою песню, отбивая такт каблуками по ножкам стола. Он пел жиденьким, но пронзительным голосом старинную шуточную хвастливую песнь об императоре Карлемагнусе и его двенадцати пэрах, которые на Руси чуть было не погибли от чар поганого язычника царя Гугона, но благодаря смелости, стойкости, а равно и вмешательству сил небесных восторжествовали над колдовством: Виллум пробивает золотой жердиной стену в пятнадцать локтей толщиной, Энгельбрет ныряет в котел с кипящим оловом и выходит оттуда цел и невредим, Ярл Олаф стократно преуспевает в девичьей светлице, Роланд, дунув в рог раз единый, сдувает с головы у царя Гугона все до последнего волосочка, а архиепископ Турпин в довершение всего напускает погубительный поток на царство языческое, которое и стало бы добычей потопа, если бы великодушный император Карлемагнус, воззвав к милосердному богу христианскому, не остановил разбушевавшиеся воды…
Валявшиеся на полу исландцы, уцепясь за ножки стола и стульев, подхватили в полной темноте звонкий припев:
Едут они из французской земли,
деву-красу везут на седле —
труби, Оливант, в Рунсивале!
Вскоре после полуночи буря стала утихать, ветер повернул к северу. Над морем, где, подобно цепям, отливающим серебром, катились длинной пенной чередой тяжело дышащие валы, загорелись звезды.
Из каюты горничной Давидсен доносились полузадушенные крики, сливаясь с жалобными воплями больных морской болезнью. Старшая горничная держала девушку за руки.
– Не бойся, Мария! – говорила она ласково. – Я с тобой, да и врач на пароходе едет.
– Не боюсь я! – шепнула девушка. Она притянула руки старшей горничной к своим пересохшим губам, открыла глаза и улыбнулась слабой, усталой улыбкой: – Думаешь, началось? А может, я просто лежала не как надо? Ведь я чувствую себя опять как здоровая!
Давидсен сидела у койки и глядела в пространство. Вдруг она нагнулась к девушке и глухо сказала:
– Знаешь, Мария, когда я рожала в первый раз, так было точь-в-точь как у тебя. Мне ведь тоже было семнадцать, и я одна осталась на свете – бросил. Вот какое дело.
Мария приподнялась на локте и старалась заглянуть ей в глаза.
– Мертвого родила? – прошептала она испуганно.
– Нет.
– Очень было тошно?
– Нет.
Девушка вздохнула и опять улеглась, как полагается.
– Мальчик родился, – сказала Давидсен. – Пятнадцать ему теперь.
– Ну, а после? – спросила Мария. – Ты все-таки вышла замуж?
– Да. Только не за его отца. И очень недолго с ним жила.
Мария подремывала.
– Сосну, что ли! – сказала она.
– И то сосни-ка!
Но немного погодя девушка встрепенулась и начала отчаянно корчиться на койке. Давидсен кликнула юнгу и велела ему подняться наверх и разыскать врача, доктора Хельгасона.
– Скажи, что очень важно! Роды!
Юнга ошалело уставился на нее.
– Живо у меня, Йохан! – крикнула горничная. – Нечего глазеть! Некогда!
– Давай-ка уж лучше я сам, – сказал стюард и умчался по лестнице.
Из каюты горничной вдруг разнесся душераздирающий крик: «Мама!» А вслед за ним какой-то утробный, выворачивающий душу рев, бессмысленный звериный рык.
Оба юнги вытаращили друг на друга глаза. Йохан поднес ко рту кулаки и вцепился зубами в пальцы. Светлые волосы встали дыбом от ужаса. Роберт, который был постарше, скалил зубы в напряженной улыбке.
– Да, черт побери! – сказал он по-взрослому. – Тут ей и каюк, дело известное, это тебе не фунт изюму.
В салоне зажгли свет, и машинист Грегерсен в гордом одиночестве раскладывал пасьянс. Все трое исландцев полегли врастяжку, каждый на своем диване. Храпели они во все носовые завертки. Стюард подошел и стал тормошить врача. Доктор Хельгасон потянулся и тут же повернулся на другой бок. Стюард попробовал разбудить его криком, но безуспешно. Грегерсен пришел на подмогу.
– Там рожает женщина! – кричали оба прямо в ухо одуревшему врачу. – Человек умереть может!
– Может, двое сразу! – добавил Грегерсен.
– В чем дело? – воскликнул Эйнар Бенедиктссон. Он вскочил с дивана и, заспанный, позевывая, чесал в затылке. Как только поэт уразумел, в чем дело, глаза у него загорелись.
– Бьёрн пьян в стельку, – сказал он. Давайте разденем его и вынесем на палубу!
Стянуть одежду с почти раздетого врача не представляло никакого труда. Трое мужчин выволокли мохнатое богатырское тело на морозный воздух, на палубу с наветренной стороны. Доктор, хохоча диким басом, несколько раз попробовал встать прямо, но тотчас же опять обмякал, и его нужно было держать под руки, чтобы он не грохнулся о палубу.
– Принеси-ка лохань! – приказал поэт, а когда стюард заколебался, заорал ему в ухо: – Какого черта ты стоишь? Тащи, говорю, лоханку!
Стюард схватил ведро с водой и передал разгневанному поэту, а тот в один миг окатил врача с головой, нимало не думая о том, что его собственной одежде тоже достается. Тут медведь[2]2
Имя Бьёрн и в датском и в исландском языке означает «медведь».
[Закрыть] начал оживать, рявкнул не сколько раз, затрясся, засопел и зафыркал.
– Ну, какого вам дьявола надо? – простонал он. Уже рождество?
– Рождество! – крикнул поэт. – Дева днесь младенца рождает. А ты должен ему помочь появиться на свет божий и живо! Понял теперь?
Доктора отвели назад в салон и растерли банным полотенцем, он чихал и отплевывался, но вдруг по-трезвому кашлянул и нахмурил брови. Теперь он пришел в норму и, накинув халат, поспешил за стюардом.
В полной тишине поэт хватил единым духом полбутылки. Машинист вернулся к своему пасьянсу. Часовщик проснулся. Он сидел на диване, держась обеими руками за живот. Вид у него был страдальческий. Поэт налил ему стакан.
– Милый! – сказал он ласково и, повернувшись к Грегерсену, прибавил: – Балтазар-то у нас заболел. Его надо отправить вниз и оперировать.
– Неужто так опасно? – спросил машинист и смешал карты в кучу.
– Рак! – вздохнул Балтазар и приподнял стакан.
Роды были не из легких. Доктору Хельгасону понадобилось все его уменье. Давидсен помогала ему, подавая воду, полотенца и лекарства из судовой аптечки. Положение казалось критическим. Худенькое тело Марии корчилось и металось от приступов боли, как шхуна, попавшая в аварию. Давидсен, хоть она и всякого насмотрелась в жизни, чуть в обморок не падала, видя, какая уйма крови хлещет на усердно работающие руки врача. У девушки не стало голоса, из глотки у нее вырывались жуткие сиплые хрипы. Она прикусила язык, и струйка алой жидкости выползала из уголка рта.
– Может, сделать ей укол? – спросила горничная.
– Нет, – сказал врач, – подождем.
В коридоре оба юнги прислушивались к тревожным звукам, доносившимся из каюты горничной. Роберт подкрался к двери и заглянул в щелку, но тут же отскочил и бросился вверх по лестнице. Йохана охватил тот же панический страх, и он помчался вслед за Робертом. Он разыскал его – одного – в пустой кладовке.
– Что с тобой, Роберт? – спросил ошеломленный Йохан.
– Кой черт просил тебя приходить сюда и шпионить за мной? – ответил Роберт. – Неужто нельзя нигде посидеть спокойно?
– Как по-твоему, она умрет? – прошептал Йохан.
– Ясное дело! – сказал Роберт и отвернулся. – Ясное дело, помрет, сплошь одна кровь.
– Чего вам тут надо, ребята? – раздался позади них голос. Это был Йосеф, кок. Он стоял в дверях камбуза, держа в одной руке стеариновую свечку, а в другой – псалтырь.
– И с рождеством-то не поздравите!
– С рождеством Христовым, – сказали юнги в один голос.
Повар поставил свечку на стол, сунул псалтырь в карман и достал бутылку портера.
– Выходит, дело-то дрянь, – сказал он и шумно отхлебнул черного пива, – выходит, дело дрянь, ежели никто на пароходе, ни едина жива душа, ни одна сатана, и не вспомнили, что нынче за вечер такой, а вернее сказать, ночь! Шатаются туда-сюда, прах их побери, ровно нехристи или гробы повапленные, господи, прости мне мое прегрешение! И пяти минут не нашлось, к примеру взять, на рождественский псалом. Вот штурман, человек он ведь рассудительный, а не пойму, что с ним. А нынче ведь святая ночь, прости господи, самая, может, рассвятейшая на весь календарь.
Кок сел на табуретку, потянул опять из бутылки и вытащил из кармана книжку. Его карие глаза были обведены красной каймой; цвет у них был тот же самый, что и у темного липкого пива.
– Но уж коли вы оба здесь, – продолжал он, перелистывая псалтырь, – так давайте споем стихиру, стихирочку совсем крохотную споем, а? Вот отсюда: «Святая ночь, благая ночь!»
Он умоляюще посмотрел на мальчишек.
– Да ведь не ради меня, черт вас побери! Я-то уже пел у себя в кладовке. Ради вас споем. Начинайте!
Он протяжно запел. Мальчишки со страхом смотрели на него.
– Ну, чего вы еще ждете? – прервал сам себя кок. – Что вы, слов не знаете? Нехристи вы, что ли? Начинайте, черт вас… прошу прощенья! Нечего попусту время терять. Стих этот во всех портах, по всей земле знают, не так, что ли? Ладно, нет так нет! Хватит с меня!







