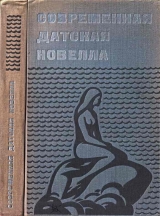
Текст книги "Современная датская новелла"
Автор книги: Карен Бликсен
Соавторы: Ханс Браннер,Харальд Хердаль,Карл Шарнберг,Вильям Хайнесен,Улла Рюум,Пер Шальдемосе,Поуль Эрум,Бенни Андерсен,Франк Егер,Сесиль Бёдкер
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Петер Себерг
Вмятина
Перевод В. Мамоновой

Локе крался вдоль стены, держа хлопушку наготове.
Маленькая кучка мух, штук семь-восемь, четыре из которых (две и две) заняты были совокуплением, сидела еще в углу возле двери на веранду, за шторой.
Локе прицелился, рассчитал траекторию и с оглушительным треском обрушил на стену пластмассовую лопаточку.
Одна муха, жужжа, снялась с места.
– Семерых за раз, – пробормотал Локе, успокаиваясь.
Он придирчиво осмотрел кухню. Беззаботная муха-дуреха кружила в разведке по белому потолку. Он подкрался к этому месту, пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться, положение было неудобное, но он стиснул зубы, махнул вверх и не достал как следует, муха бочком вылезла из-под хлопушки, расправила крылья, тут он пристукнул ее легким шлепком, пришедшимся на заднюю половину тела, но она продолжала ползти, ну-ка еще разочек, теперь готово, он соскреб ее с потолка. Неаккуратно получилось.
– Живучая, чертовка, – проворчал он.
– Да брось ты, – сказала Трутти, помешивая в кастрюле.
– Мух надо истреблять, – сказал Локе.
– Будто их много, – сказала она.
– Они действуют мне на нервы, – сказал он. – Я не желаю сидеть в загаженной кухне. Они жужжат и спариваются. Прикажешь спокойно смотреть, как они спариваются у меня на глазах?
– Подумаешь, – сказала Трутти, – даже интересно.
– Все равно ничего не видать, – сказал он, – только догадываешься.
– Оставь ты их в покое, – сказала Трутти, – не обращай внимания.
– Они лезут в пищу, – сказал он и встал со стула.
Он подкрался к стене. Там сидела муха. Он прихлопнул ее точным ударом. Ага, еще одна. Так, готова. Мухи сыпались дождем. Еще одна возле двери. Обреченная на смерть, она в последний момент почувствовала спасительный страх, видно только что залетела с холода, чувствительность не утрачена, от тепла они делались ленивы и самоуверенны. Муха взвилась, увернувшись от удара, ныряющим учебным самолетиком пересекла по диагонали кухню, потыкалась у стены, вернулась по диагонали же обратно к двери на веранду, скользнула вдоль окна, ударилась легонько об стекло, кувырнулась, но тут же оправилась, сделала вираж и полетела опять наискось к входной двери.
Шейные мускулы охотника на мух свело от напряжения.
Неужели ничто не соблазнит? Неужели так никуда и не сядет?
Она вылетела через дверь в прихожую, откуда вела лестница наверх, набрала было высоту, снизилась и взяла курс на лампу, облетела ее и пошла по второму кругу.
В конце концов она пристроилась, обыскав предварительно весь многоугольный плафон в стремительном и на посторонний взгляд сумбурном тыкании. Дьявольская муха.
Локе замер под лампой, размышляя, как быть. Согнать ее на другое место или прихлопнуть тут же осторожным, точно рассчитанным ударом, чтобы не разбить лампу. Не хотелось ее упускать, муха была хитрющая.
Он шлепнул ее легонько по спине. Она упала, но еще изо всех сил дрыгала лапками. Он наступил на нее.
– Подмети-ка мух, – сказал он Трутти.
– Сейчас, – сказала она с некоторым недовольством в голосе.
– Не сейчас, а сию минуту, – сказал он. – Противно, валяются на каждом шагу.
– Ладно, – сказала она и стала доставать из шкафчика веник и совок.
Он уселся за белый кухонный стол, положив на него одну ладонь. Обозрел кухню.
Еще одна возле двери. Отсюда они и лезут. Заткнуть бы чем-нибудь дверь, так ведь пролезут через окно, хоть затыкай, хоть нет. Пролезут где угодно, сквозь любые затычки. Мухи обладают свойством пролезать в любую щель, а может, плодятся прямо в доме. Он представил себе это отвратительное мушиное размножение, личинки, постепенно разбухающие и лопающиеся, и проталкивающиеся наружу мрачные рогатые мушиные головы с шарами глаз. Он ненавидел мух. Они садились ночью ему на губы, они ползали по лбу, они запутывались утром в волосах, жужжали и строили из себя невесть что. С какой стати.
– Хватит на сегодня мух, – зло сказала вошедшая Трутти, выбросила трупики в помойное ведро и убрала все на место.
– Хватит строить из себя, – сказал он и забарабанил пальцами по столу.
Некоторое время он предавался этому занятию, минута успокоения, полной бездумности. Потом встал, постоял, что-то насвистывая, взял со стола хлопушку и направился к двери на веранду. Повернул ключ, нажал на ручку и приоткрыл дверь. Так и есть. Пять-шесть штук, сидевших тесно в кучке, сразу всполошились, заползали в холодноватом полумраке.
– Поди полюбуйся, – сказал он Трутти, – целых пять штук. Отсюда они и лезут.
Она, помешкав, подошла.
– Ну и что, – сказала она.
– Отсюда они и лезут, – сказал он. – Мы заколотим дверь, забьем большим листом фанеры, чтоб ни щелочки не осталось. Завтра же позвоню плотнику, и все будет в порядке. Наконец-то избавимся от мушиных следов на обоях.
– Н-да, – сказал он, когда Трутти поглядела на него. – Этим, пожалуй, не спасешься.
– А представляешь, как было бы здорово, – сказал он, – если б жить в герметически закупоренном доме.
– Чтоб не войти и не выйти, – сказала Трутти.
– Шлюз, а там обработка ДДТ, – сказал он, – и в доме идеальная чистота. – Он не стал трогать мух. Закрыл дверь.
– Пойду поставлю машину, – сказал он немного спустя.
– Локе, – окликнула она его, когда он был уже в прихожей.
– Локе, – окликнула она снова.
– Локе.
Он обернулся.
– Понимаешь, Локе, – сказала она. – На машине пробили вмятину.
– Вмятину! – крикнул он.
– Ну да, – сказала она, – небольшую вмятинку.
– Небольшую, большую, – сказал он, – мне-то какое дело.
– Ну, уж не знаю, – сказала она.
– Не знаешь, – сказал он. – А откуда ты знаешь про вмятину?
– Мимо проехал грузовик, – сказала она. – Я как раз гравий разгребала у тротуара.
– Номера не заметила, – сказал он, беря ее за плечо.
– Нет, – сказала она. – Он мчался со страшной скоростью, я не сразу сообразила, отчего звякнуло, уж потом только увидела.
– Звякнуло, – сказал он.
– Ну да, – сказала она, – звякнуло. Сзади у него болталась цепь, и она стукнула по заднему крылу.
– Почему ты не посмотрела, какой у него номер, – сказал он, стискивая ей руку ниже плеча. – Почему не посмотрела? Не захотела, так и скажи, что не захотела. Небось подумала: «Так ему и надо».
– Я не успела, – сказала она.
– Положим, – сказал он, – был момент, когда ты вполне могла успеть, услышала, что звякнуло, подняла бы сразу голову, посмотрела на номер, взяла блокнот и тут же записала. Но тебе же безразлично, помято ли крыло, не помято ли. Неряха.
– Я, Локе, правда не успела, – сказала она. – Зря ты нервничаешь, вмятина совсем крошечная, почти и незаметно.
– Я эту машину с места трогать не собираюсь, – сказал он. – Пусть стоит, где стояла, а то еще полиция подумает, будто я сам пробил вмятину.
– Да вмятина-то малюсенькая, – сказала она, – ну просто крошечная.
– Вмятина есть вмятина, – сказал он. – Не хочу я такой машины. Уж лучше б сразу вдребезги. К чертям собачьим. Для меня она испорчена.
Она увидала, что он чуть не плачет.
– Да ты пойди хоть взгляни, – сказала она.
– Хорошо, – сказал он, – я пойду.
Он взял фонарик. Ему теперь все равно. Не нужна ему эта машина.
Он посветил на левое заднее крыло. Ничего вроде не заметно. Он внимательно осмотрел всю плоскость. Ага, маленькая, с палец шириной, ссадина на лаке, до самой грунтовки, просвечивает желтовато-серым. Нет, такое его не устраивает.
Ну что, скажите, за идиотство: чтобы сзади висела цепь, пусть, мол, болтается во все стороны.
Он вернулся и учинил ей допрос насчет грузовика. Белый, большой, борта выше обычных, как для перевозки скота. Ей кажется, она его и раньше видела. Ну да, конечно, он появляется ежедневно в одно и то же время, действительно огромный, изгороди у вилл вон какие высокие, и то видно, как борта мотаются.
– Завтра я никуда не иду, остаюсь дома, – сказал он.
– Позвонил бы в полицию, – сказала она.
– Номер нужно записать, и вообще будет лучше, если я сам потолкую с этим типом. Остановлю, и все.
– Стоит возиться, – сказала она. – Какое это имеет значение.
– Какое значение, – сказал он. – Очень даже большое. Выходит, пусть эта колымага носится себе, где ей вздумается, и махает своей цепью. Так недолго и насмерть человека убить. Поразительно, до чего люди безответственны. А, пусть его едет. Авось обойдется. Нет, не обойдется. Попомни мое слово, не обойдется. Я не из тех, кто станет попустительствовать, нет уж, не надейтесь. Пусть оплатит мне новую машину.
– Новую машину? – сказала она.
– Эта мне теперь ни к чему, – сказал он. – Для меня она испорчена. Вконец. Лично я хочу иметь машину без вмятин.
– Так и эта без вмятин, – сказала она. – Можно сказать, почти.
– Почти, – сказал он. – Ну и ну, ты думаешь, меня устраивает почти. Нет уж, почти мне не надо, мне надо совсем. Совсем. Тебе ясно?
– А кричать зачем, – сказала она.
– По-иному ты не понимаешь, – сказал он. – Ты известная неряха, тебе хоть свинарник вокруг. А я не могу и не хочу.
– Ну, хорошо, хорошо, – сказала она.
– И не возражай мне, – сказал он. – Могу я в конце концов делать, как мне хочется?
– Ты кофе не хочешь? – сказала она.
– Нет, спасибо, мне еще надо подумать.
– Может, ляжешь?
– Нет, ложиться я вообще не собираюсь, все равно не засну.
– Глупости, – сказала она.
– Ложиться я не буду.
– Тише, соседи сбегутся.
– Пусть сбегаются, – сказал он. – Небось они и подкупили шофера, чтоб он покалечил мою машину. Увидят ее, так аж зеленеют от зависти. За своими смотреть не умеют, только и знают, что другим завидовать. Пусть сбегаются, я им скажу, что я о них, подлецах, думаю.
Трутти убирала посуду. Он уселся за белый кухонный стол, подперев голову рукой. Покончив с посудой, она, как обычно, пошла принять перед сном ванну.
Он выпрямился на стуле, сидел как аршин проглотил. Ему пришла идея просидеть так всю ночь до утра.
– Что это ты как сидишь? – сказала она, выйдя из ванной. – Уж не заболел ли?
– Я сижу так, как человеку следует сидеть. Привыкли сидеть развалившись.
– Иди-ка лучше спать, – сказала она. – Вмятинка-то почти незаметная.
– Ах, незаметная, – сказал он, подскочил к шкафчику и схватил молоток. – Ну, так иди смотри. – Он вылетел из дверей, пронесся по плитам дорожки, налетел на калитку, злился, что никак не может отодвинуть засов, кричал, что же она, пусть идет.
– Ну, смотри, смотри, – закричал он, завидев приближающуюся белую ночную рубашку.
Он с размаху грохнул молотком по крылу.
– Ну как, теперь тебе заметно, – сказал он. – Теперь тебе, может, достаточно, нужна тебе теперь эта уродина.
Она стояла, крепко сцепив руки под грудью, до боли вдавив палец под ребро.
Он поднял молоток.
– Хватит, – сказала она. – Не нужна она мне вовсе. И так уж было здорово заметно.
Он обошел машину, стоял и смотрел на нее спереди. Он так мало на ней ездил, берег ее.
– Испорчена машина, – сказал он хрипло.
– Пойдем, Локе, – сказала она, открывая перед ним калитку. – Пойдем, выпьешь чашечку кофе.
Едва войдя в дом, он разрыдался.
– Почему все у меня вечно испорчено, – всхлипывал он.
– Можно отдать ее в ремонт, – сказала она.
– На что она мне, – сказал он. – Жутко тонкий металл, не могла уж выдержать такой ерунды.
– Да, верно, – сказала она. – На этих новых марках металл всегда ужасно тонкий.
Строительные леса
Перевод Е. Суриц

Как-то утром Ньюс, известный читатель газет, проходил мимо того места, где Грейвс объяснял строителям, как возводить фундамент нового дома.
– Материалы-то снова вздорожали, – заметил Ньюс Грейвсу, уже направлявшемуся к машине.
– Ничего не поделаешь, – проворчал Грейвс. Он не любил, чтобы посторонние совали нос в его дела.
– Ха! – сказал Ньюс. – А вот я тридцать пять лет читаю газеты и такой премудрости там набрался, что придумал верный способ, как строить дешевле. Я тебе открою этот способ бесплатно, только на одном условии – что ты им воспользуешься.
– Ладно, – сказал Грейвс и двинулся было дальше.
– Лучше я тебе все сразу выложу, – сказал Ньюс. – Просто надо строить дома без материалов, от этих материалов никакого проку. Пусть себе машины ездят, будто их подвозят, грузчики делают все то же, что и раньше, подносчики пусть подносят, а каменщики так же кладут стены, только без кирпичей. Тогда на постройку дома уйдет примерно то же время, люди заработают те же деньги, а материал сэкономится. Цена на квартиры, конечно, останется примерно прежняя, и я не сомневаюсь, что очень многие захотят вселиться в такие дома.
– Блестящая мысль, – сказал Грейвс и остановился, – прекрасная мысль. Не будем откладывать дела в долгий ящик.
Грейвс объяснил каменщикам, что кирпич и цемент им больше не понадобятся, а понадобится только воздух. Дом будет той же высоты, как задумано, но незачем надстраивать леса. Просто когда кончится один этаж, надо сойти с лесов, а когда начнется следующий, надо снова на них взобраться. Потом, конечно, кровельщики покроют дом крышей, материала, разумеется, у них не уйдет нисколько, но крыша получится превосходная, это уж точно. Пусть каменщики не беспокоятся, заработки будут те же, что и раньше, пусть только стараются так же, как и раньше.
Каменщики очень обрадовались такому приказу и сказали, что им очень нравится новое строительство.
Потом Грейвс пошел к подносчикам и сказал, что им не нужно больше подносить кирпич и цемент. Зато очень важно, чтобы дело выглядело так, словно они все это подносят. Для постройки нового прекрасного дома надо вовсю стараться, чтобы все шло в точности как раньше, и тогда они заработают столько же, а может быть, и получат надбавку.
Подносчикам понравились эти усовершенствования в области жилищного строительства.
– Стройка, конечно, дешевле будет, – сказал один.
– А людям будет хороший дом, – сказал другой.
– Лучше прежнего, – сказал третий.
Потом Грейвс пошел к грузчикам, которые грузили и разгружали машины, и сказал, что им больше не придется таскать тяжелые мешки с цементом и кирпичи. Им больше не придется надрываться, потому что строительство пойдет без материалов, чтобы снизить цены на дома. Он обещал им прежние заработки, а за примерную работу даже надбавку, пусть только делают все в точности, как раньше. Пусть все силы кладут на то, чтоб казалось, будто им тяжело, иначе они завалят работу. Ведь если они не будут делать все, как раньше, подносчики разболтаются и каменщики окажутся без помощи в их нелегком труде. И людям придется долго ждать нового жилища.
Грузчики заверили Грейвса, что он может полностью на них положиться. Они видят, какие выгоды сулит новый способ, и не сомневаются, что многодетные семьи избавятся от тесноты, не затрачивая лишних средств.
Грейвс не мог обещать, что выигрыш будет значительный, потому что, как он объяснил, главный расход при строительстве – это жалованье рабочим, но некоторое удешевление жилищ, конечно, ожидается.
– Лучше синица в руке, чем журавль в небе, – сказал Грейвс грузчикам.
Те отвечали ему, что это сущая правда.
Потом Грейвс пошел к водителям огромных самосвалов, которые ездили на стройку и со стройки и привозили строительные материалы. Он рассказал им, что отныне работа у них будет намного трудней, но в виде возмещения они получат надбавку. Больше им не надо возить материалы на стройку. Накладные по-прежнему будет выписывать лично он сам по подсчетам архитектора, и накладные по-прежнему будут им нужны для каждого рейса, зато грузы будут не нужны. Для нового строительства это лишнее.
Каменщики теперь обойдутся без кирпичей, плотники без досок, жестянщики без труб, стекольщики без стекол, маляры без белил. А у водителей останется одна забота – делать все, как раньше. Опускать и поднимать кузов в точности, как раньше, и так далее. А если они не будут исполнять этого предписания, то разболтаются строители, а там разболтаются подносчики, а там, глядишь, разболтаются и каменщики, и все дело кончится тем, что людям некуда будет вселяться. Так что на плечи водителей ложится тяжелая ответственность.
Водителям понравился новый порядок, и они пообещали делать все в точности, как раньше, и в точности теми же темпами, чтоб никто не мог сказать, будто они подводят товарищей.
Стройка пошла своим чередом. Этаж вырастал за этажом. Прохожие собирались поглядеть на новый дом, и все соглашались, что он обещает быть великолепным зданием с удивительной чистотой линий.
– Сделайте его вдвое выше, – сказал как-то, проходя мимо, Ньюс, читатель газет. – Такая легкая конструкция выдержит еще много этажей. И экономия больше. Крыша-то останется прежняя.
Грейвс согласился с ним и переговорил с архитектором, и тот не возражал, при условии, что в данном квартале не противопоказано строительство многоэтажных зданий. После некоторой перепалки с городскими властями удалось добиться разрешения на двадцать этажей.
Во время праздника по случаю окончания работ архитектор, начальник стройки и рабочие говорили, что не упомнят такого образцового строительства, а тем более многоэтажного здания.
– Часто говорят, будто многоэтажные здания подавляют соседние, – сказал архитектор, – но вот наконец мы нашли архитектурное решение, благодаря которому здание практически совершенно не заметно.
«Дом будущего», – писали газеты.
Списки желающих вселиться в новые квартиры заполнились на много лет вперед. В контрактах черным по белому было написано, что от съемщиков новых недорогих квартир требуется одно – положительные отзывы. Никто из съемщиков не возражал. Даже напротив.
К первому дому уже спешили грузовые автобусы. Переехавшие делали все, что полагается. Входили в лифты, поднимались в новые квартиры и жили, так же как раньше. Все были очень довольны.
– Знаешь, что я подумал, – сказал Ньюс Грейвсу, когда опять встретил его на улице. – Дом-то бомбоустойчив. Об этом еще не упоминалось.
– Да, надо будет упомянуть, – сказал Грейвс, и с тех пор началось победное шествие нового строительства по всей земле.
Строительная компания, учитывая заслуги Ньюса, предложила ему бесплатную квартиру в новом доме, но он отказался. Он объяснил, что у него такая слабость: он любит, чтоб дом было видно. Однако у него есть одно желание, ему хотелось бы открыть киоск и продавать газеты для всего нового квартала.
Грейвс долго думал. Потом он объяснил Ньюсу, что как раз этого желания никак нельзя удовлетворить. Такой киоск не только повредил бы стройке, он повредил бы всем жильцам, которые давно уже перешли на новый способ покупки газет. Ньюсу, должно быть, неизвестно, что и тут введен новый способ.
– Да, для меня это уж слишком, – сказал Ньюс.
– Это прогресс, – сказал Грейвс. – Погляди кругом. Случайная мысль, кто б мог подумать, что она будет иметь такие последствия?
– Все переселятся в эти кварталы, – сказал Ньюс, – и я потеряю весь доход от моей торговли шоколадом. Мне надо жить. А у меня больше никто ничего не покупает.
– Переходи на новый способ, – сказал Грейвс. – С ним не пропадешь.
– Нет, – сказал Ньюс. – Мне остается одно. Я буду выписывать страховки всем, кто сомневается. Ладно?
– Никто не сомневается, – заметил Грейвс.
– Ну а если кто-нибудь провалится сквозь этажи и закричит, что тогда? – возразил Ньюс. – Ведь тогда все провалятся.
– Никто не провалится, – сказал Грейвс. – Дома исключительно прочные.
Сесиль Бёдкер
Снег
Перевод Т. Величко

Сырой и теплый южный ветер продувает долину насквозь, и кругом быстро тает.
Редко когда наметало такие горы снега, как в этом году, и редко выдавалась такая упрямая затяжная зима, но теперь уже недолго ждать, пока достаточно растает. Наконец-то пришла оттепель.
Марта стоит у окна, впившись взглядом в сероватую поверхность снега. Много, нет, еще слишком много. Эти громадные сугробы, знакомые ей до мельчайших подробностей, как они открываются из окна ее дома, весь этот леденящей белизны ландшафт, въевшийся в ее сознание, к весне посеревший, перекроенный вьюгами, преобразившийся, – она впитывала его глазами до тех пор, пока не перестала видеть все остальное.
Снежный пейзаж с нею неотступно, куда она ни обращает взор, снег видится ей на стенах комнаты, снег стоит в глазах, когда веки смыкаются для сна. Навсегда врезалось ей в память, как небо в эту зиму раскидало по земле свои дары.
И вот наконец потеплело. Тает, но все еще слишком много снега. Ей надо поберечь свои силы, превозмочь тягостный страх ожидания, пока не настанет час идти. Туда. А она все стоит у окна, как стояла перед тем много месяцев подряд, часами, день за днем. Она изматывает себя этим стоянием, изматывает себе душу и знает об этом.
У нее за спиной, в комнате, ни звука, тишина чуткая и тревожная. Две пары глаз не отрываясь смотрят ей в спину, боязливо следят за каждым ее движением. Неужели сегодня?
Дети сидят за столом с остатками недоеденного завтрака, но им не до еды. Они знают, что она высматривает, настороженно вглядываются в очертания узких острых плеч на фоне забрезжившего света – не упустить, когда это случится, они понимают: теперь скоро. Она им ничего не скажет, едва ли выдаст себя заметным движением, но они все равно сразу узнают. Им страшно, как и матери, но их страх шире, огромнее, ибо вбирает в себя и ее самое, помимо того ужасного, что надвигается на них.
Каждый день, чуть рассветет, Марта занимает свое место у окна и начинает изучать неуловимые изменения, происшедшие за ночь в снежном покрове, лишь потом посылает детей в хлев. Они сразу узнают, если что-то изменится.
Если что-то изменится… Они гонят от себя эту мысль, стараются не думать о том, что́ неизбежно должно случиться, но чего им так хотелось бы избежать. С тех пор как начало таять, в матери произошла перемена, они бы не сумели объяснить какая, это что-то, чего не увидишь глазами; она стала другая внутри, охватившее ее возбуждение накаляет всю комнату, передается им, они явственно ощущают напряженность взгляда, пронзающего серые груды снега, хотя она стоит к ним спиной.
Порою она забывает о них и начинает что-то бормотать, и эти звуки, которых они не понимают, не могут расчленить на слова, повергают их в ужас. Это уже не их мать, это человек, чужой и страшный, человек в заговоре со снегом там, за окном. И, оцепенев от испуга, боясь шевельнуться или вздохнуть, они ждут, когда она снова сделается своей, понятной. И потом сидят, уставив глаза в стол, со странным чувством стыда, будто только что видели ее раздетой. А когда она оборачивается, ее светлые глаза смотрят дико, кажутся темными, почти черными, и им жутко встретиться с ней взглядом.
Марта их видит и не видит. Знает, что они есть, как есть стол и узкая скамья. И только. Всю зиму простояла она у окна и все ждала, ждала, все думала об одном и том же, снова и снова. Хватит ли сил выдержать, хватит ли сил увидеть его еще раз. Ничего не делала, только думала. Едва занимается утро, словно колдовская сила притягивает ее к помутневшему от грязи окошку, она не может иначе, ей это необходимо. Стоять и глядеть на снег. Часы напролет. Нильсу и Ионне приходится самим смотреть за домом, самим ухаживать за скотиной, без них ничего бы не делалось.
Две коровы. Еда и полы. Огонь. Следить, чтобы не потух. Они не говорят об этом между собой, вообще почти не разговаривают, будто опасаясь, что слова помешают им слушать. В этом их теперешнее существование, они живут, постоянно прислушиваясь. Так было все время с того дня, как разразился буран, и так продолжается до сих пор. Сами они вряд ли знают, к чему прислушиваются, спроси их кто-нибудь, они бы не сказали, что ждут, когда наступит изменение. Так продолжается до сих пор. И так будет продолжаться, пока не сойдет снег, они догадываются об этом каждый про себя, но друг с другом ни о чем не говорят. Они доят коров и выгребают навоз, делают все тщательно, как никогда прежде, словно надеются своим покорным усердием отвратить нависшую беду. Они живут в страхе. Оба. Все время. Из хлева – домой, стол и безмолвный силуэт матери. И тишина.
Им необходимо как-то заполнить время. В этой новой обстановке так много для них непонятного, так много взрослого, что они невольно стремятся выказать предельную исполнительность и старательность, чтобы только не стало хуже. Они не отдают себе в этом отчета, не задумываются, каким образом или почему так получилось, просто повинуясь неясным внутренним побуждениям, они взяли на себя все то, что обыкновенно делали их родители. Но они все делают бесшумно. Раньше они и не подозревали, какую власть имеет тишина. Она исходит из дома. Но даже когда они в хлеву, достаточно далеко, чтобы мать не могла их услышать, они всячески избегают шума. Никто им ничего не наказывал, и никто, кроме них самих, не услышал бы, как грохнет об пол ведро или скребок лязгнет о желоб, но так уж все сложилось в эту зиму, они живут в безмолвном, чутко прислушивающемся мире, их поглотила тишина, и они инстинктивно противятся всему, что может нарушить ее и привлечь к ним внимание.
Сами того не сознавая, они переняли закон гор и лесов, внесли его в свой дом. Вынужденная осторожность. Но открытое пространство, отделяющее хлев от дома, они всегда проходят быстрым шагом и всегда вдвоем, тесно прижавшись друг к другу.
А теперь наконец наступила оттепель.
Марта пытается собраться с мыслями, душа застыла в неподвижности, окаменела. Так долго все тянулось. За окном крупные ледяные капли скатываются с крыши, падают, падают. Оттепель. Тает. Непослушные губы с трудом выговаривают слова, нет, она не забыла, что они означают. В них заключено веление, они несут в себе все то, чего она, страшась, ждала целую зиму и перед чем теперь, приблизившись вплотную, испытывает смутное содрогание. Внутри у нее все белое, немое, недвижное – плотно слежавшийся порошок, готовый рассыпаться в прах, стоит лишь слегка коснуться, задеть его. Она давно уже мертва, теперь ей вновь предстоит умереть. За окном неумолимо стучит капель.
За все время она ни разу не вышла из дому. Она даже к двери ни разу не подошла с того кошмарного дня, когда вьюга стихла и она, исступленно рыдая, расшвыривала бесконечные снежные завалы, перепахивая пространство между домом и хлевом, еще и еще раз, туда и обратно, охваченная бессильным отчаянием перед лицом того, что ее постигло.
Андреас.
Она кричала снова и снова, ведь он спал. Спрятался где-то в снегу и спал. Еще можно было успеть, если поторопиться, и она неистово сражалась с сугробами, раскапывая их до самого основания, скорее, скорее, она молила и проклинала, звала. Звала. Сутки прошли, как он не вернулся, один день и одна ночь, о, ей не забыть тот день и ту ночь, но она знала: он еще жив.
Андреас, Андреас…
Когда она сдалась, она стала вдовой.
Оттого что сдалась. Вернувшись в комнату, она смотрела в окно на развороченный снег вокруг дома, уже почти стемнело, а завтра – завтра слишком поздно. Марта не плакала, у нее сил не было плакать, она хотела, старалась умереть, стоя перед окном и глядя на искореженные сугробы. Оттого что она сдалась? Она? Но от нее осталась лишь порожняя оболочка без содержимого.
Зима стерла следы причиненного ею опустошения, припорошила метины от ее рук и тела свежим пушистым снегом, заровняла и пригладила. Марта осталась стоять перед окном, снег вошел в нее, был у нее внутри. Она не плакала. Четыре месяца простояла она перед окном – белый столбик из тонкого порошка, готовый рухнуть и рассыпаться, как только наступит оттепель. А оттепель все не приходила. Надо было ждать. Ждать.
И пока она ждала, мысли низались кругами, сжимались вокруг нее холодными железными ободьями, давили, все те же неизбывные мысли. Четыре месяца была она вдовой, так и не приняв своего вдовства. И разве могло быть иначе, ведь ей еще предстояло вновь увидеть его. Андреаса. Ведь ей еще предстояло увидеть его, когда наступит оттепель и снег разольется рекой и покажет, где́ она не искала, где ей надо было искать. Как близко, как ужасающе близко был он от нее, когда она его не нашла, быть может, оставалось сделать лишь шаг в сторону, быть может, всего один метр отделял его от места, где она буравила руками глубокий снег.
Как он примет ее теперь? С каким лицом встретит он ее взгляд? О, сколько можно было лежать под снегом, и оставаться в сознании, и жить, помнить и ждать? Сколько можно ждать человека, который сдался? Он дошел до хлева, она видела, что он там был. Уже потом, возвращаясь, он сбился с пути, потерял дорогу к дому. Марта знает: именно так все было. Уже возвращаясь, он сбился с пути, потерял дорогу к собственной жизни. В десяти шагах от двери…
Коровы, сказал он, когда она попросила его остаться, не ходить. Коровы. В самом тоне, каким он это произнес, содержался ответ на ее единственную робкую попытку не пустить его – он свою скотину не оставит, неужели она не знает его? И он с задорным удивлением взглянул на свою хрупкую, пугливую жену. Не думает же она, что нужно совсем забросить бедных животных из-за того, что насыпало чуточку снега? В дверях он обернулся, кивнул ей с улыбкой, и Марта осталась одна, наедине со своим страхом.
Ждать. Надо было ждать. В десяти шагах все тонуло, растворяясь в снежном вихре, – они оба знали об этом, и она и Андреас. Но ничто, никакие доводы не способны были удержать его, заставить отказаться от своих замыслов. В этом она убедилась за четырнадцать лет, прожитых с Андреасом, – четырнадцать счастливых лет в непрестанном страхе, что долго так не может продолжаться. Что с ним что-нибудь случится.
Андреас прекрасно понимал, что может случиться, но полагался на свою волю, верил, что осуществит задуманное наперекор всему. Поэтому он и в хлеву не захотел остаться.
Стоя в комнате у окна, Марта старалась сосредоточить мысли на этом одном: чтобы он остался в хлеву, пока не уляжется метель. Она напрягала всю свою волю, силясь передать эти мысли ему, пока не поняла, подсознательно не ощутила, что все напрасно. Она слишком хорошо его знала. Он все равно пойдет обратно домой, чтобы не напугать ее, как будто она и так уже не была напугана до предела. Он непременно захочет вернуться, чтобы она, чего доброго, не отважилась пуститься на поиски. Они слишком хорошо знали друг друга, и она не сумела достаточно сконцентрировать свою волю, потому что не верила по-настоящему, что из этого что-нибудь получится.
Она могла сколько угодно проклинать свое отчаяние, но не в силах была от него избавиться, и у нее было такое чувство, будто это она, ее собственный страх, снова толкнул его навстречу бурану, будто это из-за нее потерял он дорогу, из-за ее опасений, что он может заблудиться. Это ее страх сбил его с толку, лишил обычного умения ориентироваться – и удача изменила ему.
Но он обязательно должен был закопаться в снег, заметив, что прошел мимо. С ним уже однажды так было, и все обошлось благополучно. Где-нибудь в снегу Андреас должен был вырыть углубление и улечься спать, свернувшись калачиком, как собака. Где-нибудь под снегом, неподалеку от домашнего очага он уснул навек, покинув ее и детей. Ионну и Нильса. Она не сумела его найти. Она не нашла его. Вот наступит оттепель… Всю зиму мысли ее останавливались, дойдя до этой точки. Она вновь увидит его, и лишь тогда его смерть станет для нее явью, а до тех пор надо ждать. Ждать. Бездна так близко, что можно до нее дотянуться.







