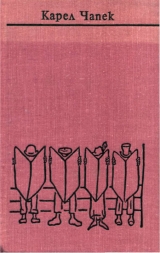
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 7. Статьи, очерки, юморески"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
Император Диоклетиан[56]56
Диоклетиан (Гай Аврелий Валерий Диоклетиан, ок. 243–316 или 313 гг.) – римский император в 284–305 гг.; при нем (в 303 г.) было последнее массовое гонение на христиан.
[Закрыть]
© Перевод Н. Аросевой
Рассказ этот вышел бы, несомненно, куда сильнее, если б героиней его выступила дочь Диоклетиана или иное юное и невинное создание; увы, историческая правда принуждает нас вывести на сцену сестру Диоклетиана, пожилую достойную матрону, по мнению императора, несколько истеричную особу со свойством все преувеличивать, которую старый тиран отчасти даже и побаивался. Поэтому, когда ему доложили о ней, Диоклетиан прервал аудиенцию, которую он давал наместнику Киренаики (в сильных выражениях изъявляя последнему свое недовольство), и прошел навстречу сестре до самой двери.
– Ну что, Антония? – бодрым тоном заговорил он. – С чем пришла? Опять у тебя какие-нибудь погорельцы? Или мне принять меры, чтобы в цирках не мучили диких животных? А может, ввести в легионах воспитание нравственности? Давай говори скорее, да садись!
Но Антония не села.
– Диоклетиан! – произнесла она чуть ли не торжественно. – Я должна кое-что сказать тебе.
– Так, так. – Император почесал в затылке с видом человека, смиряющегося с обстоятельствами. – Только, клянусь Юпитером, как раз сегодня у меня столько дел! Нельзя ли как-нибудь в другой раз?
– Диоклетиан! – неуступчиво повторила сестра. – Я пришла сюда сказать, что ты должен прекратить преследования христиан.
– Что это так вдруг? – забормотал старый император. – После того как три века сряду…
Он внимательнее всмотрелся в ее взволнованное лицо; вид матроны, с ее строгими глазами, с судорожно стиснутыми ладонями, с пальцами, искривленными подагрой, был исполнен пафоса – и император поторопился сказать:
– Ну ладно, потолкуем об этом. Но прежде, будь добра, сядь.
Антония послушалась машинально, присела на краешек стула; от этого ее воинственность несколько потеряла – женщина как бы уменьшилась, сбилась; уголки губ ее дрогнули в сдерживаемом плаче.
– Эти люди так святы, Диоклетиан! – с трудом проговорила она. – И вера их так прекрасна… Уверена, если бы ты их знал… Диоклетиан, ты должен узнать их! Увидишь, тогда… тогда твое мнение о них совершенно изменится…
– Да я вовсе неплохого мнения о них, – мягко возразил Диоклетиан. – Я-то знаю: то, что о них болтают, всего лишь сплетни и клевета. Это все наши авгуры[57]57
Авгуры – жрецы, предсказывавшие будущее по полету и крику птиц.
[Закрыть] придумывают – сама понимаешь, ненависть к конкурентам и так далее. Я велел в этом разобраться и услышал, что христиане в общем вполне приличные люди. Очень честные и самоотверженные.
– Почему же ты тогда их так преследуешь? – изумленная, спросила Антония.
Диоклетиан приподнял брови.
– Почему? Ну, знаешь ли! Так делается испокон веков, правда? И при всем том не заметно, чтоб их становилось меньше. Все эти разговоры о преследованиях сильно преувеличены. Разумеется, время от времени приходится примерно наказать нескольких…
– Почему же?! – воскликнула матрона.
– По политическим соображениям. Видишь ли, дорогая, я могу привести целый ряд причин. Например, что таково желание народа. Во-первых, это отвлекает его внимание от других вещей. Во-вторых, дает ему твердую уверенность в том, что мы правим сильной рукой. А в-третьих, это вообще как бы национальный обычай. И скажу тебе, ни один разумный государственный деятель, сознающий свою ответственность, не станет без нужды посягать на обычаи. Такое посягновение только порождает чувство непрочности и… гм… какого-то развала. Я, моя золотая, за время моего правления ввел больше новшеств, чем кто-либо. Но они были необходимы. А то, что не необходимо, я делать не стану.
– Но справедливость, Диоклетиан, – тихо промолвила Антония, – справедливость необходима. Я требую от тебя справедливости.
Диоклетиан пожал плечами.
– Преследование христиан справедливо, ибо отвечает действующим законам. Знаю, знаю, что вертится у тебя на языке: что я мог бы отменить эти законы. Мог бы, но не сделаю этого. Милая Тоничка, помни: minima non curat praetor;[58]58
претор не занимается мелкими делами (лат.). Претор – представитель высшей судебной власти в Древнем Риме.
[Закрыть] не могу я заниматься мелочами. Прими, пожалуйста, в соображение, что у меня на шее вся администрация империи; а я, девочка, переделал ее до основания. Я перестроил конституцию, я реформировал сенат, централизовал управление, реорганизовал весь бюрократический аппарат, заново перекроил провинции, упорядочил систему управления ими – и все это дела, необходимые в интересах государства. Ты женщина, и не разбираешься в этом, но самая серьезная задача для государственного деятеля – наладить администрацию. Посуди сама, что значат какие-то христиане в сравнении… ну, допустим, в сравнении с учреждением имперского финансового контроля? Глупости все это.
– Но, Диоклетиан, – вздохнула Антония, – ты можешь так легко это устроить…
– Могу. И – не могу, – решительно ответил император. – Я поставил всю империю на новый административный базис, и народ почти не заметил этого. Потому что я не тронул его обычаев. Стоит отдать им парочку христиан, как люди воображают, будто все осталось по-старому, – и нет никакого беспокойства. Милая моя, государственный деятель обязан знать, до каких пределов вправе он отважиться на реформы. Вот так.
– Значит, – с горечью проговорила матрона, – только для того, чтоб тебя не беспокоили здешние бездельники и крикуны, ты…
Диоклетиан усмехнулся.
– Если хочешь, и для этого. Но скажу тебе – я ведь читал книги твоих христиан и немного размышлял о них.
– И что же дурного ты в них нашел? – резко вскинулась Антония.
– Дурного? – задумчиво повторил император. – Напротив, в них кое-что есть. Любовь и прочее… хотя бы вот презрение к мирской суете… В сущности, прекрасные идеалы, и не будь я императором… Знаешь, Тоничка, кое-что из их учения мне очень понравилось; было б у меня побольше досуга… чтоб подумать о своей душе… – Старый император в раздражении хлопнул ладонью по столу. – Но это абсурд. С политической точки зрения – совершенно невозможная вещь. Неосуществимо все это. Разве можно устроить царство божие? На чем там строить администрацию? На любви? На слове божием? Знаю я людей! Политически учение это так незрело, так нереализуемо, что… что… прямо-таки преступно.
– Но они вовсе не занимаются политикой! – с жаром защищала христианство Антония. – И их священные книги не касаются политики ни словом!
– Для практика и государственного деятеля все – политика, – возразил Диоклетиан. – Все приобретает политическое значение. Любую идею надлежит оценивать с позиций политики: как ее можно осуществить, что из нее сделать, к чему она приведет. Дни и ночи, дни и ночи ломал я себе голову над тем, как бы политически реализовать христианское учение; и вижу – это невозможно. Поверь мне, христианское государство не продержится и месяца. Ну, скажи на милость: как устроить армию в духе христианства? Можно ли по-христиански собирать налоги? Мыслимы ли рабы в христианском обществе? У меня большой опыт, Тоничка: ни одного года, ни даже месяца невозможно было бы управлять по христианским принципам… Потому-то христианство никогда и не привьется. Оно может быть религией ремесленников и рабов, но никогда, никогда – государственной религией. Это исключено. Понимаешь, все эти взгляды на собственность, на ближнего, это отрицание всякого насилия и так далее – вещи прекрасные, но практически неосуществимые. Не годятся они, Тоничка, для реальной жизни. Вот и скажи: что же с ними делать?
– Пускай неосуществимы, – прошептала Антония, – но это еще не значит, что они преступны.
– Преступно то, что вредно для государства, – сказал император. – А христианство способно парализовать высшую государственную власть. Этого нельзя допустить. Суверенная власть, моя милая, должна быть на этом, а не на том свете. Если я говорю, что христианское государство невозможно в принципе, то из этого логически вытекает, что государство не должно терпеть христианства. Добросовестный политик обязан трезво бороться против нездоровых и неосуществимых мечтаний. Тем более когда мечты эти – плод воображения рабов и сумасшедших.
Антония встала, тяжело дыша.
– Так знай же, Диоклетиан: я сделалась христианкой!
– Да ну? – слегка удивился император. – Впрочем, отчего же? Я ведь говорю, в христианстве что-то есть, и если это останется твоим частным делом… Не думай, Тоничка, что я не в состоянии оценить такие вещи. Я ведь тоже хотел бы снова стать… человеком с душою; с радостью, Тоничка, бросил бы я и звание императора, и политику, и все… только вот еще закончить реформу управления империей и прочий вздор; а там – там уехал бы я куда-нибудь в деревню… Штудировал бы Платона… Христа… Марка Аврелия… И этого, как бишь его, – Павла[59]59
Павел из Тарса – согласно евангельскому преданию, один из двенадцати апостолов Христа.
[Закрыть] их, что ли… Но сейчас прости: у меня кое-какие политические совещания.
1932
Атилла
© Перевод Н. Аросевой
Утром гонец принес известие, что на юго-востоке вдали полыхало ночью огненное зарево. В тот день опять сеялся мелкий дождь, сырые поленья не желали загораться. Из кучки людей, укрывшихся в урочище, трое умерли от кровавого поноса. Еда вся вышла, и двое мужчин отправились за лес к пастухам; вернулись далеко за полдень, промокшие и смертельно усталые; от них с трудом добились, что дело плохо: овцы дохнут, коров пучит; когда один из посланных хотел увести собственную телку, оставленную в стаде перед бегством в лес, пастухи набросились на них с дубинками и ножами.
– Помолимся, – молвил священник, страдающий от дизентерии. – Господь смилостивится.
– Кристус элейсон,[60]60
Христос, помилуй (греч.)
[Закрыть] – забормотали удрученные люди.
Тут среди женщин вспыхнула визгливая ссора из-за какой-то шерстяной тряпки.
– Это что такое, проклятые бабы! – заорал староста и бросился разгонять женщин кнутом. Это разрядило напряжение беспомощности, мужчины снова почувствовали себя мужчинами.
– Сюда-то эти лошадники не доберутся, – подумал вслух один бородач. – Куда им в такую чащобу, по подлеску-то… У них, бают, лошади что козы, малые да тощие…
– Я так считаю, надо было нам оставаться в городе, – проговорил низенький раздражительный человечек. – Сколько денег ухлопали на укрепления… За наши денежки можно было такие стены возвести, что ого-го!
– Еще бы, – насмешливо подхватил чахоточный бакалавр. – За такие деньги можно было сложить стены из пирогов! Поди-ка, откуси кусочек – много народу вокруг этого брюхо набило, голубчик; гляди, и тебе бы перепало.
Староста предостерегающе хмыкнул; подобные разговоры были явно не к месту.
– А я все-таки считаю, – стоял на своем раздражительный горожанин, – что кавалерии против укреплений не того… Не пускать их в город, и все! И сидели бы мы в тепле…
– Ну и возвращайся в город, залезай под перины, – посоветовал бородач.
– Что ж мне одному-то, – возразил раздражительный. – Я только говорю, надо было всем остаться в городе и обороняться… Имею же я право сказать, что мы сделали ошибку? Сколько нам эти укрепления стоили, а теперь говорите – они ни к чему! Ну, знаете!
– Так или иначе, – подал голос священник, – должны мы уповать на помощь господа бога. Люди мои, ведь этот Атилла всего-навсего язычник…
– Бич божий, – прервал его монах, сотрясаемый лихорадкой. – Кара божия.
Люди примолкли, расстроенные. «Этот монах, горящий в лихорадке, только и знает проповедовать, а ведь он даже и не нашего прихода. Есть ведь с нами свой священник! – думали они. – Вот он – наш человек, он нас поддерживает и не так сурово обличает наши грехи. Будто мы так уж грешны», – досадливо ворочались мысли беглецов.
Дождь перестал, но тяжелые капли все еще срывались с шорохом с густых древесных ветвей. «Боже, боже, боже», – кряхтел священник, мучась своим недугом.
Под вечер караульные приволокли какого-то несчастного парнишку: бежал-де с восточной стороны, занятой гуннами.
Староста начал допрашивать беглеца, надувшись как индюк: видимо, он придерживался мнения, что такое официальное дело должно отправляться с возможной строгостью. Да, отвечал парнишка, гунны уже милях в одиннадцати отсюда и постепенно продвигаются вперед; заняли его город, он их видел, нет, не самого Атиллу, видел он другого ихнего генерала, толстого такого. Сожгли ли город? Нет, не сожгли; генерал тот выпустил воззвание, что мирных жителей не тронут, только пусть город даст корм лошадям, провиант и всякое такое. И пусть жители воздерживаются от всяких враждебных выпадов против гуннов, в противном случае будут применены суровые репрессии.
– Но ведь язычники убивают даже детей и женщин, – уверенным тоном заявил бородач.
Да вроде бы нет, ответил парнишка, в его городе не убивали. Сам-то он прятался в соломе, а когда мать принесла слух, будто гунны будут уводить молодых мужчин погонщиками их стад, он ночью убежал. Вот и все, что он знает.
Люди были недовольны.
– Всем известно, – заявил один, – что гунны отсекают младенцам руки, а что они творят с женщинами, и передать невозможно.
– Ничего такого я не знаю, – извиняющимся тоном сказал парнишка. По крайней мере, у них в городе было не так плохо. А сколько их, гуннов-то? Да, говорят, сотни две, больше не будет.
– Врешь! – крикнул бородач. – Все знают, их больше пятисот тысяч! И они все истребляют и сжигают на своем пути.
– Сгоняют людей в сараи и сжигают заживо, – подхватил другой.
– Детишек на копья насаживают! – возмущенно крикнул третий.
– И над огнем их жарят, язычники проклятые! – добавил четвертый, шмыгая насморочным носом.
– Боже, боже, – простонал священник. – Боже, смилуйся над нами!
– Странный ты какой-то, – подозрительно глянул на парнишку бородач, – как же ты говоришь, будто видел гуннов, когда сам в соломе прятался?
– Матушка их видела, – запинаясь, ответил тот. – Она мне на сеновал еду носила…
– Врешь! – загремел бородач. – Мы-то знаем: куда гунны являются, сейчас все объедят, как саранча. Листьев на деревьях, и тех после них не остается, понял?
– Господи на небеси! – истерически запричитал раздражительный горожанин. – И как, почему это случилось? Кто виноват? Кто их к нам пустил? Сколько денег на войско ухлопали… Господи боже мой!..
– Кто их пустил? – насмешливо откликнулся бакалавр. – А ты не знаешь? Спроси византийского государя императора, кто призвал на нашу землю этих желтых обезьян! Милый мой, да нынче уже всем известно, кто финансирует переселение народов! И все это называется высшей политикой, понял?
Староста хмыкнул с важным видом.
– Чепуха. Все не так. Эти гунны дома-то с голоду подыхали, сволочь ленивая… Работать не умеют… Никакой цивилизации… а жрать-то хочется! Вот и двинулись на нас, чтоб… это… плоды нашего труда. Одно знают: пограбить, разделить добычу – и дальше, язычники проклятые!
– Гунны – непросвещенные язычники, – вставил священник. – Дикий, темный народ. Это господь нас так испытует; помолимся же, воздадим хвалу ему, и все опять будет хорошо.
– Кара господня! – снова пророческим тоном начал выкликать монах в лихорадке. – Бог карает вас за грехи, бог ведет гуннов, и истребит он вас, как истребил содомлян! За прелюбодеяния и за кощунства ваши, за черствость и безбожие сердец ваших, за жадность вашу и обжорство, за греховное ваше благоденствие и поклонение Маммоне отверг вас господь и предал в руки врагов!
Староста прохрипел с угрозой:
– Полегче, domine,[61]61
господин (лат.)
[Закрыть] вы не в церкви, ясно? Гунны грабить явились. Сволочь голодная, оборванцы, голытьба…
– Это – политика, – стоял на своем бакалавр. – Тут замешана Византия.
Вдруг страстно заговорил какой-то смуглый человек, по профессии лудильщик:
– Какая там Византия! Это все котельщики, и никто другой! Три года назад шатался тут один бродячий котельщик, а у него была точно такая же маленькая тощая лошадь, как у гуннов!
– Ну и что с того? – спросил староста.
– Да ясно же! – кричал смуглый человек. – Этих котельщиков вперед пустили, разведать, где да что… Шпионы они были… Всю кашу только котельщики и заварили! Знает кто-нибудь, откуда они пришли? И вообще, что им тут было делать? Что, зачем, к чему они, когда есть в городе оседлый лудильщик? Хлеб отбивать… да шпионить! И в церковь-то сроду не ходили… колдовали… скотину заговаривали… шлюх за собой таскали… Всё – они, котельщики!
– В этом что-то есть, – задумчиво произнес бородач. – Котельщики странный народ, говорят, они сырое мясо жрут.
– Шайка воров, – подтвердил староста. – Кур воруют и вообще.
Лудильщика душило справедливое негодование.
– Вот видите! Твердят – Атилла, Атилла, а это все котельщики!.. За всем, за всем стоят эти проклятые котельщики! На скот порчу напустили… Понос на нас наслали… Все их дело! Их надо вешать, где только какой покажется! Или не знаете… не знаете вы про адские котлы? Не слыхали, что гунны на походе в котлы бьют? Любой ребенок поймет, какая здесь связь! Это котельщики навлекли на нас войну! Котельщики всему виной!.. А ты! – с пеной на губах вскричал он, указывая на беглого парнишку. – Ты тоже котельщик, ты союзник и лазутчик котельщиков! Затем и пришел… хочешь нас обмануть, котельщик проклятый, хочешь нас котельщикам выдать!..
– Повесить его! – взвизгнул фальцетом раздражительный горожанин.
– Погодите, люди! – орал староста, силясь перекричать шум. – Дело надо расследовать! Тихо!
– Чего там еще церемонии разводить! – пронзительно крикнул кто-то.
Стали сбегаться женщины.
*
В ту ночь зарево поднялось и на северо-западе. Сеял мелкий дождик. Пять человек умерли от дизентерии и кашля.
Парнишку повесили после долгих пыток.
1932
Иконоборчество[62]62
Иконоборчество – борьба с почитанием икон в Византийской империи в VIII–IX веках. Проводилась византийскими императорами с целью захвата монастырских владений и поддерживалась военно-земельной знатью. В азиатской части империи обрела характер народного движения.
[Закрыть]
© Перевод Н. Аросевой
К Никифору, настоятелю монастыря св. Симеона, явился некий Прокопий, известный ученый, знаток и страстный коллекционер византийского искусства. Он был явно взволнован и, ожидая настоятеля, нетерпеливо шагал по монастырскому коридору со стрельчатыми сводами. «Красивые у них тут колонны, – подумалось ему, – видимо, пятого века. Никифор может нам помочь. Он пользуется влиянием при дворе и сам некогда был художником. И неплохим живописцем. Помню – он составлял узоры вышивок для императрицы и писал для нее иконы… Вот почему, когда руки его скрутила подагра и он не мог больше работать кистью, его сделали аббатом. Но, говорят, его слово все еще имеет вес при дворе. Иисусе Христе, какая чудесная капитель! Да, Никифор поможет. Счастье, что мы вспомнили о нем!»
– Добро пожаловать, Прокопий, – раздался за его спиной мягкий голос.
Прокопий порывисто обернулся. Позади него стоял высохший, ласковый старичок; кисти его рук утопали в длинных рукавах.
– Недурная капитель, не правда ли? – сказал он. – Старинная работа – из Наксоса[63]63
Наксос – греческий остров, место добычи высококачественного мрамора.
[Закрыть], сударь.
Прокопий поднес к губам рукав аббата.
– Я пришел к вам, отче… – взволнованно начал он, но настоятель перебил его:
– Пойдемте, погреемся на солнышке, милый мой. Тепло полезно для моей болезни. Какой день, боже, как светло! Так что же привело вас ко мне? – спросил он, когда оба уселись на каменную скамью в монастырском садике, полном жужжания пчел и аромата шалфея, тимьяна и мяты.
– Отче, – начал Прокопий, – я обращаюсь к вам как к единственному человеку, способному предотвратить тяжкий и непоправимый удар по культуре. Я знаю, вы поймете меня. Вы – художник, отче. Каким живописцем вы были, пока вам не было суждено принять на свои плечи высокое бремя духовной должности! Да простит мне бог, но иной раз я жалею, что вы не склоняетесь больше над деревянными дощечками, на которых некогда ваша волшебная кисть создавала прекраснейшие из византийских икон.
Отец Никифор вместо ответа поддернул длинные рукава рясы и подставил солнцу свои жалкие узловатые ручки, искривленные подагрой наподобие когтистых лап попугая.
– Полноте, – ответил он кротко. – Что вы говорите, мой милый!
– Это правда, Никифор, – молвил Прокопий (пресвятая богородица, какие страшные руки!) – Вашим иконам ныне цены нет. Недавно один еврей запрашивал за ваш образок две тысячи драхм, а когда ему их не дали, сказал, что подождет – через десять лет получит за образок в три раза больше.
Отец Никифор скромно откашлялся и покраснел от безграничной радости.
– Ах, что вы, – залепетал он. – Оставьте, стоит ли еще говорить о моих скромных способностях? Пожалуйста, не надо; ведь у вас есть теперь всеобщие любимцы, как этот… Аргиропулос, Мальвазий, Пападианос, Мегалокастрос и мало ли еще кто, например, как бишь его, ну который делает мозаики…
– Вы имеете в виду Папанастасия? – спросил Прокопий.
– Вот-вот, – проворчал Никифор. – Говорят, его очень ценят. Ну, не знаю; я бы лично рассматривал мозаику скорее как работу каменщика, чем настоящего художника. Говорят, этот ваш… как его…
– Папанастасий?
– Да, Папанастасий. Говорят, он родом с Крита. В мое время люди иначе смотрели на критскую школу. Это не настоящее, говорили. Слишком жесткие линии, а краски!.. Так вы сказали, этого критянина высоко ценят? Гм, странно.
– Я ничего такого не сказал, – возразил Прокопий, – но вы видели его последние мозаики?
Отец Никифор отрицательно покачал головой.
– Нет, нет, мой милый. Зачем мне на них смотреть! Линии, как проволока, и эта кричащая позолота! Вы обратили внимание, что на его последней мозаике архангел Гавриил стоит так косо, словно вот-вот упадет? Да ведь ваш критянин не может изобразить даже фигуру, стоящую прямо!
– Видите ли, он сделал это умышленно, – нерешительно возразил Прокопий. – Из соображений композиции…
– Большое вам спасибо, – воскликнул аббат и сердито нахмурился. – Из соображений композиции! Стало быть, из соображений композиции разрешается скверный рисунок, так? И сам император ходит любоваться, да еще говорит – интересно, очень интересно! – Отец Никифор справился с волнением. – Рисунок, прежде всего – рисунок: в этом все искусство.
– Вот слова подлинного мастера! – поспешно польстил Прокопий. – В моей коллекции есть ваше «Вознесение», и скажу вам, отче, я не отдал бы его ни за какого Никаона.
– Никаон был хороший живописец, – решительно произнес Никифор. – Классическая школа, сударь. Боже, какие прекрасные пропорции! Но мое «Вознесение» – слабая икона, Прокопий. Эти неподвижные фигуры, этот Иисус с крыльями, как у аиста… А ведь Христос должен возноситься без крыльев! И это называется искусство! – Отец Никифор от волнения высморкался в рукав. – Что ж поделаешь, тогда я еще не владел рисунком. Я не умел передать ни глубины, ни движения…
Прокопий изумленно взглянул на искривленные пальцы аббата.
– Отче, вы еще пишете?
Отец Никифор покачал головой.
– Что вы, нет, нет. Так только, порой кое-что пробую для собственного удовольствия.
– Фигуры? – вырвалось у Прокопия.
– Фигуры. Сын мой, нет ничего прекраснее человеческих фигур. Стоящие фигуры, которые, кажется, вот-вот пойдут… А за ними – фон, куда, я бы сказал, они могут уйти. Это трудно, мой милый. Что об этом знает какой-нибудь ваш… ну, как его… какой-нибудь критский каменщик со своими уродливыми чучелами!
– Как бы мне хотелось увидеть ваши новые картины, Никифор, – заметил Прокопий.
Отец Никифор махнул рукой.
– К чему? Ведь у вас есть ваш Папанастасий! Превосходный художник, как вы говорите. Соображения композиции, видите ли! Ну, если его мозаичные чучела – искусство, тогда уж я и не знаю, что такое живопись. Впрочем, вы знаток, Прокопий; и вероятно, правы, что Папанастасий – гений.
– Этого я не говорил, – запротестовал Прокопий. – Никифор, я пришел сюда не за тем, чтобы спорить с вами об искусстве, а чтобы спасти его, пока не поздно!
– Спасти – от Папанастасия? – живо осведомился Никифор.
– Нет – от императора. Вы ведь об этом знаете. Его величество император Константин Копроним[64]64
Константин V Копроним (Иконокласт) (719–775) – император Византии в 741–775 гг. В 754 г. добился синодального запрета иконопочитания.
[Закрыть] под давлением определенных церковных кругов собирается запретить писание икон. Под тем предлогом, что это-де идолопоклонство или что-то в этом роде. Какая глупость, Никифор!
Аббат прикрыл глаза увядшими веками.
– Я слышал об этом, Прокопий, – пробормотал он. – Но это еще не наверное. Нет, ничего еще не решено.
– Именно потому я и пришел к вам, отче, – горячо заговорил Прокопий. – Ведь всем известно, что для императора это только политический вопрос. Ему нет никакого дела до идолопоклонства, просто он хочет, чтоб его оставили в покое. Но уличная чернь, подстрекаемая грязными фанатиками, кричит «долой идолов», и наш благородный монарх думает, что удобнее всего уступить этому оборванному сброду. Известно вам, что уже замазали фрески в часовне Святейшей Любви?
– Слыхал я и об этом, – вздохнул аббат с закрытыми глазами. – Какой грех, матерь божия! Такие редчайшие фрески, подлинный Стефанид! Помните ли вы фигуру святой Софии, слева от благословляющего Иисуса? Прокопий, то была прекраснейшая из стоящих фигур, какую я когда-нибудь видел. Ах, Стефанид – это был художник, что и говорить!
Прокопий склонился к аббату и настойчиво зашептал:
– Никифор, в законе Моисеевом написано: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли». Никифор, правы ли те, кто проповедует, будто богом запрещено писать картины и ваять скульптуры?
Отец Никифор покачал головой, не открывая глаз.
– Прокопий, – помолчав, сказал он со вздохом, – искусство столь же свято, как и богослужение, ибо оно… прославляет творение господа… и учит любить его. – Он начертал в воздухе знак креста своей обезображенной рукой. – Разве не был художником сам творец? Разве не вылепил он фигуру человека из глины земной? Разве не одарил он каждый предмет очертаниями и красками? И какой еще художник, Прокопий! Никогда, никогда не исчерпаем мы возможность учиться у него… Впрочем, закон Моисея относится ко временам варварства, когда люди еще не умели хорошо рисовать.
Прокопий глубоко вздохнул.
– Я знал, отче, что вы так скажете, – почтительно произнес он. – Как священнослужитель и как художник, Никифор, вы не допустите гибели искусства!
Аббат открыл глаза.
– Я? Что я могу сделать, Прокопий? Ныне плохие времена; цивилизованный мир впадает в варварство, являются люди с Крита и еще бог весть откуда… Это ужасно, милый мой; но чем можем мы предотвратить это?
– Никифор, если вы поговорите с императором…
– Нет, нет, – перебил настоятель. – С императором я не могу говорить об этом. Он не имеет никакого отношения к искусству, Прокопий. Я слышал, будто недавно он хвалил мозаики этого вашего… как его…
– Папанастасия, отче.
– Да. Того самого, который создает уродливые безжизненные фигуры. Император понятия не имеет о том, что такое искусство. А что касается Мальвазия, то он, по-моему, столь же скверный живописец. Еще бы – равеннская школа. И все же ему поручили мозаики в придворной часовне! Ах, нет, при дворе ничего не добьешься, Прокопий. Не могу же я отправиться во дворец с просьбой, чтобы какому-то Аргиропулосу, или этому, – как его зовут, этого критянина, Папанастасий? – разрешили и дальше портить стены!
– Не в этом дело, отче, – терпеливо заговорил Прокопий. – Но подумайте сами: если победу одержат иконоборцы, искусство будет уничтожено! И ваши иконы сожгут, Никифор!
Аббат махнул своей маленькой ручкой.
– Все они слабые, Прокопий, – невнятно произнес он. – Тогда я еще не умел рисовать. А рисовать фигуры, знаете ли, не так-то просто научиться!
Прокопий протянул дрожащий палец к античному изваянию юного Вакха, наполовину скрытому цветущим кустом шиповника.
– И эта статуэтка будет разбита, – молвил он.
– Какой грех, какой грех, – прошептал Никифор, скорбно прикрывая глаза. – Мы называли эту скульптуру святым Иоанном Крестителем, но это – подлинный, совершенный Вакх. Часами, часами я любуюсь им. Это – как молитва, Прокопий.
– Вот видите, Никифор. Неужели этому божественному совершенству суждено погибнуть навеки? Неужели какой-нибудь вшивый, орущий фанатик вдребезги разобьет ее молотком?
Аббат молчал, сложив руки.
– Вы можете спасти само искусство, Никифор, – наседал Прокопий. – Ваша святая жизнь, ваша мудрость снискали вам безграничное уважение в церкви; двор почитает вас необычайно; вы будете членом Великого Синода, который призван решить, все ли скульптуры являются орудием идолопоклонства. Отче, судьбы искусства в ваших руках!
– Вы переоцениваете мое влияние, Прокопий, – вздохнул аббат. – Эти фанатики сильны, и за ними стоит чернь… – Никифор помолчал. – Так вы говорите, будто уничтожат все картины и изваяния?
– Да.
– И мозаики тоже уничтожат?
– Да. Их собьют с потолков, а камушки выбросят на свалку.
– Что вы говорите, – с интересом произнес Никифор. – значит, собьют и кособокого архангела Гавриила, созданного этим… ну…
– Вероятно, да.
– Чудесно, – захихикал аббат. – Ведь это ужасно скверная картина, милый мой. Я еще не видел столь невообразимых чучел; и это называется – «соображения композиции»! Скажу вам, Прокопий: скверный рисунок – грех и святотатство; он противен господу богу. И этому должны поклоняться люди? Нет, нет! Действительно, поклонение скверным картинам – не что иное, как идолопоклонство. Я не удивляюсь, что люди возмущаются этим. Они совершенно правы. Критская школа – ересь; и такой Папанастасий – худший еретик, нежели любой арианин[65]65
Арианин – последователь священника Ария (256–336) из г. Александрии; арианство – раннехристианское религиозное движение, отражавшее оппозиционные настроения в римских провинциях; в IV в. осуждалось как ересь.
[Закрыть]. Стало быть, говорите вы, – радостно залепетал старик, – они собьют со стен эту мазню? Вы принесли мне добрую весть, сын мой. Я рад, что вы пришли. – Никифор с трудом поднялся в знак того, что аудиенция окончена. – Хорошая погода, не правда ли?
Прокопий встал, явно удрученный.
– Никифор, – вырвалось у него, – но и другие картины уничтожат! Слышите, все произведения искусства сожгут и разобьют!
– Ай-ай-ай, – успокоительно проговорил аббат. – Жаль, очень жаль. Но если кто-то хочет избавить человечество от скверных изображений, не стоит обращать внимания, если он немного переусердствует. Главное, больше не придется поклоняться уродливым чучелам, какие делает ваш… этот…
– Папанастасий.
– Да, да, он самый. Отвратительная критская школа. Прокопий! Я рад, что вы напомнили мне о Синоде. Буду там, Прокопий, буду, даже если бы меня пришлось нести туда на руках. Я бы до гроба не простил себе, если бы не присутствовал при сем. Главное, пусть собьют архангела Гавриила, – засмеялся Никифор, и личико его еще больше сморщилось. – Ну, господь с вами, сын мой. – И он поднял для благословения изуродованную руку.
– Господь с вами, Никифор, – безнадежно вздохнул Прокопий.
Аббат Никифор уходил, задумчиво покачивая головой.
– Скверная критская школа, – бормотал он. – Давно пора пресечь их деятельность. Ах, боже, какая ересь… этот Папанастасий… и Пападианос… У них не картины, а идолы, проклятые идолы… – выкрикивал Никифор, взмахивая больными руками. – Да, да… идолы…
1936








