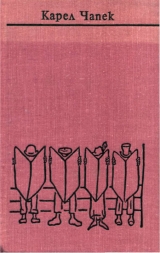
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 7. Статьи, очерки, юморески"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
РЕАЛИЗМ
Итак, реализм; от этого «грубого» и «зазорного» слова нам казалось бы, следовало отказаться. Как известно, реализм – «вульгарен, поверхностен, приземлен, материалистичен и вообще низок»; к тому же он давно и много раз превзойден, и тем не менее…
Идти за фактами, думать и жить фактами, открывать действительность, быть пристрастным к фактам, знать обо всем или знать многое, не строить из себя святую простоту – я утверждаю, что это тоже реализм.
Быть современным, обыкновенным, человечным, достаточно искушенным и очень трезвым, открыть настежь глаза и сердце, не кадить самому себе громкими словами, не оглушать лозунгами, а деловито, четко, по-мужски делать свое дело – есть реализм.
Схватывать суть вещей не просто глазом, нюхом и грязными лапами, а разумом своим и духовным оком, всеми светлыми и возвышенными фибрами человеческого духа; вникать в суть происходящего пытливой мыслью, чутко и горячо реагировать на те или иные явления и определять их место в жизни с помощью чистой логики – это и есть реализм.
Ты можешь сделать нищего из морщин, клочьев волос, лохмотьев и тому подобного. Но настоящий нищий создан не из морщин, клочьев волос и лохмотьев, а из бедности, скорби, мольбы, терпения, ожидания и мертвенной неподвижности поз. Подлинная, тяжкая и ранящая действительность заключается не в морщинах и вшивых сединах, не в лохмотьях, а в том, что этот человек ждет и хочет, чтобы ты его заметил.
Иными словами, подлинная действительность – не причина и модель для живописи, а ее конечная, высшая цель. Действительность надо не копировать, а создавать всеми творческими силами души и сердца.
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Хотя сила, создавшая мир, была колоссальной, безграничной, возможно, даже божественной, надо признать, что творила она весьма продуманно и прямолинейно, начиная с безупречной геометрии атома и кончая безупречной геометрией звездной вселенной. Любое творение – закономерная конструкция.
Сотворение человека знаменует собой новый этап геометрической пропорциональности. Каменное орудие заключено в камне, как кристалл в горной породе, и человек учится вылущивать из материи ее геометрическое ядро. Геометрия окрыляет создателя храма, равно как и создателя машины. Поэтический размер – геометричен, абстрактное понятие – геометрическое понятие. Что бы человек ни формировал – он исходит из линейных принципов.
Фиксируя покой, движение и пределы, очерчивая контуры, переводя тела в линии, а объемы в плоскости, распределяя и группируя предметы на плоскости, художник геометрически творит формальный порядок вещей.
Упрощая и расставляя акценты, переводя суть вещей в доступную форму, придавая им ясность и величие, значительность и ценность, художник геометрически творит нравственный порядок вещей.
Закон, который он считает для себя непреложным, – это лишь способ достижения искомого порядка. Формалист же отождествляет закон с порядком; между тем закон не цель, а средство – к тому же во многом искусственное и произвольное – для построения порядка.
Стремясь любым путем, любыми средствами самодисциплины и воображения достичь ясности, определенности и завершенности, чистоты и формального совершенства, ты тем самым приобщаешься к геометрическому порядку искусства.
Поскольку геометрический порядок подчиняет себе материю и дух, он естествен, целостен, гармоничен и, следовательно, прекрасен.
И ТО И ДРУГОЕ
Но ты не можешь отвести глаз от действительности, которая вовсе не выглядит геометрически стройной, а, напротив, кажется громоздкой, не искупленной симметрией, болезненной.
– Да, я не могу уйти от реальной действительности.
И не можешь не думать о систематическом порядке, о чистоте, гармонии и форме, ибо все очищается и искупается порядком.
– Как же можно об этом не думать!
И потому ты рассеян и вечно будто что-то прикидываешь. Тебе бы хотелось выразить многое, все, все сущее, но, завороженный подлинной жизнью того, что ты изображаешь, ты десятки, сотни раз возвращаешься к одному и тому же, чтобы как следует изучить объект. Ты писал, художник, вереницы, толпы вдов или проституток, детей, детективов, изгоев, девушек и пьяниц, и кого и что угодно еще, словно не в состоянии насытиться изображаемым, воссоздаваемым объектом.
– Да, это так, я не мог им насытиться.
И все же ты каждый раз оставлял то, что сделал; не успев найти искомое, ты опять начинал сначала: тебе всегда казалось, что ты недостаточно сдержан, ты никогда не мог замкнуться в форме, выношенной тобою.
– Я в отчаянии.
Чего же ты хочешь, безумец? Ты хочешь создать еще более ясное и достоверное произведение, достичь еще более продуманной формы? Еще более целомудренного и монашеского самоограничения?
– Я хочу воссоздать вещи такими, каковы они есть.
Ладно, значит, ты хочешь больше реальности, больше чуткости, больше конкретного сходства, больше содержания, больше суровой жизни, больше…
– К черту, я хочу найти оптимальный способ воплощения.
Горе тебе, ты ожесточился и никогда не договоришься с людьми.
– Да, а теперь отстань, дай мне писать картину.
Не скрою от вас: этим полотнам всегда будет недоставать некой высшей и абсолютно уравновешенной гармонии. У них острый привкус, они немного строги и суровы; есть в них нечто грубое и в то же время чопорное, они суровы и большей частью некрасивы; с первого взгляда они вам не понравятся.
Да, признаюсь, случай не из ясных и не из легких; не так-то просто представить себе симбиоз: упрямая, тяжеловесная и сдержанная страстность, интеллект, пытливый и прямолинейный, прокладывающий себе путь через диковинные труднодоступные области; раздольная, могучая река Духа с отпугивающими омутами, трезвый и методический анализ, в котором сквозит сумрачный и пагубный фатализм. Случай, повторяю, довольно сложный, и его не так-то легко подвести, – весь без остатка, как говорят немецкие философы, – под одну из предшествующих или существующих категорий. А я в заключение отказываюсь от намерения истолковать просто и гладко полотна, происхождение и структура которых зиждется на столь разнородных началах. Тут надо войти во вкус.
Я бы хотел, чтобы вам это удалось, ибо, утверждаю, вы не обманетесь ни в одной линии: здесь все скрупулезно выверено, все подлинно, ничто не сделано на глаз и не скользит по поверхности. Здесь не выставлена напоказ так называемая искра божья, думаю, что этот упрямец никакой «искры божьей» и не принял бы, поскольку не доверял бы ей. То, что им совершено, – оплачено кровью, строжайшей самодисциплиной и художнической волей. Но если вы глухи к таинству и неискупленности иррациональных сил души, вы не постигнете проникновенности и многообразия его творчества.
Что же касается плодотворных и весомых результатов, рожденных этой неукротимой и столь строгой к себе волей запечатлеть мир, – то не мне об этом писать.
О традиции[305]305
Впервые опубликовано в журнале «Аполлон» 1 ноября 1924 года, переведено по книге: К. Čapek. О věcech obecných čili Zoon politikon. Praha, 1932.
[Закрыть]
© Перевод И. Порочкиной
Я озаглавил этим словом свою статью, чтоб оно было перед глазами. Но чем больше я на него смотрю, тем больше оно сбивает меня с толку. Традиция, как ее обычно толкуют, – это поддержание старых порядков (наверное, такое определение никуда не годится, но пока меня не перебивайте). Допустим. Но ведь пережиток – это тоже поддержание старых порядков. Я не знаю: парики английских судей – традиция или пережиток? Я не могу решить: университетский педель – пережиток или традиция? Если университетский педель достопочтенная традиция, в таком случае вызываемые им ассоциации с пятнадцатым веком – плюс. Если же, напротив, он мерзкий пережиток, то это – минус. Традиция – это поддержание старых устоев, потому что они стары. Пережиток – это поддержание старых устоев, хотя они стары.
Но еще больше хлопот с понятием «старый». Меховая мантия педеля для нас, обыкновенных и неисторических личностей, весьма устарела. Но для археолога она вызывающе нова. Недавно я вычитал у одного ученого, что скульптура на каких-то воротах «вполне современна», – она восходит к пятнадцатому веку. А для палеонтолога невзрачная двухтысячелетней давности римская или египетская амфора прямо-таки вызывающе нова. С другой стороны, возможно, что для майского жука прошедшая неделя – золотой век традиций, в то время как бактерия в моем стакане заботливо поддерживает древнюю традицию только что минувшего часа. Таким образом, традиция – это поддержание обычаев, которые в силу более или менее случайных и иррациональных причин мы считаем устаревшими.
Время от времени у нас провозглашают, что мы должны вернуться к традициям девяностых или восьмидесятых годов или даже к традициям наших будителей[306]306
Будители – деятели чешского национального Возрождения конца XVIII – начала XIX в.
[Закрыть]. Примечательно не то, что это консерватизм чистой воды, а то, что явления двадцати-, сорока– или столетней давности мы считаем уже старыми. Не исключено, что в будущем году какие-нибудь новоявленные ретрограды станут взывать к древней поэтической традиции Иржи Волькера[307]307
Иржи Волькер (1900–1924) – выдающийся чешский революционный поэт, создатель жанра социальной баллады; в своем творчестве опирался на национальную поэтическую традицию (К.-Я. Эрбен и др.).
[Закрыть]. Возможно, кое-кто, обуянный консерватизмом, намеревается откопать из-под «наслоения» веков традицию Франи Шрамека[308]308
Франя Шрамек (1877–1952) – чешский писатель и поэт, сблизился с К. Чапеком и его окружением в 20-е годы.
[Закрыть]. Минувший век мы уже не считаем даже источником традиций, в то время как он мог бы запросто служить нам широкой базой современности. Вероятно, события и явления так быстро устаревают из-за недостатка исторической преемственности. К сожалению, именно поэтому и люди у нас старятся гораздо быстрее, чем в западных, исторически более древних странах.
Вообще, слово «старый» – понятие чуднóе, им нельзя оперировать всерьез. Для трехлетнего малыша пятилетний малыш слишком стар, двадцатилетний молодой человек непочтительно посмеивается над сединами старца тридцати лет, школьницы младших классов считают старикашкой выпускника. Вполне естественно, что для молодых людей пожилые люди – старые перечницы. Еще хуже, когда пожилые сами считают себя стариками. Например, писали, что нужно омолодить Чешскую Академию. Прекрасная идея. Я всецело за омоложение Чешской Академии, но за омоложение не в результате притока молодых, а в силу того, что отцы ее почувствуют себя пылкими юношами со всеми их преимуществами и возможностями.
С годами человек движется не только вперед, но и вспять. То, что двадцатилетнему кажется давно изжитым прошлым, в пятьдесят представляется удивительно близким, рукой подать. Мне не верится, что мафусаиловцы были такими уж прогрессивными, какими изображает их Бернард Шоу.[309]309
Мне не верится, что мафусаиловцы были такими уж прогрессивными, какими изображает их Бернард Шоу. – Речь идет о пьесе Шоу «Назад к Мафусаилу» (1921). Мафусаил – библейский патриарх, проживший, по преданию, девятьсот шестьдесят девять лет; имя его стало нарицательным для обозначения долголетия. По мысли Шоу, долголетие (идеальный человеческий возраст в его представлении – триста лет) позволило бы людям более рационально устроить свою жизнь, так как только с годами и на основе собственного опыта они приучаются разумно смотреть на вещи. К. Чапек в комедии «Средство Макропулоса» (см. т. 4 наст. Собр. соч.) полемизировал с этой точкой зрения.
[Закрыть] Я думаю, что вовсе не по причине регресса а именно в силу роста они постоянно приближаются к прошлому: они глубоко пускают в него корни, глубже, чем это способны сделать мы, люди недолговечные.
Что касается меня, то должен сознаться: даром историзма я не обладаю. Я не люблю старое, или, точнее говоря, необычайно люблю некоторые старые вещи, но не за то, что они стары, а за то, что они вовсе не устарели. Даже университетский педель в своем помпезном одеянии мне нравится, но не тем, что он архаичен, а тем, что он очень красочен, – следовательно, он более близок праздничной молодости, чем мы в своих сереньких пиджачках. Ярослав Дурих[310]310
Ярослав Дурих (1886–1962) – чешский католический писатель. На рубеже 20-х годов был близок демократическим литературным кругам, впоследствии отходит все более вправо и оказывается на профашистских позициях. После Мюнхенского сговора Дурих призывал к «очистке» чешской литературы от таких писателей, как Чапек.
[Закрыть] обращается к Эрбену[311]311
Эрбен Карел Яромир (1811–1870) – чешский поэт-романтик.
[Закрыть] не потому, что Эрбен стар, а потому что он ни капельки не устарел. Мы восхищаемся примитивным искусством древних народов не потому, что оно древнее, а за его удивительную молодость, и так далее…
Вот и все, что я хотел сказать. Нам подобало бы питать больше любви к прошлому и к старым вещам, потому что в них заключен неисчерпаемый запас фантастической молодости. Только люди, которые не были по-настоящему молоды, могут считать прошлое складом старых и ненужных вещей. Есть что-то старческое в разговорах о старых традициях. Если даже самые древние традиции не являются чертовски молодыми, то, честное слово, я не знаю, к чему они. А если они действительно стары, стало быть, они – пережиток.
1924
Век зрения[312]312
Впервые опубликовано в газете «Лидове новины» 22 февраля 1925 года.
[Закрыть]
© Перевод О. Малевича
Вы, очевидно, заметили, что в кино ходит чрезвычайно мало старых людей. Даже если вы примете во внимание, что старые люди, как правило, бывают более экономны, больше любят домашний уют и вообще не столь беспутны, как мы, все прочие, – этого еще недостаточно, чтобы объяснить, почему все же так мало их предается порочному удовольствию – глазеть на сие дьявольское изобретение, на эти светящиеся картинки. Старшее поколение проявляет к новомодному зрелищу явную неприязнь. Старшее поколение ворчит себе под нос что-то вроде «оставьте нас в покое с подобными глупостями» и охотнее раскроет вчерашнюю газету или роман пятидесятилетней давности. А между тем тот же самый роман пятидесятилетней давности разыгрывается на экране кинотеатра за ближайшим углом, и мы, все прочие, затаив дыхание, следим за мелькающими кадрами и недоумеваем, как можно читать столь архаическую дребедень. Заурядный фильм в подавляющем большинстве случаев гораздо ближе к Вальтеру Скотту, чем, например, к Виту Незвалу[313]313
Вит Незвал – Незвал Витезслав (1900–1958) – выдающийся чешский поэт-коммунист; в 1936 г. Незвал написал восторженное предисловие ко второму изданию антологии переводов К. Чапека из французской поэзии.
[Закрыть], и больше напоминает Жорж Санд, чем, скажем, Джорджа Шоу. Заурядный фильм не имеет совершенно никакого отношения к современной литературе, и, наоборот, он тесно связан с литературой старой; собственно, он является единственным прямым наследником старого романа. Представители молодого поколения даже не подозревают, что в кино они увлечены миром буйной фантазии своих невероятно отсталых отцов; а представители старшего поколения не догадываются, что движущиеся тени в кино, которыми они пренебрегают, – это плоть от их плоти, вернее, тень от их плоти. Таким образом, перед нами поистине типичный пример непримиримого противоречия поколений.
Как мне кажется, старшее поколение отрицает фильм не потому, что он слишком уж современен, либо слишком сумасброден, либо слишком такой-разэтакий, а исходит из более глубоких причин: он чересчур стремителен и обходится без слов. Я даже думаю, что пожилые люди стали бы с удовольствием посещать кинематограф, если бы вместо картинок им преподносили там тексты. В начале их мира было слово, а отнюдь не зрелище. Картина сама по себе, картина без слов ничего для них не значит: она должна быть как-то названа, чтобы обрести реальность. Пожилой господин видит на экране лишь тени, тени, тени, нечто сумбурное и нереальное. Если бы изображение задержали хоть на минутку, он мог бы определить его каким-то понятием и описать увиденное словами; но прежнее изображение уже исчезло, и новые тени трепещут на экране в немой гонке событий. Слово обладает длительностью, слово можно запомнить, слово – вещь солидная и прочная, а движение чересчур кратковременно, чтобы мы успели включить его в цепь реально существующего; это лишь смена одного другим, лишь переходное состояние, а не порядочное, надежное, устоявшееся бытие. Пожилой господин глядит на бегущую киноленту так, будто присутствует при демонстрации сна; прочти он в книге о прелестной девушке, ступающей точно лань, он бы этому поверил; но видя ступающую, точно лань, прелестную девицу на экране, он не осознает ее появление как поэтическое событие, поскольку об этом не написано, как подобает, весомыми и к чему-то обязывающими словами. Изображение ему ничего не говорит, это сплошной подвох и мошенничество. И пожилой господин уходит из кино, как будто ничего там не видел. «Оставьте меня в покое с подобными глупостями», – заявляет он.
В зрительном зале кинематографа совершается настоящее перевоспитание человека. Человек, сидящий в кино, должен был найти какую-то более непосредственную связь между глазом и мозгом, обходящуюся без посредничества слов: в конце концов, если воспользоваться техническим термином, здесь происходит «короткое замыкание» между глазом и мозгом. Старшему поколению, очевидно, недостает этого «короткого замыкания», этого мгновенного перенесения искры с сетчатки глаза прямо в мозговой центр; старшее поколение – тип читательский, или мыслящий понятиями, тогда как нынешний человек скорее склонен к зрительному восприятию. Моя покойная бабушка должна была читать вслух, чтобы как следует вникнуть в прочитанное; для нее слово было еще явлением звуковым, а не зрительным; в старые времена большинство читателей еще воспринимало чтение ухом. Поднаторевший читатель постепенно стал отказываться от этого кружного пути и усваивал читаемое слово прямо в его буквенном обозначении. В фильме таким кружным путем оказалось слово, и мы учимся понимать без слов. Не хочу решать, прогресс ли это, – но, как бы то ни было, факт остается фактом.
Однако кино, безусловно, в значительной мере ставит литературу под угрозу не тем, что хотело бы заменить ее собой, а тем, что воспитывает иную разновидность людей, тип зрителя вместо типа читателя. Читатель терпелив, он дает себе время узнать подробности, отдохнуть на описаниях и с начала до конца проследить диалог. Зритель не обладает таким терпением; он хочет охватить ситуацию одним взглядом, понять событие, как бы оно ни было кратко, и уже снова видеть что-нибудь новое. Но, может быть, когда-нибудь, пресытившись этим галопом кадров, люди вновь станут прибегать к книге, дабы отдохнуть; или даже предпочтут, чтобы им не спеша, с толком и расстановкой рассказывали романы и сказки по радио, и будут слушать с закрытыми глазами, давая убаюкать себя словом, которое снова возвратится к своему первоначальному назначению – быть средством устного общения. Возможно, – кто знает? – возможно, когда-нибудь книга и вовсе вымрет, возможно, она станет такой же странной реликвией, как надписи на вавилонских кирпичах. Но искусство не умрет.
1925
Речь[314]314
Впервые опубликовано в сборнике «Новый чешский театр 1918–1926» (Прага, 1926).
[Закрыть]
© Перевод О. Малевича
Исходя из собственного опыта заведующего репертуарной частью, я утверждаю: мы должны изо всех сил стараться создавать театральный чешский язык. По причинам, о которых не приходится слишком подробно распространяться, театральная речь не совпадает ни с народным языком, ни с литературным… Грамматика письменной речи совсем не та, что грамматика речи разговорной; последняя, вероятно, никогда не будет написана, ибо повседневный язык значительно изменчивее литературного. Что касается меня, то я гораздо больше верю в законы театрального синтаксиса, чем в законы сценической композиции; я верю, что на сцене можно играть даже гражданский кодекс, только следовало бы написать его немного иначе. В театре по этому поводу говорят: роль должна быть написана так, чтобы слова легко слетали с языка.
Театр – это дом чудес; на сцене все возможно и приемлемо, но что почти невозможно – так это деепричастие. А ведь многие переводчики салонных пьес сыплют деепричастиями с такой щедростью, словно за каждое получают отдельно, сверх гонорара. Бывают случаи, когда человек, в общем-то любящий театр, требует, чтобы героиня пьесы произнесла нечто вроде: «Подошедши к окну, я окликнула его» – или что-нибудь еще более ужасное. Есть люди, которые до сих пор не поняли одну из основных тайн театра: там нельзя произносить слово «который». Так называемые сложные периоды со всяческими ответвлениями, подчинением, деепричастиями, причастиями, обособленными прилагательными и наречиями и все прочие атрибуты Цицеронова красноречия годятся разве что для «Лабиринта света» Коменского[315]315
«Лабиринт света» – аллегорическое произведение Я.-А. Коменского «Лабиринт света и рай сердца» (1623).
[Закрыть], но никак не для сцены. Одно из самых основных правил драматурга: помни, что ты пишешь пьесу, а не эссе. Зритель в театре не может держать в голове начало фразы; то, что ему говорится, должно быть в каждый момент цельным и законченным. На практике это означает, что сценическая речь хотя бы на восемьдесят процентов должна придерживаться сочинительных связей. Точно так же, как чешский язык, которым говорит человек на улице. Никто, кроме учителя начальной школы, не скажет: «Несмотря на то, что я его предупреждал, он все-таки прыгнул через канаву». Скорее скажут: «Я предупреждал его, но он все-таки прыгнул через эту канаву». Факт следует за фактом, как выстрел за выстрелом; их соотношение, их причинная связь, взаимообусловленность, последовательность или подчиненность выражаются в значительно большей степени посредством драматического действия, нежели чисто грамматически. Письменная речь, которая не предназначена для произнесения с подмостков, требует значительно большей расчлененности в логических связях; однако на сцене, как и в жизни, эти связи выражаются не словесно, а непосредственным действием, игрой. Проблема театрального синтаксиса связана не столько с тем, чтобы то или иное выражение легко произносилось (хотя и это весьма важно), сколько с тем, чтобы его можно было сыграть. Слова «который», «ибо», «между тем как» и тому подобные можно без затруднения произнести, но их нельзя сыграть.
Когда кто-нибудь выражает свои мысли напыщенно и неестественно, мы заявляем, что он говорит театрально. Это очень обидно для театра. С драматургической точки зрения театральной может быть названа речь, во-первых, в высшей степени ясная и удобопонятная, лаконичная и точная, а во-вторых, столь же естественная, непроизвольная и обиходная, как приветствие «доброе утро» или что-нибудь в этом роде. Два вышеназванных требования трудно соединить. И для того чтобы удовлетворить их, драматург или переводчик должны, работая над пьесой, исходить не из представления о (логическом) повествовании, а из представления о (драматическом) исполнении. Нужно, чтобы каждая произнесенная со сцены фраза воспринималась как составная часть актерского исполнения, чтобы она сама играла. Для театра мы пишем так, чтобы актер не читал текст роли, а играл его. Можно сказать, что драматург пишет не просто на слух, но даже с закрытыми глазами, чтобы постоянно видеть, как его персонажи ходят, стоят, сидят и размахивают руками. Только так ему удается вложить в их уста слова столь же целеустремленные и непроизвольные, как движение живого человека,
Но для этого, разумеется, нужно прежде всего хорошо знать, как ведет себя живой человек.
1926








