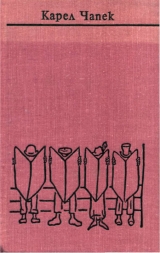
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 7. Статьи, очерки, юморески"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
Как быть с литераторами?[316]316
Впервые опубликовано в газете «Лидове новины» 8 мая 1927 года. Перевод выполнен по книге: К. Čapek. Sloupkový ambit. Praha, 1957.
[Закрыть]
© Перевод И. Инова
На днях я прочел в одной из критических статей, будто «все большее число людей пеняет поэтам за их тяготение к журналистике». Куда ушли те золотые времена, когда из уст поэта лились только песни, псалмы и оды! «В наши дни поэты превратились просто в ремесленников, они пишут в газеты фельетоны, миниатюрные пародии, небольшие „столбцы“ с целью развлечь публику оперативным комментарием событий, шутливыми репликами, карикатурами и анекдотами. И, конечно, не за горами то время, гласит далее филиппика, когда на поэтов прикрикнут: да будьте же, черт побери, поэтами и не подчиняйте свое искусство капризам дня. Занятие журналистикой не остается безнаказанным. Не успеете и оглянуться – как в ней погрязнет вся наша литература, которую вы, разумеется, не хотите увидеть низведенной до уровня журналистики!» Так черным по белому и написано.
В связи с этим можно было бы выступить с пламенной защитой поэтов, ссылаясь на Аристофана или Данте, доказывать, что у поэтов есть выстраданное ими право на актуальность и что с незапамятных времен они подчиняют свое искусство капризам дня, если под этим подразумевать их неутомимый интерес ко всему происходящему вокруг. Однако не проще ли спросить у этой все возрастающей категории людей, что лучше для поэтов: развлекать публику оперативными откликами на события дня, карикатурами и анекдотами или заниматься делопроизводством в областном управлении или дирекции почт, – этим они обычно и пробавляются у нас, чтобы как-то прокормиться. Но чем пускаться в подобные словопрения, я лучше займусь рассмотрением деятельности, которую приведенная выше филиппика столь хлестко называет подчинением капризам дня. Если в Градце Кралове смотреть с Белой башни на человека, который внизу на площади замахивается на кого-нибудь мечом или, скажем, вонзает в мостовую заступ, то, верно, эта воинственность или усердие показались бы смешным капризом, но когда сам попробуешь размахивать мечом или орудовать лопатой, то поймешь – это тебе не шутки, тут необходимы сила и сноровка. Неясно, почему, несмотря на многочисленные примеры иного рода, устойчиво держится представление, будто поэт – это человек, «задумчиво смотрящий вдаль». Я знаком со многими поэтами различных национальностей и знаю, что большинство из них гораздо живее интересуются политикой, текущими событиями и прочими разновидностями капризов времени, чем, скажем, инженеры, химики или представители других профессий. Прежде всего, вероятно, потому, что у них есть на это больше времени, а во-вторых, потому, что они питают к окружающему особый интерес. Дж.-Б. Шоу отличается гораздо более ненасытным интересом к современности, чем, например, сам господин Враны[317]317
Враны Иозеф (1874–1937) – реакционный чешский политический деятель, главный редактор газеты аграрной партии «Венков» («Деревня»).
[Закрыть] или господин Скыпала[318]318
Скыпала Отакар (1877–1943) – главный редактор газеты «Ческе слово», органа мелкобуржуазной национально-социалистической партии.
[Закрыть]; и если бы Отакар Бржезина[319]319
Отакар Бржезина (1868–1929) – видный чешский поэт-символист, творчество которого Чапек высоко ценил.
[Закрыть] надумал писать передовицы, они были бы много актуальнее, чем ежедневные проповеди всех правительственных и оппозиционных газет, вместе взятых. Как правило, поэты отличаются не тем, что они мечтательнее или тупее простых смертных, а наоборот, тем, что они живее и всестороннее обычных людей. Именно живее, это точное слово. Они столь неукротимо живые, что интересуются многими человеческими и космическими делами, печься о которых, как говорится, не их забота. Их взгляды могут быть сумасбродными, но они отличаются живостью; поэты не громыхают пустопорожними фразами, что порой мы наблюдаем у тех, кто по случайности не стал поэтом. Их преимущество заключается в том, что в общем-то ни в одной области они не являются специалистами. Потому они и наивнее, но и универсальнее простых смертных. Если они умеют, как упрекает их унылый критик, развлекать публику, то только потому, что умеют развлечь самих себя, и совершенно искренне интересуются тем, что видят, о чем говорят или пишут.
Да, «занятие журналистикой не остается безнаказанным», но уж коль судьба заставит поэта ею заниматься, то он начинает интересоваться более широким кругом явлений, чем если бы, сидя у себя дома, слагал стихи о греческих гетерах или сочинял трагедии о царице Семирамиде. И это, надо думать, идет ему на пользу.
Вообще вопрос так не стоит, должны или не должны поэты заниматься журналистикой и служить капризам дня. Хуже, когда капризам дня служат в газетах люди, которым больше подобало бы занимать соответствующие места в похоронном бюро или податном ведомстве, в задачу которых никак не входит развлекать публику. Потому что развлекать публику, утешать и волновать человека – это тот важнейший долг, который возложен исключительно на плечи поэтов. Оставьте им, Христа ради, хотя бы эту задачу.
1927
Матч «Фильм» – «Драма»[320]320
Впервые опубликовано в журнале «Студио» в 1929 году, № 3.
[Закрыть]
© Перевод О. Малевича
Скажем напрямик, в этом состязании силы неравны. Фильм хотя и не атакует Драму, но отнимает у нее публику. Драма, правда, протестует, но никак не может обнаружить уязвимое место противника. Пока нельзя ожидать, что драматурги и критики, вместо того чтобы недовольно покачивать головой по поводу упадка массового вкуса, набросятся на кинематографистов и под воинственные песнопения сожгут их на кострах; точно так же маловероятно, что они ринутся овладевать киноремеслом и сами начнут снимать фильмы. Впрочем, недавно мы читали, что Дж.-Б. Шоу согласился собственной персоной предстать перед кинокамерой и во время съемки даже помахал рукой маленькой девочке. Не исключено, что нам еще покажут, как он скачет на неоседланном коне по аризонским прериям или выносит из горящего фермерского дома мисс Глорию Свенсон[321]321
Глория Свенсон (род. в 1899 г.) – американская киноактриса, популярная в эпоху немого кино.
[Закрыть]. Но и это скорее будет успехом кино, чем драматургии. Пробьет час, – надеемся, это произойдет раньше, чем актеры разыграют последнюю театральную пьесу перед последним дремлющим зрителем, – и Драме придется задуматься, чем она располагает в этом неравном поединке, чего Фильм не сможет у нее отнять. Как мне кажется, Драма обладает двумя преимуществами. И было бы разумно, если бы театр постарался наилучшим образом воспользоваться этими двумя видами своего оружия. На первом месте тут стоит Слово; оно послужило не только началом Драмы, но и началом мира. Несмотря на все опыты со Звуковым Фильмом, настоящее звучащее слово навсегда останется достоянием театра, с одной стороны, в силу определенных технических причин, с другой – в силу того, что стоит только слову обрести на экране равноправное положение со зрительным образом, как Фильм попросту перестанет быть Фильмом и превратится в Драму. А это, разумеется, следовало бы считать победой Драмы. Опасаюсь, что подобного окончательного и легкого триумфа Драмы нам не дождаться. Театр, – можно сказать, подлинный храм звучащего слова. Пожалуй, даже в большей степени, чем парламент. Задача авторов и актеров – осознать эту метафизическую и абсолютную привилегию театра, но не злоупотреблять ею. Газеты избавляют людей от необходимости спрашивать друг друга при встрече: «что новенького?», радио отнимает у них удобный повод высказывать после ужина свой взгляд на всяческие жизненные проблемы, кино дает им возможность развлекаться молча. В океане современной цивилизации театр – последний островок, где каким-то чудом уцелело в первозданной чистоте и наивности стародавнее изобретение – звучащее слово, сохранился древний и прекрасный человеческий обычай – объясняться с помощью речи, размахивая при этом руками, пользуясь исключительно словом, а не машинами и не знаками. С этой точки зрения у театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое. Театр незаменим. Это священная резервация звучащего слова.
Другое преимущество театра – актер. Не потому, что он играет лучше киноактера, но потому, что он живой и стоит перед нами во плоти. В эру современной цивилизации театр перестает быть пристанищем иллюзии и становится пристанищем действительности. В повседневной жизни мы лишены возможности в течение двух-трех часов сосредоточенно наблюдать за живыми людьми, видеть, как они ходят, садятся, разговаривают на интересующие их темы. Если мы готовы пожертвовать часок-другой на созерцание такого удивительного существа, как человек, нам приходится отправляться в театр. В повседневной обстановке мы видим лишь мелькающих мимо нас людей или изучаем спины, склонившиеся над пишущей машинкой, но обычно не знаем, как люди объясняются в любви, кончают с собой, как они ведут себя в сокровенные или трагические минуты жизни. Актер на экране – тень, актер на сцене – реальность. Чем больше будет привлекать нас к себе действительность, тем охотнее мы будем возвращаться к театру. И опять-таки дело авторов и актеров – утолить наш голод. Великая актерская задача – показать нам живых людей, представляющих редкое и, можно сказать, необыкновенное зрелище. До тех пор, пока существуют на свете актеры, не умрет и театр. Пока не перестанут рождаться удивительные люди, испытывающие страстную потребность криком и жестами изображать живого человека, до тех пор мы можем не задавать вопроса, будет ли театр вытеснен еще каким-нибудь нашим увлечением или выстоит.
Кроме того, в распоряжении Драмы есть одна дополнительная возможность: высмотреть у Фильма тайну его успеха. Некогда эта тайна была известна ряду драматургов. И в забвении она порой оказывается не потому, что слишком тонка и неуловима, а скорее потому, что слишком незамысловата. Сводится она к доброму намерению развлечь и заинтересовать зрителя, обращаясь непосредственно к его сердцу.
1929
Алоис Ирасек
Старинные чешские сказания[322]322
Предисловие к английскому изданию книги Алоиса Ирасека «Старинные чешские сказания» (Лондон, 1931), книга эта представляет собой литературную обработку народных легенд. Перевод выполнен по копии рукописи чешского текста.
[Закрыть]
© Перевод И. Инова
Если б я был в праве давать советы английскому читателю, я порекомендовал бы ему для вящего удовольствия и нравственной пользы читать «Старинные чешские сказания» так, как читали их я и мои сверстники, – опоясавшись деревянным мечом и оседлав ветку дуба, – идеальнейший способ чтения героических и национальных преданий. Мне было тогда восемь или девять лет. Несмотря на столь юный возраст, я был чешским правителем, владельцем замка, рыцарем, воином, чешским королем, волшебником, палачом при дворе короля Вацлава, заодно выполняя множество других функций. До сих пор я не могу до конца примириться с мыслью, что «Старинные чешские сказания» сочинил престарелый господин Ирасек. Мне все кажется, что описанные им события действительно происходили, и даже при моем личном участии. Думаю, что у каждого народа есть книжки, которые каким-то образом перестали быть литературой и сделались просто– напросто частицей жизни, как детская игра, школа, край, в котором мы выросли. Есть книги, ставшие классическими благодаря особому, я бы сказал, демократическому вотуму: благодаря тому, что их читал или читает каждый Их ценность столь же неоспорима, как ценность национальных обычаев.
Все народные предания, по сути, не поддаются «пересадке», поскольку срослись с характером и историей родного края. Но наши предания, предания Алоиса Ирасека, обладают, помимо этой локальной и исторической ценности еще одной, совершенно исключительной. В эпоху чужеземного австрийского владычества они давали детям своего рода политическое воспитание. В период германизации служили детской азбукой национального сознания. Мальчишкой каждый или почти каждый из нас обнажал свой деревянный меч против врагов родины. Затем наступила пора, когда меч этот уже не был деревянным, и тогда к «Старинным чешским сказаниям» была дописана глава, в которой господин Ирасек уже не принимал непосредственного участия как автор, но его влияние явственно сказалось и здесь. Ощущение этих особенностей «Старинных чешских сказаний» не может с нами полностью разделить ни один зарубежный читатель или читатель, живущий в иных условиях; так бывает, когда приходящий в наш дом гость не знает подлинной ценности для семьи стоящей в углу кушетки или висящей на стене картины. Ну что ж – лишь бы минуты, проведенные в нашей сокровенной среде, были для вас приятными.
Как это вышло[323]323
Текст выступления по радио (8 мая 1932 г.). Впервые опубликовано в журнале «Люмир» 16 июня того же года.
[Закрыть]
© Перевод В. Мартемьяновой
Когда мне предложили рассказать о своей литературной работе, я прежде всего задал себе вопрос: а как, собственно, вышло, что я стал писателем? Мой отец[324]324
Мой отец – Антонин Чапек (1855–1929).
[Закрыть], врач, с детства приучал меня к мысли, что мне тоже придется быть врачом, да и сам я, отказавшись от иных планов (например, служить кондуктором), тоже предполагал, что займусь медициной. Я не хотел бы на кого бы то ни было сваливать ответственность за то, что жизнь моя пошла по-другому, но, право, более всех в этом повинны мой дом и моя семья.
Во-первых, рядом был отец, провинциальный доктор, а кроме него, целое поколение будителей – пример, достойный подражания в былые времена, а теперь весьма несовременный и неуместный.
Отец – страстный книголюб, с ранних лет снабжал нас детскими книжками, что нисколько не мешало нам тайком перечитать всю его библиотеку – от Гавличка и Неруды до судебной медицины.
Кроме того, наш старик увлекался политикой, выступал на митингах, читал лекции для рабочих, возглавлял местный любительский театр, писал стихи, – я и сейчас живо представляю, как он вечерами в тихой, благоухающей карболкой приемной слагает велеречивые послания и потом взволнованно читает их семье. Отец был большой, сильный, и мы, ребята, с восторгом подражали ему. Уже с восьми лет – или около того – мы сами кропали вирши по случаю разнообразных семейных торжеств. Отец очень этому радовался и поощрял нас. Тогда же – это было время Этнографической выставки – наша мама[325]325
…наша мама… – Божена Чапкова (1860–1924); часть сделанных ею фольклорных записей была опубликована в журнале «Чески лид» («Чешский народ») в 1896 г.
[Закрыть] взялась записывать народные песни, сказки и предания; из уголка земли, именуемого Бабушкиной долиной[326]326
Бабушкина долина – красивая местность в северной Чехии, где крупнейшая чешская писательница XIX в. Божена Немцова (1820–1862) «поселила» героиню своей повести «Бабушка» (1855) и где проходило детство самой писательницы.
[Закрыть], к нам приходили старики и старухи, они пили и рассказывали, усердствуя над кружкой кофе; папа тогда собирал народные вышивки, сундуки, керамику: он брал их вместо гонорара, – кое-что из его коллекции и по сей день хранится в Этнографическом музее; наверное, там же можно было бы отыскать и мамины записи народных песен и сказок.
Еще у нас была бабушка – мельничиха из Гронова, набожная, мудрая и очень веселая, словно жаворонок; в запасе у нее было много песенок, прибауток, пословиц, поговорок и народного юмора; она являла собой живое воплощение духа и речи нашего края. Чем больше я пишу и тружусь во славу чешского языка, тем отчетливее сознаю, сколь многому я от нее научился и учусь по сей день.
Мать моя представляла романтический элемент в нашей семье; восторженная, эмоциональная, одаренная – и совершенно неделовая; в молодости она увлекалась романсами и хорошо писала; очевидно, склонность к романтике и к фантазиям я унаследовал от нее. Без них все написанное мной выглядело бы совершенно иначе.
Отец мой олицетворял собой не только гуманизм будителей, – это был типичный представитель так называемого века науки; естествоиспытатель и материалист, он вечно бился над разрешением загадок природы; его интересовали доисторические времена и история, философия и естествознание, характер эволюции, тайны неизведанных земель; библиотека его представляла собой дилетантское собрание всевозможных наук, – он во всем разбирался понемногу. Отец садовничал и плотничал, разводил пчел и скрещивал розы, писал картины и заботился об общественном благе. Это был разносторонний и простой человек, совершенно непредубежденный, любознательный, с открытой ко всему на свете душой, он никогда не копался в своем «я» – жил своим делом и, надо сказать, был прекрасным доктором. И я понимаю, что в моих писаниях и в том, как я это делаю, очень много от моего отца.
Помимо этого, в детские годы немало для меня значил восторженный музыкальный мир моей сестры[327]327
…моей сестры – Гелены Чапковой (1866–1961), писательницы, автора книги воспоминаний «Мои дорогие братья» (1962); в юности она выступала на благотворительных концертах как пианистка.
[Закрыть] и необычная зоркость брата-художника.
Ну и, конечно, окружение, характер которого был определен профессией отца; мир страданий, посещение бедняцких домишек и сумеречных покоев миллионеров; быт мелких торговцев и ремесленников, богаделен и фабрик, рабочих, спиритов и ветхозаветных крестьян; сельских немцев и радикально настроенного фабричного люда. Резкие контрасты – социальные и национальные – как на ладони. По-моему, из всего этого я кое-что извлек.
Я знаю, что это – лишь крупица того, что я уже взял и еще надеюсь взять у жизни, но, мне думается, это надежный фундамент, и ничем иным я не могу объяснить того факта, что кое-что уже создано мною.
Когда я смотрю на вещи под таким углом зрения, мне кажется, что я не изменил призванию, обнаруженному у меня семьей, что я по-своему, как могу, врачую, помогаю людям исцелиться от болезней. Я не хирург, скорее терапевт – какими бывают провинциальные доктора; одному пропишешь капли, другому компресс – обычные в повседневной практике, и мне очень хотелось бы тоже быть доктором, хорошим, добрым, приносящим облегчение людям.
1932
Как я против собственной воли стал театральным деятелем[328]328
Впервые опубликовано в сборнике «Четверть столетия Городского театра на Краловских Виноградах» (Прага, 1932).
[Закрыть]
© Перевод В. Каменской
Ничего не попишешь, когда-нибудь я должен публично покаяться: к театру и театральной деятельности меня подтолкнули, как слепого котенка к блюдцу с молоком. В пору своей молодости я никогда и не помышлял о театре; никогда не мечтал попасть на сцену, не торчал у служебного входа, не принадлежал к сектантам с галерки, признающим на свете только одного актера. Не думал я и о лаврах драматурга. Однажды я попробовал написать рассказ в драматической форме, да и то по вине покойного старины Франтишека Кхола[329]329
Франтишек Кхол (1877–1930) – чешский писатель, друг К. Чапека.
[Закрыть], который вытянул его из меня и рекомендовал к постановке. Этот рассказ называется «Разбойник». В результате такого недосмотра я и оказался драматургом, что не осталось без последствий: например, Ярослав Квапил[330]330
Ярослав Квапил (1868–1950) – чешский поэт, драматург и режиссер; в 1921–1928 гг. – художественный руководитель пражского Городского театра на Виноградах.
[Закрыть] уговорил меня пойти заведующим репертуарной частью в Виноградский театр. В подобного рода делах я был полнейшим профаном, а потому воспринял все как забавное приключение, это и побудило меня все-таки попытать счастья. Так я попал в театр через черный ход, пробираясь между кулисами и пратикаблями, люками и подъемниками. Это был для меня совершенно новый и чужой мир.
Первой репертуарной миссией, которая выпала на мою долю, была задача выбрать что-нибудь из Зейера к какому-то юбилею. Я прочел Зейера-драматурга от корки до корки с отчетливым ощущением, что все это ставить нельзя. Например, «Старая история»[331]331
«Старая история» (1882) Зейера была поставлена Чапеком в 1921 г.
[Закрыть]. Действие происходит одновременно в двух комнатах или, допустим, перед домом и в доме сразу. Как это автор представляет себе? До сих пор не знаю, как это представлял себе Зейер, но когда я захлопнул книжку, мне пришло в голову, что можно было бы выйти из положения, если бы дом открывался и закрывался, словно книжка. Я обыгрывал эту идею так и сяк, пока не получилось нечто пригодное для сцены. Только, разумеется, навязать свой замысел какому-либо режиссеру я не мог. Не оставалось ничего иного, как поставить «Старую историю» самому.
Никогда до того я не собирался заниматься режиссурой и не имел представления, как это делается; и только в процессе работы с ужасом убеждался, что, помимо всего прочего, нужно распределить роли, что актеры требуют указаний, откуда им выходить на сцену – справа или слева, что существуют такие загадочные и всемогущие личности, как сценариус, реквизитор, портной, парикмахер, мебельщик, обойщик, осветитель и машинист сцены, которым необходимо отдавать какие-то распоряжения и с которыми следует консультироваться по техническим вопросам; что я обязан решить, на каком колоснике должен висеть горизонт, нужно ли включать наверху четвертый софит, можно ли обойтись прожектором или светом рампы, выдать ли пану Штепанеку[332]332
Штепанек Зденек (1896–1968) – чешский драматург режиссер и выдающийся актер, друг К. Чапека и исполнитель ведущих ролей в его пьесах (титульная роль в «Разбойнике», Маршал в «Белой болезни»).
[Закрыть] парик из «Зимней сказки» или из «Яна Выравы»[333]333
«Ян Вырава» (1886) – пьеса чешского драматурга Франтишека Адольфа Шуберта (1849–1915).
[Закрыть], заказывать ли новый микрофон; и что вот эта подпорка стоит на дороге, а то кресло здесь ни к селу ни к городу, и выслушивать: пан режиссер, пускай мне дадут другую бороду, пан режиссер, я простужен, пан режиссер, вас к телефону, пан режиссер, вам надо просмотреть афишу. Это было такое ужасающее открытие, словно мне предложили ни с того ни с сего руководить постройкой шлюза, который завтра же нужно сдавать в эксплуатацию, или без подготовки прочесть по-шведски лекцию о рациональных методах производства толуола. Чем все это кончилось – разговор иной; однако режиссером я стал. Правда, не без некоторой доли собственной вины, но главным образом по чистому недоразумению и вследствие абсолютного незнания того, какая сложная и трудная механика эта режиссура.
Однажды я даже был актером, но это случилось уже вовсе против моей воли. Перед одним из актов «Хлеба» Геона[334]334
Геон Анри (1875–1944) – французский поэт и драматург; премьера его пьесы «Хлеб» (1911) в постановке К. Чапека состоялась на сцене Виноградского театра 6 мая 1922 г.
[Закрыть] я разводил статистов, да так рьяно, что не заметил, как занавес начал подыматься. Вдруг снизу повеяло холодом и шумом зрительного зала. Удирать за кулисы было уже поздно. Я остался на сцене, изображал человека в толпе, был явно не на месте среди взбунтовавшегося народа и изо всех сил старался выглядеть «как живой». Не могу судить, увенчались ли мои старания успехом, но, кажется, я хоть ничего не испортил.
Как видите, ничуть того не добиваясь, я сделался драматургом, заведующим репертуарной частью, режиссером и даже актером. Вам, мои читатели, гораздо легче: от вас театр хочет только одного – чтобы вы были зрителями. Цените это: лучше всего театральное представление выглядит со стороны, из зрительного зала.
1932








