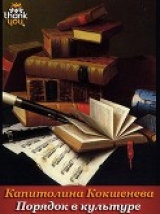
Текст книги "Порядок в культуре (СИ)"
Автор книги: Капитолина Кокшенева
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
«Доходное место» А.Н. Островского. Вологодская версия
Вологодскому государственному драматическому театру 160 лет. При таком солидном возрасте, что странно, он не обладает ни званием академического, ни носит чье-либо имя. Откуда такая «скромность» – Бог весть, но, кажется, за ней стоит какое-то небрежение к самим себе: ведь в советские годы, да и в первые несоветские получить имя было можно, учитывая устойчивое убеждение, что в любом областном городе самый главный театр – это театр драматический. И эта иерархическая установка в сущности своей правильна. Драматический театр – это, непременно, визитная карточка города. Это театр, представляющий по всей России, прежде всего классический русский репертуар (а усомниться в том, что сегодня это важнейшая задача, не позволяет «правда жизни» – классику современная молодежь готова скорее смотреть на сцене и в кино, чем читать.). И теперь, когда в порыве свободы, театральные деятели плюнули на звания для своих театров, или, как О.Табаков искоренили в названии слово «академический» (хотя почему, например, он лично не отказался от своих званий, в том числе и народного артиста – непонятно!) – теперь стать «академическим» не менее сложно, чем найти желающих стать главными режиссерами или худруками в провинции. Проще стало жить иначе: приехал, поставил и …уехал.
Но Вологде повезло. Зураб Нанобашвили начал работать в театре в 2001 году, и слово «работать» тут, пожалуй, приходится к месту: нужно было выстраивать репертуарную политику, работать с актерами и администрацией театра, преодолевая естественное (и неестественное) сопротивление, непонимание, недоверие. Я считаю, что создал он интересный репертуар, с главным центром – классикой: «Бальзаминов. Бальзаминов», «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н.Островского, «Тартюф» Мольера, «Макбет» и «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Дом Бернарды Альбы» Лорки, «Братья Карамазова» Достоевского. И мне как-то очень жаль, что например, Достоевский (и не только) снят с репертуара в связи с отбытием (бегством?) главного артиста из Вологодской драмы. «Братья Карамазовы» были спектаклем концептуальным, в графике и стилистике его мизансцен, в его черно-белой цветовой палитре чувствовалось что-то очень грузинское (что любили мы и в советском грузинском кино), но в то же время это был, безусловно, Достоевский-христианин.
О грузинском в Нанобашвили придется говорить. И я лично не вижу тут никакого неудобства. «Мне нравится, – сказал как-то мне талантливый и отчаянный молодой русский писатель, – мне нравится, когда в русском культурном строительстве участвуют люди других национальностей». И я с ним согласна, но с одной «оговорочкой». Да, такая позиция говорит не о нашей с вами щедрости (не будем уж так собой гордиться!), но о способности русской культуры втягивать в себя других, своей силой и мощью не бояться ни с кем поделиться. А «оговорочка» собственна одна – любит ли Зураб Нанобашвили русскую культуру? Ответ ясен и определенен – любит. Он ей воспитан, он в русском театре и стал режиссером. Для него наши классики – это в точь такие же собеседники, как и для нас с вами. Всё. Вопрос исчерпан. У нас только одна главная мера, а другие только подчиняются ей – это мера любви. (И уже абсолютно не важны ни его личная горячность, ни бешеный темперамент, которые русскому человеку гораздо понятнее и ближе, чем холодная расчетливость). Так что давайте поговорим о том, какого Островского он снова поставил в своей (и нашей) вологодской Драме. А это уже третье обращение к великому драматургу – всегда актуальному и бесконечно сценичному.
Пожалуй, главную идею драматурга о ДОХОДНОМ МЕСТЕ как чиновничьем кормлении и жертвовании человеческим ради этого кормления постановщик спектакля Зураб Нанобашвили и сценограф Елена Сенатова расширили и вглубь истории, – к временам гоголевского рождения чиновничьей темы в русской литературе, и приблизили к нам – в день сегодняшний (с его фантастическим ростом бюрократии). Потому и видим мы компактную, но весьма многозначительную сценическую конструкцию – огромный «стул-трон» символизирует не просто жизненную или государственную иерархию, но и олицетворяет собой «иерархию» успеха, дохода, сытой жизни. Внутри самого этого «стула»-дома, «стула»-присутственного места размещаются иные стулья, стульчики и просто бедные «стоячие места» тех, кто в самом низу, у подножия бюрократической машины клюет как курочка, «по зернышку». Да, Островский говорит в этой пьесе о служивом народе, и о чиновной России. Потому и похож молодой чиновник Белогубов (арт. Николай Акулов) на остепенившегося и взявшегося за ум Хлестакова. Потому и нет прежней купеческой роскоши, тяжеловесного быта, да и акценты в жизнях человеческих расставлены совсем другие. Островский получился социальным – и сегодня это высшая точка, пик театрального свободомыслия. Ведь политического театра у нас больше нет.
Но все же Зураб Нанобашвили социальность своего спектакля «окутывает», уравновешивает проблемами психологическими: да, реальная жизнь такова, что хранителем всей главной ее нынешней «экзистенции» оказывается старый генерал Вышневский (арт. Владимир Таныгин). Это он со всей страстью успешного и пожившего человека набрасывается на племянника Жадова, требуя забыть об идеалах и книжках, в которых соблазняют молодежь высокими материями о достоинстве личности и честной бедности. И он оказывается прав, потому как племянник, сдавленный тисками необходимости кормить жену (а режиссер усугубляет ситуацию, показывая, что Полина беременна), в результате вынужден отбросить гордость правдолюбца и хулителя взяточников, да отправиться все к тому же дядюшке просить теплого, сытого, хлебного места чиновника. Несомненно, современность, что располагается прямо на нынешней улице, заставила режиссера расставить новые акценты в великом Островском. Когда-то эту пьесу играли так, что публика симпатизировала именно Жадову с его молодым и искренним бунтом, с его обличением общественных пороков. А сегодня, пожалуй, нет – сегодня впору задать ему вопрос: «И зачем же ты женился, бунтарь? И зачем наивную жену свою вовлек в недоступное ее пониманию некое противостояние обществу?» Дмитрий Бычков в роли Жадова в первой части спектакля сохраняет некую старомодность актерской игры, представляя своего героя порывистым романтиком. Но во втором действии дыхание времени становится ощутимее, рисунок рельефнее: это уже реально измученный жизнью человек, добывающий в трудах копейку и совсем не знающий никакой радости от этого каторжного труда. Да, он пойдет на поклон к дядюшке Вышневскому, но поздно… У него он тоже найдет разорение и разлад – дядюшка уличен во взяточничестве. И бежит Жадов оттуда ни с чем со своей молодой женой. И завершится спектакль на ноте вполне необыденной. Герои смотрят на звезды, взобравшись вверх по лестнице…. Режиссер будто враз вырывает их из оков тяжкой, суровой реальности и развертывает перед ними и нами полотно неба – другой реальности с ее вечной привлекательной и торжественной силой, о которой человек так часто забывает, но без которой, по большому счету, вся наша жизнь просто прах…
В общем, концепция спектакля такова, что созвучие времени в «Доходном месте» сегодня значит одно: Жадов, когда-то считавшийся единственной «прогрессивной личностью», больше не главный герой этой пьесы. На боевые (авангардные) позиции выдвинулись крупный чиновник, генерал Вышневский и вдова, мамаша двух девушек на выданье Фелисата Кукушкина (яркая, напористая и гротескная работа Нины Скрябковой). Все сцены с Фелисатой даны режиссером на высоком градусе актерских эмоций и смысловой сатиричности: тут все дело в изначальной «двойной морали», «тройной бухгалтерии» как самых надежных принципах жизни этой цепкой женщины. Скорее даже она, чем дядюшка Вышневский, способна дать конкретный отпор жадовскому идеализму. Именно Кукшкина будет вполне цинично учить Юлиньку и Полину «правильному обращению с мужьями», а с другой стороны рекомендовать их так: «Денег нет, но за нравственность мужья будут благодарны». Да, да ту самую, нравственность, о которой вполне усвоившая науку мамаши младшая Юлинька скажет вполне определенно – «у нас дома все обман», но ничуть не огорчается юная барышня этим обманом, а ловко выскакивает замуж за молодого «чиновника без комплексов» Белогубова (у Николая Акулова есть несколько отличных характерных жестов, которые живописуют мизерный масштаб услужливого, какого-то даже сального в общении героя). Роль Юленьки в исполнении Екатерины Петровой режиссером застроена изначально так фактурно, выпукло и гротескно, что актриса легко доносит до нас всю свою «философию» простенького мещанского семейного счастья. И она, действительно, счастлива. Муж-то оказался ей «по размеру»: все в дом тащит и на дамские прихотливые желания смотрит с чиновной услужливостью, будто и не жена перед ним, а какой-нибудь генерал из присутствия…
Тут у каждого героя есть своя правда, свой грешок и своя радость. Старый чиновник Юсов (засл. арт. Олег Емельянов) особенно хорош в паре с мадам Кукушкиной: его милая домашнесть и всепонимание – просто отменная оппозиция вдове, вечно играющей роль «нравственной мамаши» благочестивых барышень. Но есть у каждого – своя «ахиллесова пята», своя обнаженная больная точка. Богатство, практицизм, ловкость в делах генерала Вышневского (точная работа Владимира Таныгина) совершенно не приносят ему ни счастья, ни любви (холодная красавица-жена Анна Павловна – арт. Оксана Киселева – мужа своего откровенно не любит как купившего ее молодость). Мечтательная чистота и простодушная искренность Жадова, столь ценимые милой, но совершенно обычной Полиной (тонкая, эмоционально-выверенная работа Натальи Абашидзе), постепенно истончаются в жизни. Унизительная бедность разъедает все лучшее, да и что за преступление – желание хорошенькой женщины носить шляпку? Все сцены с подаренной сестрой шляпкой, которую Полина и носить-то не умеет – выполнены в острой отчаянно-театральной манере. Тут уже почти краски Салтыкова-Щедрина идут в ход.
Спектакль Вологодской драмы снова говорит с нами о том, что мы вновь и со страшной силой поддались соблазну деньгами. Островский актуален и этим. Деньги в результате определяют многое, слишком многое в человеке. И, между прочим, зал как-то единодушно вздыхал и соглашался, когда слышал со сцены слова, что муж обязан содержать жену, и что за бедность семьи отвечает глава семьи – сам муж. Все-таки наше общество в чем-то еще согласуется с Домостроем (попробовали бы это сказать какому-нибудь европейцу!)
Но все же постановщик спектакля вслед за русским драматургом выстраивает «тему денег» так, что возникает к концу спектакля сомнение в их всемогуществе: нравственная жертва Жадова (ради денег) оказалась напрасной. Дядюшка, увлекшийся мздоимством, «хватил через край» и упал с высоты чиновной пирамиды вниз (что демонстрируется ловко скользящим лифтом, встроенном в «стул-трон», и лифт этот – социальный, изредка и далеко не всех возносящий к высотам сытости и власти). Да, сегодня прежнее понимание пьесы как столкновения двух миров – мира идеалиста, неблагонадежного вольнодумца Жадова и матерого «государственника» и солидного чиновника Вышневского (а чиновный аппарат, как известно, – скелет государства) – было бы не совсем уместно (где эти вольнодумные и романтические типы?). А потому чиновники в спектакле достаточно смешны и совсем не отвратительны. Юсов так вообще по-своему обаятелен, умерен и аккуратен с его философией «и волки сыты, и овцы целы» (а для чиновника – это вообще основа идеального жизненного устройства).
Главный смысловой нерв спектакля – это не конфликт некоего честного человека Жадова (желающего жить «своим трудом») с негодяями, которые лихо берут взятки (или мечтают их брать, возносимые социальным лифтом все выше и выше), но перед нами скорее противостояние типа максималиста и «современных реалистов». Обе «стороны», в конце концов, понимают, что невозможно жить по одной, раз навсегда установленной правде. Правде человеческой, а значит всегда ограниченной социальным, психологическим, общественным. А потому и Жадова жаль, что не выстоял в своей «голой правде»; но и Вышневского жаль, потому как рухнуло у него все, и завершилось апоплексическим «ударом», и никакие деньги больше ему не подмога. В общем, все социальные порывы и темы заключены создателями спектакля в непременный каркас человеческой психологии (а некоторая нарочитость, «кукольность», механицизм мелодии, отделяющей сцены друг от друга, словно требуют от нас отстранения, ироничного понимания, что все земные страсти, доходные места, деньги не имеют никакой цены перед лицом вечности).
Программка нового спектакля Вологодского драматического театра выполнена в виде 5000-рублевой купюры. На этом денежном знаке написано: «А. Н. Островский. «Доходное место»». Так постановщик спектакля Зураб Нанобашвили сказал нам, что актуальность спектакля манифестируется им сознательно. И часы без стрелок, висящие на казенном «стуле-троне» только еще раз подчеркивают: Островский – вне времени. Островский – вечен…
Последний срокСпектакль Иркутского академического драматического театра им Н.П.Охлопкова «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина
«Когда искусство является отделённым от морали, когда оно оказывается деятелем социального разложения, а не социальной гармонии, то это служит признаком того, что оно внесено извне, как это было в Риме времен Сципиона», – так говорит иноземец Габриэль Тард, совсем не искусствовед, но социолог. Правду его слов мы испытали на себе. К нам «извне» было внесено тысячи тонн образчиков кислотной культуры, мы превратили свое культурное пространство в место для стока и отбросов, вместе со всем миром удешевляя собственные культурные ценности. Вот и вынуждены говорить теперь о национальной безопасности как реакции на опасность современной культуры для человека.
Вряд ли можно сказать, что этот спектакль возник «в лучший час» истории русской культуры. Вряд ли можно сказать, что сегодня легко быть понятыми и поддержанными в своих самых лучших намерениях, в своих самых тончайших чувствах. Культурная интервенция последних двух десятилетий все еще продолжается: без всякого сожаления выбросив на свалку истории все глобальные идеологии XX века, мы по-прежнему находимся в плену у «новой» идеологии – одурения, вожделения и гламура. Но все же есть еще художники, которые способны не пить эту чашу «сладостного пития» и не погружаться в его ложный позитив.
Спектакль Иркутского академического драматического театра им Н.П.Охлопкова «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина как-то резко и смело вырвался за пределы модного культурного пространства. К «обществу потребления» и «бездумному поколению» с их вечными культами навсегда-молодого и навсегда-богатого он повернулся спиной, выбрав в союзники трагическую и чистую повесть Валентина Распутина (постановщик спектакля – Г. Шапошников, режиссер – А.Ищенко).
И …произошло что-то странное, удивительное: возникло пронзительное доверие и совершенно естественная понятливость в публике того, что сложно, что выламывается за пределы современной психологии – такой сберегающе-эгоистичной. Мы видим за неделю полторы тысячи убийств на ТВ-экране, но мы боимся и «толерантно» сторонимся серьезного разговора о смерти человека. А здесь, на этом иркутском спектакле, такой разговор-диалог оказались возможны. Спектакль сплотил вокруг себя в единодушии самых разных людей – разных возрастов и политических убеждений, разных культурных и социальных приоритетов. Будто все мы вместе с героями спектакля собрались у постели умирающей «старинной старухи» Анны и буквально каждого из нас аккуратно, но точно касается ее слабая рука. А мы вслушиваемся в этот голос старухи, переживая с интимной погруженностью все происходящее на сцене: и непонимание старшей городской дочерью Люсей (прекрасная работа Ольги Шмидгаль) того страшного и торжественного, что накапливается в матери на пороге смерти; и шумную, простоватую любовь Варвары (засл. арт. России Татьяна Двинская), и некоторую опасливую, боязливую дистанцию от матери ее сыновей (Ильи – засл. арт России Владимир Орехов и Михаила – Степана Догадина).
Силой писательского слова, силой актерского своего дарования нар. арт. России Наталья Королева, проживающая роль старухи Анны, заставила всех нас на протяжении всего спектакля быть в состоянии предельно-личного контакта со сценой. Правда ее сценического существования так убедительна, что легко, без тени недоверия, входит в наш живой человеческий состав, заставляя вспоминать собственных матерей и себя, всегда неуспевающих дать им чуть больше тепла, чуть больше внимания. А им и надо-то всегда вот это – чуть-чуть…
Искусство самого Валентина Распутина потребовало совершенно нового характера спектакля и сценического существования артистов: в сущности, оно требовало высокого психологического реализма, чем так прославился русский театр на весь мир, и что так забыто на родине этого театра. Та острота отождествления с героями, которая строго живет в каждом актере спектакле, вызвала, в свою очередь, и совершенно особую энергию зрительского вживания в спектакль. Здесь, на иркутском спектакле, мы видели «свое», мы волновались «своим», мы с благодарным удивлением смотрели и узнавали будто вновь свой родной театр. Театр, в котором все начинается с обыденного, продолжается и проверяется простотой и правдой, и, наконец, уводит к глубинам того большего, что постигается интуицией, чувством, верой.
Наталья Королева сыграла старуху Анну по-распутински – с любовью, с достоинством, с терпеливым превозмоганием своей доли, с невозможностью и желать какой-то иной жизни – жизни вне ежедневного труда, вне частого рождения детей, бесконечных домашних забот о детях и муже, с которым и не было слишком уж большого лада. Да и война прошлась по ней крепко – троих сыновей Родине отдала. А вот теперь и помирать пришла пора – но этот ее «последний срок» читается как-то обширно. Тут и все более пустеющая деревенская жизнь, где из окон глядит все чаще горе и все реже – радость – последний срок и самой деревне. Тут и все более пустеющий собственный дом, где выросли ее дети, да разлетелись по разным городам. Дом, где ждала она их всегда.
Но вот теперь они, ее дети, приехали, к умирающей матери, вызванные телеграммой младшего сына Михаила. Приехали и … не поняли ничего. Не поняли, почему это мать вдруг «ожила» (а она-то, уже нездешняя, последние силы собрала для главной материнской радости – слышать и видеть своих детей всех вместе в родном гнезде). Так предсмертные дни матери станут для них, ее детей, своеобразным испытанием, которое, увы, они не выдержат, потому как чужды друг другу, потому как не любят говорить и думать о смерти, потому как все время спешат и каждый на свой лад, но оказывается человеком разрушенным. А мать их умирающая, напротив, до этой самой последней черты, смогла сохранить непорушенным и чистым свой внутренний мир. Сохранить святое место, «красный угол» веры в душе своей. Она не творила зла пред лицом Господа. Она не дала всему трудному и земному посрамить то столпничество духа, которое жило в ней, в ее такой простейшей и, казалось бы, скудной судьбе. И вот, когда плоть истончилась совсем, ее живая душа и плоть воздвигла для последнего любования своими детьми – главными плодами земной жизни матери. Но дети снова ничего не поняли, заводя такие неуместные и крикливые разговоры о чистых простынях и плохом уходе, о грубости Михаила, который, единственный, остался в деревне при матери, и еще – о ее, матери, ненужном уже ей выздоровлении. Поговорили, выполнили свой формальный долг, и бодро уехали обратно. И в ту же ночь старуха Анна умерла – ей больше незачем было жить.
Не знаю, но, кажется, такие вот простые жизни у нас все еще можно встретить. И мы, такие многознающие и многовидящие, будто и завидуем им – той цельности, той высоте и смыслу, что есть в них.
Вот не было у Анны ни «духа противоречия» в жизни, ни бурных чувств, не было прав и свобод, как у детей ее, как у нас. А потому не поняла бы она никогда и «права» на «свободное вероисповедание» (по сути, предполагающее возможность и Бога менять по прихоти или по идее); как никогда не воспользовалась она возможностью переменить судьбу. У нее-то всю жизнь были все больше обязанности, природные женские вечные обязанности. Она продлила род. Она продлила народ. Именно такие судьбы русских женщин (Мирониха – засл. арт. России Людимила Слабунова – ее сердечная и старая подружка из той же породы. Встречи двух старух сыграны актрисами с особой тонкостью давно понимающих и навсегда верных друг другу людей) поражают простотой невероятной и значительной. Они лучше помогают понять нам и самих себя в своем национальном существе. И уже тогда, в семидесятые годы прошлого века, Валентин Распутин услышал это тревожное расхождение внутри семьи и дома, эту несовместимость друг с другом, надрыв и разлад. И бесконечно жаль, что в детях больше нет общих представлений о жизни, нет теплого родства, куда-то исчезает и дар отзывчивости. Пожалуй, только Михаил и его семья, живущие при матери, тоньше и совестливее переживают ее исход из земного бытия среди все тех же родных стен простой деревенской избы, с привычными запахами дома и двора, с чутко, на слух, улавливаемыми событиями улицы.
Сценография спектакля (худ. Юрий Суракевич) – емкая, точная, ясная, помогающая артистам и замыслам режиссуры: деревянная фактура создает ощущение прочности и долготы дней. Пластическое решение спектакля аскетично – все нацелено на объединение людей, собирание их в пространство дома и двора, что только горше подчеркивает их стремительное желание вырваться из ограды этого «тесного бытия».
В этом иркутском спектакле, безусловно, есть актерский ансамбль, что принципиально важно для ткани распутинского повествования. Наталья Королева вообще должна играть «бестелесную жизнь», полную внешнюю неподвижность, но при этом актриса находит средства преодолевать эту старушечью невыразительность тела – любой ее мелкий жест заметен, любой взгляд художнически оправдан. И физиология отступает, уходит на второй план ради проявления чувства и мысли. Вообще быт, бытовую игру с предметом (за исключением сцены встречи и сцены в бане, где мужики засели выпивать за неожиданное «выздоровление» матушки) значительно отсекли и в других актерских работах: остается только самое необходимое, «удесятеренная значительность» мизасцен, направленных на глубинное по сути расхождение с матерью. А потому искренний темперамент Степана Догадина или яркое переживание сиротства, оставленности матерью Татьяны Двинской, почти усталое и равнодушное понимание, что больше не войдешь в эту жизнь Владимира Орехова и чудная трогательная тональность детства в Маше Кузнецовой (играет внучку Анны), лирическая повторяемость в Таньчоре Татьяны Буловой, и покорная, счастливая готовность всех примирить в Анастасии Пушилиной (играет жену Михаила) – все эти актерские силы были стянуты в центр, расположены вокруг старухи Анны, чтобы жить, плакать, кричать, упрекать друг друга и своей громкостью будто отгонять от самих себя мысли о смерти и собственные страхи. И тем не менее, весь спектакль пронизан совсем иными, необыденными токами. Это уже не «просто жизнь», – она вся, насквозь, пронзена сотрясающими обыденность токами, вопрошаниями о смысле жизни.
Быть может это и странно, что Иркутский театр обратился к повести советского времени, что именно ее выбрал для выявления своих художнических и гражданских мыслей, что именно в ней нащупал тот пульс русской жизни, что позволял человеку жить нравственно крепко, не завистливо и осмысленно. Ни кровавый документализм сегодняшней культуры, ни ее гиблые пиры и «праздники бедствия», ни упоения и упивания никак не укрепляют человека, не дают ему смысла жизни. В спектакле совсем нет исторической ностальгии – но есть проницательность понимания, что хранящая силу и развивающаяся из себя самой жизнь питается чем-то существенно иным, чем «удовлетворение потребностей». Писатель Борис Агеев уже позже Валентина Распутина писал очерк о курской «старинной старухе». И удивительно это совпадение судеб в самом главном: «настоящие историки называют себя наблюдателями событий, а вот баба Дуня (и распутинская Анна – К.К.) могла считать себя действующим лицом: пускай незаметным, но – главным. Потому что история именно её брала на перелом и стойкость, каток событий всегда катился по ее судьбе и по её детям». Право на счастье, конечно же, государство гарантировать не может. Но вот жизнь осмысленную, чтобы реализовались «стратегические долгосрочные цели модернизации России» без изменения отношения к культуре и образу человека в ней невозможно по определению. Нет, не в прошлом осталась старуха Анна – это мы далеко ушли от самого ценного в самих себе.








