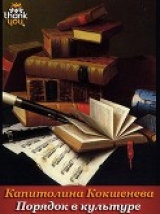
Текст книги "Порядок в культуре (СИ)"
Автор книги: Капитолина Кокшенева
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
…Особую часть творческого мира Ю.Воронова представляют его работы, связанные с иллюстрациями произведений литературы. Заканчивая обучение в институте, он создал серию линогравюр, посвященных поэту Николаю Рубцову (в 1981 году у поэта не было еще нынешней общенародной славы). Потом появились портреты-вкладки знаменитых мыслителей и деятелей культуры – А.Ф.Лосева (он позировал художнику), Д.С.Лихачева, В.П.Астафьева, В.И.Белова и др. – для популярного журнала «Студенческий меридиан». Кажется, что лучшие его портреты посвящены жене Нине и дочери. Хрупкие, нежные, бездонные в своей цельности – эти портреты говорят нам, что создающий их был на высоте своего творческого счастья…
А вернувшись в Вологду после учебы и работы в Москве, Юрий иллюстрирует книги вологодских писателей и поэтов, слава которых была отнюдь не провинциальной – Н. Рубцова, А.Яшина, создает графические циклы «На родине писателя Василия Белова», «В гостях у поэта Александра Романова», создает серию иллюстраций (в технике граттографии) к новому изданию стихотворений Анны Ахматовой. И вот уже совсем недавно им был написан коллективный портрет «Вологодские художники» – работа, наполненная какой-то живой и трепетной памятью дружества, общей судьбы, одинаковой доли.
Созерцание христианского мира для художника естественно, если можно так сказать, почти простонародно (что не отменяет глубины художественного напряжения). «Благовещение» (1994 г.) написано так, что весь мир – это храм, где сама Земля и всё, столь торжественно и страшно происходящее на ней, сокровенно прикрыто сводами неба как великолепной божественной фреской. «Ангел» и «Композиция с Владимирской Богоматерью» предстают перед нами одновременно в вечной мудрости и покое высшего, христианского, и в мятущейся стихии земной истории, где все взвихрено, живет в сомнении и томлении, в иступленном размышлении и энергии хаоса. Оппозиция земли и неба для художника вечна, но и пребывает в глубокой мистической взаимосвязи.
Картины Юрия Воронова звучат гимном жизни-любви. Звучит пронзительно его белое-белое снежное пространство. Высокой и звонко-торжественной музыкой Севера.
Мы видим «затишье души» в его портретной живописи.
Мы слышим, как скрипят шаги на морозе в картинах, где старая зимняя Вологда уютно закутана в домашнее тепло. Пространство и перспектива удивительно осязаемы в работах художника: даже воздух у него дышит – туманами, наплывами нездешнего мира на здешний, густыми, текучими эфирными завесами, а по водной глади (которую художник рисует всю жизнь) легко ступает Ангел в неуемном потоке света, который, кажется, может прожечь насквозь саму картину. И всё это утонченное, умное, бодрое соединяет свои силы в одну картину жизни, чтобы дать её образ – сложный, богатый, но не столько чувственный, сколько сдержанно-достойный. Образ жизни, знающей силу не только любви пьянящей и услаждающей, щедрой и лиричной, но и любви строгой, строящей, обязывающей.
Светопись Валерия Харитонова2012
Современное актуальное искусство: христианский аспект
Первой главой душевной книги художника Валерия Харитонова, безусловно, можно назвать бережно хранимые в домашней галерее живописные работы мамы – Лины Васильевны Порхуновой. Учившаяся, как многие дети культурных русских семей, в художественной школе, она долгие годы жила «поперёк» своего дара, работая чертежницей. И только в тихую пору завершений, в годы «вечерней зрелости» преодолела обстоятельства судьбы, отдавшись своему дарованию.
В циклах работ «Цветы моей родины», «Земля первозданная» уже есть многое из того, что звонким ручейком перельётся в творчество сына. Она говорила кистью о праприроде – той, что ещё не знала человеческих «улучшений» и эксплуатации, что не была обласкана эстетизированным взглядом гуманистов, модернистов и прочих носителей быстроменяющихся натур-концепций. Здесь, в картинах мамы, рождались горы и грозно ревели потоки, палило солнце и все существовало в избыточной красоте. В них не было ничего «человеческого, слишком человеческого», ибо энергия рождения мира – в Божественном пламени. Вся внутренняя красочность мира явлена в её работах мощно и активно: мир ещё не знал обыденности. Эта благородная, полная своеобразной стильной и высокой красоты живопись будет отточена до артистизма, будет сосредоточенно сжата в творчестве сына – Валерия Харитонова. Вся роскошь непосредственных юношеских впечатлений, которую художник, несомненно, получил через живопись матери, не смогла быть не облечена в «златую игру» созвучий красок и оттенков.
Впрочем, борьба судьбы и сердца не минула Валерия Харитонова, ибо жизнь так развернула «колесо фортуны», что он достаточно длительное время должен был мыслить и чувствовать вполне конкретно, став театральным художником-сценографом. В Малом театре он дебютировал «Разбойниками» Шиллера (1969), потом последовала сценография к спектаклю «Каменный хозяин» Л.Украинки, были оформлены так и не увидевшие премьеры «Царь Федор Иоаннович» А.К.Толстого и «Тихий Дон» Шолохова. И снова классика – «Три сестры», «Обыкновенная история» в знаменитом в ту пору Паневежском театре (1985).
Сцена не терпит не умеющих владеть её пространством, а потому сценические решения Валерия Харитонова были всегда космично-объёмны, архитектурны. Он научился сопрягать человеческое, воплощенное в образах героев пьес, и внечеловеческое – всё внешнее по отношению к человеку. Сценографические решения Валерия Харитонова всегда вмещали в себя нечто большее, чем «место действия» той или иной пьесы, словно художник всякий раз утверждал торжественность мысли о радостном приобщении «всякого дыхания» к замыслу о Вселенной. Впрочем, пространство сцены и пространство холста уже тогда для него существовали в сложной интуитивной взаимосвязи.
А потому столь естественным и даже обязательным для художника видится его обращение к «Божественной комедии» Данте в живописной трилогии «Ад», «Чистилище» и «Рай» (12 картин). Конечно тогда, в середине 70-х годов XX века, начав работу, он и не рассчитывал на публичный показ своей живописи (он уже слышал от соответствующих «экспертов» возгласы: «да зачем это всё и кому это надо – какой-то ад… рай?!?»). Но, очевидно, было и другое: для него заниматься творчеством означало одно – усложнять картину мира.
Пламенный Данте перегорел в огне ума Валерия Харитонова, с пытливым вниманием прочитавшим источник. Прочитавшим, и сделавшим иные акценты – свои, идущие из интуиции русской традиции, но и сохранившем при этом столь разумно необходимый пиетет к великому гуманисту. В том-то и дело, что художник отказался прежде всего от гуманизма (вернее от его утрированного, возрожденческого присутствия, тогда как гуманизм как любовь к человеческому он, естественно, не собирался преодолевать). Его «Триптих» демонстрирует решительную переплавку титанического гуманистического чувства жизни в горниле мысли. Художник жестко и неумолимо рассказывает динамичными, экспрессивными фигурами-образами о соучастниках земного пира («Ад», «Чистилище») и о том мире, где зажжен Светильник Истины («Рай»). Страдальческие тени, истязаемая плоть, затаённое мучительное несчастье, горестные позы холодного отчаяния наполняют цикл картин «Ада». Тут – предатели и мятежники, к которым художник совсем не проявляет жёсткого эстетического сладострастия, не оправдывает, но и не судит, ибо Свет Правды – погребальный для грешника, разрушителя и растлителя… Ожидание, надежда, мольба, спасительный холод и отрадное бесстрастие пронизывают работы художника, составляющие группу «Чистилище». Через смену ритма движения фигур, медленное, от картине к картине, сжигание страстей, изменение символики цвета (от чёрно-серого к золотисто белому, небесно-голубому) приведёт нас художник к «прекрасным соразмерностям» – великому гимну Свету, Любви, Покою (цикл «Рай»).
И всё же выставка живописного цикла «Божественная комедия» состоялась – в Москве, в выставочном центре «На Беговой» (1987 год). А через полгода Валерия Харитонова «случайно» пригласили в Италию. Успех на родине великого итальянца был ничуть не меньший, чем у себя, в меняющейся на глазах Москве. Художник тоже менялся, рос, но только не в ногу со временем.
Все последующие живописные работы Валерия Харитонова словно укоренены в найденном, вернее обретённом, мироощущении картин «Божественной комедии» – в цикле работ «Рая». Он уже и не мог интересоваться собственно только человеком плотским – художник говорит о мире теократическом, в котором присутствует целительная ясная сила. Не случайно Валерий предпочитает не индивидуализацию и своеобразие лиц, но отречённость и аскетизм ликов, когда сквозь плотское, разрывая его как пелену, предъявляет себя жизнь человеческого духа. Все плотское уменьшено и сжато. Копоть, грязь и пыль житейской обыденности не имеет своего голоса – только сакральный и символический язык, переданный в красках, только отточенный духовный опыт, воспитанное сдержанное чувство и нравственное сознание наделяются правами подлинности и настоящести. «Летопись», «Путь», «Обитель», «Святитель», «Река времени», «Свете тихий», «Иконостас» – эти и многие другие работы художника проникнуты силой мистического наития, ощущением единства Большого времени, понимаемого как Вечность Божия.
Уже в ту пору – пору работы над триптихом по мотивам Данте – художник понял самое главное. И это главное вообще-то исподволь определило его уникальное место в современной религиозной (христианской) живописи. Его путь художника – идти за Словом, за Предвечным библейским Словом. Именно Слово для художника Валерия Харитонова стало тем проводником, что определило и его живописный стиль, и звучание его красок. Краски становились умными, они напитывались словом, преобразовывались в силу живописную, победительную, но и силу, опирающуюся на достоинство и полноту смысла. Слово и пластика, пронизывая друг друга, рождали удивительную светопись художника: а он, действительно, писал светом, который, преломляясь сквозь призму человеческого глаза, становился многоцветьем радуги. Художник и в самом себе удерживал тот самый Свет Евангельский, которым более двух тысяч лет тому назад было просвещено человечество: «Библейское дерево», «Предстояние», «Невидимое вечно», «На плотяных скрижалях сердца», «Последние и первые»…
Он с какой-то добротной бережливостью прочерчивал невидимые нити смысла между словом и пластикой, словом и цветовой палитрой, и делал это в ту пору, когда модным презрением к слову делали себя заметными (и запятнанными) не только художники, но и писатели, для которых, казалось бы, слово и есть альфа и омега творчества.
Да, Италия прочно вошла в его жизнь. Выставки стали регулярны (на родине, впрочем, тоже, – у Валерия Харитонова прошло много персональных выставок в лучших столичных залах). Но любовь к Италии в судьбе русского художника не превратилась в «итальянщину» – обе стороны смогли удержаться в границах продуктивного творческого диалога. Например, Харитонов пишет цикл «Рим. Век первый». Ему был важен Рим первых христианских общин, Рим как сердце огромной империи, откуда началось мощное движение по распространению христианства. Он научился чувствовать и смог нам передать, как в эту имперскую римскую мощь вошла ещё большая сила и пронзила её острым лучом веры – идеей Спасения. Ему был важен и Рим, который боролся против засевания своего поля этими первыми духовными семенами…
Не мог художник пройти и мимо античности, – и это тоже русская традиция не с «баррикадной близости» смотреть на Древнюю Элладу, а напротив, удалившись на такое расстояние, чтобы глаз впитывал всю природную и человеческую роскошь, чтобы видеть панораму фундамента европейской культуры. Цветовая палитра таких живописных полотен как «Ахилл в битве с амазонками», «Одиссей», «Афродита в Троянской войне», «Эллада. Пир» – цветовая палитра здесь торжествующая и пылающая: все зрело (золото, глубокий коричневый цвет) и всё ещё в поре цветения (глубокий зеленый, пурпурно-красный цвета). Все живет, дышит в своих совершенных пропорциях, чтобы навсегда стать образцом, перелиться в словесный миф. И нет тут (в симпатии к античности) никакого искривления судьбы художника. Вспомним лучшего знатока античности С.Аверинцева, который говорил: «Античная пластика? Пластика – совсем не универсальный ключ к пониманию античностью, скорее уж ключ – это слово. Средневековье из античной культуры усваивало именно словесность. Это теперь античность – зримая и молчащая, потому что туристов стало больше, а знающих язык – меньше».
Я вижу некоторую внутреннюю перекличку античного цикла в творчестве Валерия Харитонова с его более поздними работами «по мотивам» Ветхого Завета. Причём сам художник признавался, что эти последние его картины писались им легко, органично, потому как и нам понятен этот замес страстей, которым предавался библейский народ. А если точнее, то именно два пророка (Исайя и Иеремия) особенно часто читаемы художником. Прочитал он у пророка Иеремии об «огне, заключенном в костях» и эти слова взбудоражили творческое воображение, потребовали «перевода» в живопись, где концентрация страсти, «огонь» есть горение в поиске Бога. Так родился графический цикл, – очень экспрессивный, но скупой в оттенках, строгий, «черно-белый».
Конечно же, пришествие Спасителя – это настолько сокровенное, ликующее и страшное событие, что никакая живопись, – считает художник, – не возьмет это событие кистью. И безумец тот, кто претендует на «художественное» повторение этой великой Мистерии бытия. Но идти по пути личностного осмысления христианства (его восточной и западной традиций), естественно, никто художнику не воспретит. Быть «религиозным» сегодня даже модно. Но Валерий Харитонов всегда держал честную дистанцию и от соблазна писать «современные иконы», и от следования интеллектуальному религиозному мейнстриму. Стоя перед белым холстом, Валерий Георгиевич не раз размышлял о том, что переплавлялось и в живописные полотна, и вылилось в слова, записанные им на бумаге: «Идеал Святой Руси, как чистый снег, некогда покрывавший наши поля, таял, утекал ручейками в долины, поближе к монастырским кельям, перепахивался с землей, изрезывался санными колеями, истаптывался, закидывался комьями грязи, сгребался в отвалы; дети лепили из него крепости, но и они разливались половодьем, мешаясь со сточными водами, или – чудом сохранив свою свежесть, собирался он где-то в глухих и таежных местах, чтобы остаться в преданиях, со временем все настойчивее принимаемых за фольклорные сказания. Что же надо современному омирщенному сознанию, чтобы вернуть этот идеал, и не потребуется ли для этого в помощь весь мистический опыт русского исихазма?». А что же может художник? Он может выбрать: «Выбор художника между хаосом и гармонией есть выбор по существу библейский и лишь затем – стиля письма и школы, позволяющих возвести зрителя к состоянию сверхъестественного бытия». Весь евангельский живописный цикл художника и обращён к этому вневременному спасительному Источнику. И снова Слово здесь тот «ключ», те врата, которые отворяет нам художник в мир своей живописи: «Люди Твои», «Глаголы вечной жизни», «Не я ли, Господи?», триптих «Я с вами во все дни до скончания века», «Языки, как бы огненные» и др.
А лично для него икона Спаса из звенигородского чина Андрея Рублева является непревзойденной вершиной – образом образов, образцом образцов и очень личностным, интимным источником вдохновения…
При всём принципиальном отказе от злободневности и описаний «жизни в формах самой жизни», Валерий Харитонов – художник современный. Накоплению миром зла и чёрной скорби, он противуполагает знание о чистом и невозмущенном источнике: «золото неводе» Спасителя.
Дарование художника – глубоко русское – проявило себя и в безраздельно-твердой верности «узости и тесноте» раз и навсегда выбранного пути (у художника не было и не могло быть ни «советского», ни «антисоветского» периодов творчества). Пути, на котором свершилось главное и лучшее – произошло слияние творческого кредо с жизненной, земной судьбой художника, от чего так избыточна и щедра умная и радостная сила его живописи.
О власти, партии, культуре2010
Политтехнолог и галерист Марат Гельман, начавший набег на культурное пространство русской провинции с Перми, делает то же, что обычно делают «новые» варвары и «старые» провокаторы. Под видом «нового культурного сознания», новых технологий активно дискредитируется все то, без чего культура невозможна: опрокидываются и высмеиваются любые нравственные нормы (фонтанирование внеморальной энергии!), издевательским хохотом сопровождается разрушение мысли, чувства, слова, образа. Больше ничто не подвластно суду этики. Все должно низко пасть, стать растленным, гадким, отвратительным, грязным, вонючим, вульгарным, склизким, босым и нагим. А сам адресат и потребитель такого помоечного «искусства» от Гельмана, – можно утверждать вполне уверенно, – для организатора проектов не больше, чем «машина желаний». Нашпигованные матом да порнушкой «культурные объекты» явно предназначены для людей низшего сорта, – как удовольствия рабов и лохов!
Гельмановский новый партийный проект, о котором речь впереди, видимо, будет предписывать теперь уже всем мыслить только так: поперек закона об оскорблении общественной нравственности, поперек любых культурных норм, которые существуют в русской культуре. Не нужно больше никакого творческого труда, художественного таланта, профессионального образования. Художнику предлагается стать дезертиром – не нужно ничего индивидуально-неповторимого, а «дикарский калейдоскоп» вполне заменяет вдохновение: «высокое» унизить и казнить, мелочному, ничтожному и «низкому» придать якобы вселенский размах; все перепутать и поменять местами, подменить, обокрасть, оборвать, обкарнать, и утешиться «эффектом неожиданности» – интоксикацией культурного сознания. Своей мертвечиной и нигилятиной, шизоанализом и «отстоем» горе-художники грязнят воображение публики, вбрасывают в общественное пространство скрытый яд, населяют жестокими и сладострастными, а еще в большей степени катастрофически бездарными, «картинами» и пр…
Да, уголовный закон далеко не всегда способен уловить это самое сладострастное растление, этот дух болезни, примитивизма и вырождения (особенно сейчас, когда любую экспертизу можно купить). Нет, это не более высокая ступень художественного развития, но напротив, недоразвитость откровенная, пропагандирующая какой-то безумный безудерж. Причем этот безудерж (прожигание жизни) возводится в якобы главное право человека.
Бешенство и сладострастие, судорожное выжимание из современного мира изувеченных линий, грязных красок, скомканных лиц, выкрученных наизнанку вещей – все это инструменты бесчинства, активно используемые художниками-слугами М.Гельмана.
Бездарности как правило сопутствует трусость. Остановить наглое расползание гельмановщины по России – дело чести всех тех, кто хочет избежать этой заразы, этой грязи, этого «поцелуя Иуды».
Еще недавно так горячо клеймилась всяческая партийность в искусстве, а сегодня прежние оппозиционеры ретиво и откровенно проталкивают новое партийное искусство через резервы и ресурсы «Единой России». Президиум генерального совета «Единой России» поручил галеристу и политтехнологу Марату Гельману курировать им же придуманный партийный проект под названием «Культурный альянс. Региональный аспект». Естественно, что тут возникают несколько вопросов: почему именно Марат Гельман (культуртехнолог) становится новым идеологом от культуры ЕР (как горько теперь шутят журналисты – вторым министром культуры)? Как сочетается идейный курс партии на консерватизм (провозглашенный буквально накануне) с идеями и эстетикой радикальных культноваторов? Что прибавляет гельмановский проект (а он теперь очень хорошо известен по Перми) к имиджу «Единой России»? И наконец, каков смысловой и содержательный аспект «современного искусства» в презентации Гельмана?
Новое местничество
Вскоре после обнародования «Культурного альянса» на президиуме ЕР он же презентовался на заседании Общественной палаты, где, по словам очевидца Бориса Куприянова, «высказывания Гельмана и других достойных, но зависимых людей сводились к следующему: как бы сделать так, чтобы денег давали побольше, ведь если не дадут побольше, то их надо будет как-то перераспределять». В том, что «перераспределять» деньги Гельман сможет – нет никакого сомнения. Любопытна тут скорее установка, высказанная молодой партийной деятельницей М.Сергеевой и поддержанная партийцем-единороссом Алексеем Чадаевым. «Культурная политика может быть только партийной», – заявила М.Сергеева, а А.Чадаев поддержал ее в том, что деятели культуры просто обязаны придумать эту новую «партийную культурную политику». Борис Куприянов пришел к выводу, что «в России есть культурная политика. И эта политика вполне соответствует пожеланиям Маши Сергеевой: она партийная. Делается она членами правящей партии и представителями правящего класса. Их имена известны: это Лужков, Кобзон, Бондарчук, Минаев, Борис Моисеев, Якименко и многие другие». Теперь список можно пополнить еще и Гельманом.
Так чем же гельмановский «Культурный альянс» (так и хочется написать «мезальянс») осчастливит русскую провинцию?
Между прочим, заметим, что ни Дагестан, ни Якутия, ни иные национальные территории (в планах есть только Татарстан) Гельмана не увлекают. Не увлекают, очевидно, по простой причине: продвигаемое им «бедное искусство» там не потерпят.
На официальном сайте «Единой России» М.Гельман уверенно заявляет: «Если мы не создадим нормальную культурную жизнь вне столицы, то мы потеряем страну. В этом случае проблема культурной политики станет уже непосредственно политической проблемой». Гельман пугает, а нам не страшно. Откуда такая уверенность, что провинция не имеет собственной культурной жизни и не способна обеспечить ее «за счет своих ресурсов»? Творчество Алексея Иванова (Пермь) напитано такой силы «региональным» своеобразием (при высоком присутствии идеи государственного строительства), что как-то изначально нагло и одновременно зловеще-жалко смотрелся гельмановский план по «улучшению» пермской культуры. Конфликт большого, талантливого писателя А.Иванова и культурменеджера Гельмана был просто неизбежен, как неизбежна была борьба с Гельманом всех художников и писателей, мыслящих и живущих не на поверхности модных траекторий «новаторского искусства». Интересно, этот опыт раскола местной интеллигенции был учтен партийцами-единороссами, давшими «отмашку» гельмановскому пробегу (набегу) по (на) России(ю)? Я могу с уверенностью сказать, что пермская история повторится в Краснодаре и Нижнем, Вологде и Иркутске – всюду есть тот самый «региональный компонент», носители которого не захотят себя разрушать. «Единая Россия» руками новых проектировщиков явно углубляет уже и «без культурки от Гельмана» достаточно глубоко вырытую яму. Впрочем, всюду есть или наивные графоманы-реформаторы, или местные закомплексованные «либералы», готовые поддерживать и аплодировать любой дребедени и дряни с московским или иным «высокорейтинговым» лейблом.
Почему, собственно, единственный выход (из якобы культурной межеумочности провинции) Гельман видит в создании специфического «гельмановского пояса», представляющего «альянс городов», где будет проводиться «децентрализация культурной жизни»? «Этот проект – сетевой, – сообщает Гельман. – В том смысле, что в альянс будут включены города с большой численностью населения. Но они уже должны будут создавать вокруг себя свою сеть. Мы планируем через два года иметь где-то 25–30 городов… Мы делаем поворот и говорим, что культура обеспечивает базовую потребность человека, одну из важных составляющих качества жизни. Поэтому она является не «социалкой», она является частью развития. Наша политика будет направлена не на деятелей культуры, а на все население, а деятели культуры должны стать инструментами реализации программы». В прессе высказывались предположения, что на партийном уровне проект, вероятно, будет курировать секретарь президиума генсовета «Единой России» Вячеслав Володин (предполагается также, что финансировать дирекцию проекта «Культурный альянс» будет ЕР, «на все, что она предложит регионам, местные бюджеты должны будут найти деньги самостоятельно» (sic! – К.К.); а член президиума генсовета «Единой России» Андрей Исаев, рассказывают журналисты, так воодушевился гельмановским прожектом, что предложил ему возглавить комитет по культуре в следующем составе Госдумы. Как, однако, демократично: пока еще никто не выбирал Думу следующего созыва, а для Гельмана там уже и место от пыли очистили!).
Увы, начинать стоило бы с культурного образования чиновников. Можно не сомневаться, что практически никто из них не видел арт-объекты, не читал критику на «новое искусство», продвигаемое М.Гельманом, а если и видел, то такому чиновнику заранее объяснили, чтонужно понимать «современное искусство». А вот спроси их, что они «поняли» и что нужно «понимать», – вряд ли услышишь какой-либо вразумительный ответ. Культура чиновничества сегодня категорически низка – причем степень культурного падения часто обратно пропорциональна месту в «табели о рангах». С такими чиновниками очень выгодно заниматься «региональными проектами», на них, можно легко предположить, завораживающе действует одно имя политтехнолога и близкого администрации президента г-на Гельмана. В общем, вседолжны верить (и верят!), что Гельман – успешный арт-менеджер, а по его деятельности вообще можно судить о современной культуре нашей страны. Увы, приходится верить, если нет воли и достаточного культурного статуса, чтобы проверить.
Децентрализация культуры по Гельману – это искусственное формирование некоего «нового местничества», нового изоляционизма – следовательно, и идеология, его обслуживающая, неизбежно приведет к дальнейшему обособлению людей друг от друга. Местный культурный патриотизм необходим («немец к нам не придет – мы вятские»), и он есть всюду, причем в прекраснейших образцах! Но без личностной воли, связывающей художника с центром – духом, обеспечивающим единство русской культуры, – местный патриотизм превращается в бесплодный и опасный сепаратизм. У нас давно нет общего культурного пространства, общей истории, общей памяти. Мы давно уже не знаем, что происходит в естественно (и без Гельмана) сложившейся региональной культуре, чем живут там писатели и художники, и вообще творческие люди. Так что задача, на мой взгляд, прямо противоположна гельмановской децентрализации: это объединение и собирание русского культурного пространства.
Вот и опасаюсь, как бы этот культурный «пояс» из 25 регионов не стал удавкой для региональной культуры. И тут опыт Перми трагически бесценен.
Жива ли Пермь?
Осенью 2008 года сенатор Сергей Гордеев и Марат Гельман устроили в здании заброшенного пермского Речного вокзала выставку «Русское бедное» (теперь уже и альбом вышел под тем же названием). Кто-то счел успешным это начало, и уже через несколько месяцев в городе открылся Музей современного искусства PERMM. (Ну как же без европейничанья и латиницы, а если учесть любимые гельмановские рассусоливания об индустрии культуры, то было бы славно принять и закон, требующий оплаты за названия фирм и проч., использующих в названии латиницу… Отчего же тут не включить рыночный-то механизм, глядишь, и «русское» не было бы таким «бедным»!) Ну, как говорится, лиха беда начало – дальше все развивалось с большим ускорением: посыпались новые выставки, проводились всяческие фестивали (фестивализация всей страны просто стала каким-то бедствием – вместо постоянной и регулярной культурной работы идет некий «выброс», фестивально-карнавальный фейерверк, демонстрирующий, что культурная жизнь-де у нас есть и бьет ключом).
Недолго думая, Пермь была провозглашена новой культурной столицей России. Правда, Россия об этом так и не узнала, а у глашатаев явно обнаружилось «наличие отсутствия» элементарной самоиронии… Да что и говорить, если образчиком выступал заштатный испанский городок Бильбао, который смогли раскрутить как туристический центр после того, как фонд Соломона Гуттенхайма выстроил там музей современного искусства. Заманчивый сей примерчик все же не сработал – не едут толпы туристов к Гельману, и все тут, хоть сто раз самозвано назовись культурной столицей.
Но вернемся в проекту «Русское бедное». Собственно, эта «бедность», так сказать, предъявляла себя во всей красе: материалы арт-объектов – это, в сущности, утильсырье: «…источник художественной предметности – мусорка: «иконосы» из железяк, пенопласта, гофрокартона у Валерия Кошлякова, мифические животные из корыт и инструментов у Ольги и Александра Флоренских, картинный металлолом Дмитрия Гутова, золотое кладбище из чайных пакетиков Александра Бродского» (выделено мной. – К.К.). Вся эта бедность хлама будет тут же «осмыслена» и «переведена» в идейно-стратегический план: якобы так ставится проблема экологии среды (и тут же, понятное дело, цитируется ак. Д.С. Лихачев с его высказываниями об экологии культуры). Фундамент, что называется, подведен. Идеологическая база, собственно, ничем новым не удивит: все то же пережевывание краха недавней истории, когда «в считанные годы целые поколения – смыслы, эстетика, люди, быт – оказались на свалке истории. Если соц-арт – реакция на перепроизводство идеологии, то «Русское бедное» – на исторически закономерное после ее отмены «перепроизводство» хлама» (Ольга Орлова. Бедность и красота. 8.10.2009). А такие арт-объекты, как, например, пятиконечная звезда из сигарет, так и вовсе напоминают почивший, казалось, соц-арт тридцатилетней давности.
Вообще, Марат Гельман мало озабочен последовательностью своих высказываний – это, надо полагать, и есть высший шик арт-технолога. Так, важным для него «открытием» именно в Перми стало следующее: «А на выставке «Русское бедное» люди шли и думали, что бы они могли сделать. В их устах «я тоже так могу» было не отрицанием искусства, но признанием того, что они сами могут его сделать… Все это выходит совсем по-бойсовски: в каждом человеке есть художник, важно его только разбудить. Губернатор, журналист или охранник, посмотрев экспозицию, срочно начинали креативить, придумывая новые объекты или вспоминая, что у них есть… Люди видят, как оно создается из совершенно бросовых материалов. Они очень быстро, практически сразу понимают, что это высокое искусство, видят, из чего это сделано» (за качество русского языка в приведенной цитате я не отвечаю. – К.К.).








