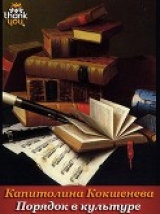
Текст книги "Порядок в культуре (СИ)"
Автор книги: Капитолина Кокшенева
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Герой Шаргунова тоже «бродил по галереям политических птиц. Наблюдал скоротечное развитие их недуга, всматривался в агонию, но при последних минутах издыхания спешно перемещался к следующим….Языки пламени щекотали изнутри». Глаголы-то все пассивные – наблюдал, всматривался, перемещался… А пламя – холодно-приятное. Он всегда был и, одновременно, не был с ними. О себе по отношению к ним – нацболам (НБП), либералам, «фашистам», «чеченским террористам», молодым коммунистам-активистам (АКМ), официальной «Нише» – о себе он «думал с некоторым бахвальством: каково это, быть активным, совершать хоть и гадкие, но нетривиальные поступки и при внешней затейливости хранить внутреннюю статичность, бесстыже-ровный покой?» (рассказ «Оттепель»). (Здесь, конечно, речь идет уже об «авторе»-герое, который «не равен» Сергею Шаргунову, к тому же этот Неверов окажется «завербованным» властью, что, впрочем, не делает его отвратительным).
Рассказы, собранные в книгу «Птичий грипп» – своеобразное «путешествие» по самым активным молодежным политическим субкультурным группам (перечислены выше). Плотность, фактурность материала жизни Сергею удалось представить смело и достаточно откровенно: от политического пустобрёхства до «гуляем по черному!». Как есть некоторая интеллектуальная отвага в том, чтобы не героизировать, в сущности, никого. Но поскольку я всегда принадлежала к тем критикам, которым интересно не просто «сопереживать» читаемому или что-то фиксировать, я вновь задаю вопросы: на чем держится вообще чтение книги Шаргунова? На том ли, что описываемое он знает – и он, в отличие от нас, свидетель? Мне всегда важно содержательное и смысловое воздействие на читателя.
Да, конечно, реальный опыт для писателя чрезвычайно важен. Но не менее существенно и то, что сам Сергей смог преобразовать и обдумать «внутри себя»? И тут мне не хватило масштаба: кто же они все, его герои, для писателя? Кем то или чем то соблазненные? Сергей как-то нарочито отказывается от объяснений – почему обесценено для этой молодежи массовое, пластмассовое, стерилизованное существование? Почему их жизнь, оставалась все равно такая же, в сущности, бедная и злая, если «партия давала им энергию, чтобы упорствовать и вырастать в кварталах бедноты»? Да и вообще, что может дать партия человеку – много ли? Можно ли этим ее «подаянием» жить»? Шаргунов знает ответ, но пока почему-то не проговаривает. Снова спешит?
«Состав идей» «Птичьего гриппа» собрать довольно несложно – их мало: «Нам нужно четкое позитивное сознание» (а где будет искать основания для этого сознания?). «Вы веру даете» (о НБП) (во что веру и кому эта вера и как помогла жить, если лидер умирает от Спида? И кажутся всего лишь лозунгами слова, что эта вера в некие силы России, способные сохраниться.). О НБП – «конечно, они жалели народ. Были народны. Но правильнее всего было назвать их анархистами, мечтавшими о тотальности государства» (Все неправда и ничего, кроме мыслительного парадокса я тут не нахожу). Нет, никакие идеи тут не работают. Странно, очень странно – не было еще у нас ни таких бунтарей, ни таких революционеров – совсем бедноидейных, им как раз этому самому народу совсем нечего сказать. Их абсолютная смысловая простейшесть даже и угнетает (и в бунтарском, и в официальном варианте, – стоит сравнить рассказы об НБП и «Счастливой партии». Хотя самый живописный эпизод книги – рассказ о «счастливости» как «веселой идее» «Счастливой партии», торгующей живыми органами своих членов). Важный итог шаргуновской книги, пожалуй, в другом – в какой-то опасной близости отвратительного и очаровательного – вина и яда. Одни – пафосно-глупо, но красиво получают свои тюремные сроки; другие – мстительно заражают главного политического игрока тусовки СПИДом – все рядом, все очень близко…
В ГЕРОЯХ «ПТИЧЬЕГО ГРИППА» НЕТ СОЗНАНИЯ. В НИХ ЕСТЬ ТОЛЬКО ЯРОСТЬ И ГНЕВ.
В них во всех пылают энергии преодоления – они не хотят «жалкого неба», они не хотят «рваться ввысь», но готовы «ринуться вниз», как это бывало не раз у обиженных русских детей революций. Они хотят вниз – туда, где земля и плоть. Они хотят здесь и сейчас яркой, полноценной жизни, припасенной скорее для них другими, чем созданной самими и за свой собственный счет, за свой собственный труд. При этом герои «Птичьего гриппа» обязательно страстно и глубоко переживают свою плотскость – переживают преувеличенно и громко, не таясь и напротив, чуть напоказ. И все потому, что наш автор точно знает о брате, лежащем безобразным во гробе. И это знание толкает к… мести – «мстил всему живому, плоти живой за тот кошмар, в который плоть превращается…» (выделено мной – К.К. из любовной сцены рассказа «Голубой попугай»). Если отнестись внимательно к этому состоянию героя, то заметно – и тут играют все те же витальные силы, тут снова каприз денди и нарочное нежелание учитывать «небо». И нарочное желание много любить – любить именно потому, что бренно и конечно.
Шаргунову удалось сказать и о другом. Он сказал, что смелость – это добродетель, и есть специфическое рыцарство в этих мальчиках и девочках, получающих сроки тюремные за свое бунтарство. Я бы их всех назвала поколением обманутых и обманувшихся – поколением, брошенным в ложный героизм и желающим ложной святости. Поколением, у которого отняли веру в идеальное и заставили «играть в революцию» и идти на войну.
Добродетелью утверждает Сергей и волю, хотя эта воля вольная, не ясная никаким иным культурам, на страницах его книги выступает силой, стремящейся к разрушительному пределу. Шаргунов умеет передать беспокойство такого молодого героя, которому недостает противника, а противник-враг категорически нужен в ситуации, когда, действительно, нет большого смысла в современной жизни (теперь вот мы все должны исключительно «жить в кризисе» и «преодолевать кризис» – задача, высокая не для всех, а особенно – в молодости). «За то, что Россию обидели» они не хотят простить всяческой власти, но вот сознания, что они сами и есть Россия – сознание это слабо развито. Их патриотизм часто только агрессивный. Впрочем, вера в то, что человека можно взять и изменить какими-нибудь политическими действиями – вера эта у Шаргунова совсем слабеет к завершению книги и выглядит уже как политическое наваждение. Сергей вообще избегает глубокой мотивированности того, что его герои делают: он пишет скорее публицистический «протокол» с сильными художественными деталями, чем мощный «революционный-антиреволюционный» художественный текст. А так хотелось бы, чтобы политический пафос сменился пафосом метафизическим: ведь ему давно ясно, что современные политтехнологии делают условностью любой протест и бунт против Системы, включая оппозицию в сама Систему? Современники-соотечественники-обыватели и не заметили как «гнев площадей кромсал города», не заметили, что «какой-то пожар гонит» шаргуновских геров, а реальных примеров этого бунта-кромсания в книге Сергея достаточно много.
Герои «Птичьего гриппа», увы, бедны сознанием себя. Правда кому-то из них за «политические игрушки» пришлось заплатить тюремными сроками, переломанными руками и ногами, сотрясением мозга. Так выжигали они собственную жизнь. Дорогая цена. Или попросту это и есть законная рыночная цена самомненья, что мир меняется пикетами и акциями? А вилка, вонзенная Неверовым-агентом в своего «работодателя с Лубянки» Ярика – это месть за собственный грех и предательство? Или плата за разрезанную надвое душу героя?
Самому Сергею Шаргунову (так вижу я) нравится именно стильная жизнь – он уже отвоевал свое культурное пространство. Книга «Птичий грипп» – это политические осколки, отлетающие от автора как прощальные и пережитые, но все еще закрывающие от нас пространство души Сергея. То пространство, где тоскуется, страдается и плачется, где энергия свободы и любви, безграничность веры и упорство воли требуют иного, не политического языка, но духовной одаренности.
Что-то меняется: денди явно устал от побед и поражений. Устал от того, что так много, щедро, мучительно и упрямо любил и ненавидел.
Футурофобия
Денис Коваленко в этом «ряду» фигура не совсем обязательная. Можно было бы говорить и о Д. Гуцко, В. Орловой, И. Мамаевой и др. Но так случилось – я прочитала три его повести, в которых он, в отличие от Прилепина и Шаргунова, бесконечно рефлективен и бесконечно недейственен. Это – другое лицо поколения, представленное в «Татуированных макаронах», «Гамовере» и «Хавчике фореве». Названия, как говорится, «носят» молодежный «прикид». Но при этом у Коваленко совсем нет именно молодого – как отчаянного, свежего, здорового – мироощущения, но много замученного, бессмысленного и какого-то лениво-беспощадного. Будто во всех своих вещах он пишет и говорит одно и то же: «Разве это жизнь? Что в ней выражать? Выражать нечего, выражать нечем, выражать не из чего и незачем». Мало того – нет желания и даже – обязательства что-либо выражать в литературе! Очень горькая эта позиция – будто тут он и нашел свою «продуктивность»: в нервических и необязательных, в немотивированных переходах от агрессии к радости, от апатии и уныния к искусственно взбадриваемому алкоголем веселью… и снова … к анемии.
Мне скорее грустно писать о такой литературе: это обедненная литература – как смоковница не приносящая плода ни путнику-читателю, ни самому автору. И каким-то укором миру присутствуют в нем его книги – укором молодости так и не развернувшей пока своих плечей в должную силу, так и не попробовавшей себя в большом мужском деле.
У Коваленко, в отличие от Шаргунова и Прилепина, нет никакой «легенды» и «биографии». Но, безусловно, он тоже дорожит собственным опытом и опыт этот, как ни странно, ближе к литераторам старших поколений: приезжали в Москву, учились в Литинституте, хлебнули такую дозу литературно-богемной жизни (сегодня, увы, почти бомжеватой), что многие навсегда, до старости, так и остались при ней – такой вот скудной жизни, «посвященной литературе»! Грустно и больно.
У Коваленко вообще еще меньше политичности и идеологичности, чем у всех других его сверстников (хотя он явно понимает себя учеником Достоевского, в котором, правда вычитывает в основном некий «больной психологизм», но борьба идей в его героях не кажется, очевидно, привлекательной). Кажется, что всякие простые человеческие задачи (труда, битвы за себя и близких, ответственности за других) утратили для него какое-либо оправдание и обязательность. А интерес к прежнему человеку – «человеку идейному» – выглядит для многих тридцатилетних почти как «утилитарное раболепие». Их «оргия безыдейности», напротив, удивляет нас.
Для Дениса Коваленко вообще характерно чувствование жизни как напрасно бодрствующей. Или еще можно так сказать: мир получил добрую дозу анестезии, но при этом старается еще как-то и зачем-то бодриться (я говорю не о внешнем действии, но и внутреннем смысле этого действования). Повести Дениса Коваленко «Гомовер» и «Хавчик фореве» (Хавчик навсегда – это жрачка навсегда, секс навсегда и … нерадость от них – тоже навсегда) – это унылая человеческая дорога: откуда и куда отправляются его герои? Что и зачем они совершают? Этого не знает почти никто из них. Случайно дружат и случайно предают друг друга, случайно убивают, а если и намеренно – то и тут нет никакой цели, кроме «такой игры». Так в повести «Гамовер» подростки играют в карты и ставкой делают жизнь одного из героев. Его замучили и довели до самоубийства просто так, – методично и расчетливо, из незлого любопытства. Такая у них ИГРА. В «Xавчике» тоже игра на человека, и результат ее – грубое и дикое убийство одного игрока, чтобы «спасти» проигранного. А вообще, когда читаешь повести Коваленко, больше всего ощущаешь какую-то существенную нехватку жизни в самой жизни. Ощущаешь недостаточность, несостоятельность, истощенность бытия. Но это уже не страшный (как у старшего поколения), а скучный ужас повседневности… «Уже не хочется переворачивать мир… и пить уже хочется не для того чтобы писать стихи, а потому что тошно. Тошно жить» (Герою – 22 года!). Скольжение в никуда – жизнь героев за чужой счет, увы, в буквальном смысле. Пошлые психологические стимулы и мелкие достижения (выиграть в казино, добыть деньги на алкогольный «искусственный рай», украсть деньги у друга, познакомиться с девицей, у которой много денег и прокутить их вместе и т. д. т и т. п.) слишком плотно наполняют прозу Коваленко. При этом Денис все хочет сохранить, подробно выписать скользкое и скучное в своих героях – он всем «дорожит», а потому так излишне-навязчиво все уточняет, уточняет и комментирует в своих героях. Он будто нарочно требует реабилитации психологичного и подробного, когда человек и вообще-то уже не живет с той психологической скоростью, с какой Коваленко описывает своих героев, а подробности, как известно, могут быть и не художественными. А значит – ненужными. Он никому из героев НЕ ИЩЕТ ОПРАВДАНИЯ, И НЕ ГОТОВИТ ОСУЖДЕНИЯ, а просто оставляет их на суд читателя такими, – не знающими, не помнящими, самих себя.
Конечно, тут тоже конфликт с миром. Тут тоже протест – но протест с каким-то тоскливым, обреченным вычитанием именно себя из этого мира, тварной плотью которого Денис не дорожит и не находит в ней творческой радости (в отличие от Прилепина и Шаргунова). В «Хавчике» читаем: «Нужен был праздник, причем – фореве. Хотелось безумства, дерзких, бездарных стихов, шума, много шума! Через силу я накачивал себя пивом. Нужна зарядка, нужно, чтобы на все было наплевать… Кончилось тем, что мне и вправду стало на все наплевать. После третьей бутылки сделалось муторно и тоскливо. Я проехал станцию «Тверская», не вышел и на «Театральной». А праздник? На их празднике жизни я чужой… Меня потянуло на вокзал. Вот место, где нет радости. Где люди чего-то ждут, где лица озадачены и тревожны или равнодушны, равнодушны в своем смирении ожидания. Суета, тревога, томление – вот куда сейчас меня потянуло: на вокзал. А в центре что? там люди отдыхают, там под их умиротворенными взглядами я буду как выродок, как презренный бомж. Нет, бомжу место на вокзале». В этой длинной цитате – концентрат нынешнего Коваленко, у которого, впрочем как и у других героев этой статьи, все та же задача – преодоления себя прежнего. В этом ожидании праздника, заключенного в сытых кафе и роскошных магазинах на Тверской, таится странная презрительная, но злая зависть героя к «их жизни». Тогда, действительно, сколько сил нужно Денису Коваленко, чтобы их празднику противопоставить не вокзал и жалкого бомжа, но верность человеческому достоинству, пусть и униженному нищетой и бедностью. Но ярче всего видишь, что герой «Хавчика» всем и всюду чужой – случайный москвич, живущий в чужой квартире, спящий в чужих постелях, гуляющий за чужой счет, попадающий все как-то наскоком, необязательно в чужие жизни. Он уже не знает, где «выход», а где «вход» в его собственную жизнь… Вот и остается – улица, вокзал, вино. Вокзал потому, что там никто никому не судья, что там все говорят и никто никого не обязан слышать, там могут случайно помочь и случайно прибить. Вокзал потому, что там такие, как ты и ты не боишься быть смешным и некрасивым. Там все преображается вином и там много его пьют, …чтобы было не тошно жить, …чтобы не слышать звук голого нерва.
Мир как приложение воли – вот стратегия Захара Прилепина.
Мир как потрясающее пространство, подлежащее должной и разумной организации – вот идея Сергея Шаргунова.
Мир как жесткое и необязательное столкновение разных человеческих намерений – это тональность повестей Коваленко, желающим «всё рассказать» о своих героях и не могущим ничего объяснить им о самих себе. Проза жизни, уставшей притворяться бодрой, будто платящей кому-то по невидимым счетам своей невыразительной психологической повторяемостью. Проза жизни, боящейся своего будущего…
* * *
А вообще-то ни у кого из них нет, мне кажется, грёзы о искусстве и о себе – они вполне прагматики. Навсегда, навсегда прошли те времена, когда художник мог не тяготиться «своей непреодолимой нищетой и оставаться слишком гордым для того, чтобы участвовать в фарсе отдавания и получения». Им-то как раз и приходится участвовать – и, естественно, они с непременным упорством должны будут переиначивать жанр – из «фарса» во что-то более респектабельное и по-человечески оправданное.
Проза Коваленко – творение грустного межсезонья, когда прошла роскошная осень и не легла еще зима, и солнца мало, и все растекается в неясных ощущениях, в тревожных ожиданиях. И будущее страшит. А настоящее все гонит-гонит-гонит. Он не хочет играть в чужую игру, но какая она своя? Ответ будем, очевидно, искать в следующей книге.
Проза Прилепина – это проза мужчины, способного действовать. Это порыв выразить активное в жизни (для него и счастливое) как можно больше. Он пишет для того, чтобы сияющее-сильное (любовное, мужское и женское, материнское, отцовское и детское) просто продолжалось дальше. За все за это он готов был «биться в кровь». Все вынести и дать прирост, приплод, прибыток – вот задача.
Проза Шаргунова волнует желанием жить. Жить самоутверждением. Он пишет не для того, чтобы мы, читая его, наслаждались бескорыстно и весело. Он хочет нашей «корысти» – чтобы мы любили его дендизм, разделяли с ним его идеи, иронично и едко вместе с ним высмеивали «грязные технологии» политической жизни, в общем, занимали активную позицию по отношению к его героям. Нельзя не увидеть в нем сегодня и силы сопротивления самому себе – прежнему, и собственно той силы, с которой Шаргунов старается избежать провала будущего. Сергей слишком долго полагался на простую и бодрую эклектичную идеологию, чтобы теперь понять, что может быть «вновь светло» в собственно человеческом пространстве.
В любом случае, дезертирства из этого мира (даже с проблемным будущим) они, тридцатилетние, как мне видится, для себя не допустят. Ведь они – мужчины. И у них есть дети и женщины.
Драйв и счастье Захара
Странно, но мысль о «выходе в счастье» упорно рождается у русских писателей во времена совсем не беспечальные. Вот и Захар Прилепин, побывавший в Чечне и написавший к тридцати трем годам книгу о войне «Патологии» и запечатлевший опыт молодых бунтарей в романе «Санькя», – вот и он на самом-то деле пишет и работает для счастья. Счастья быть мужчиной, мужем, отцом и сыном. Счастья любить то, что единственное. Единственную женщину. Единственную Родину. Единственную жизнь.
Об этом его проза. Такая у него жизнь, где очень много работы, чтобы два его сына, маленькая дочка, мама и жена – все те, за кого он отвечает, были радостны.
Да, он вошел в литературу как право имеющий. И нынешней «философии» победы глянца Захар противопоставил почву и судьбу. И ему это было сподручно – ведь родился он в самом сердце России. На прославленных её черноземах. Два крестьянских рода сошлись в нем: рязанской Ильинки и липецкого Каликино. А потому корпоративному стандарту «настоящего мужчины» в пиджаке от Baldinine у него есть что противопоставить. Ведь когда он говорил о войне, то изображал, в сущности, то, что навсегда-навсегда было убито: неслучившуюся любовь, несбывшиеся будущее отцовство и работу на своей земле. Убиты не одни тела – убито то, что и позволяет назвать человека «его первым именем» (как говорил А.Платонов) – первым именем Человек.
А когда он говорит о детстве (книга «Грех»), он будто распахивает просторы родины для любящего взора, описывая кроткие русские пейзажи, с днями длинными и прекрасными, ужасно благотворными для самого важного счастья – детского. Оттуда, из детства, тянутся питательные токи к нему сегодняшнему, но без того яркого детского счастья, он бы сегодня так не написал: «Родина ляжет тяжелым снегом, и как в детстве, весь усыпанный – по моей же просьбе дружками-пацанвой, – я чувствую теплоту и задыхаюсь от ощущения бесконечного детства. Темно. И тает на губах».
У Прилепина нет радикализации повседневности: обыденное, частно-интимное, напротив, для него альфа и омега бытия. Привычный реестр счастья – это и есть внутреннее ядро его прозы. И тут он был удивительно нежен в слове. Обыденность совсем не деспотична – она всегда источник радости, потому что в ней была существенная простота. Был дедов дом, была бабушкой поджаренная картошка, был «весь этот день и его запахи краски, неестественно яркие цвета ее, обед на скорую руку – зеленый лук, редиска, первые помидорки, – а потом рулоны обоев, дурманящий клей», а «под утро пришла неожиданная, с дальним пением птиц, тишина – прозрачная и нежная, как на кладбище». Была яркая и жаркая ранняя любовь, в которой все жило скромно и бестелесно, но которая научила понимать собственное тело, угадывать грех его желаний. «…Всякий мой грех… – сонно думал Захарка, – …всякий мой грех будет терзать меня… А добро, что я сделал, – оно легче пуха. Его унесет любым сквозняком…». Чистая и ясная проза.
Захар умеет писать о любви, свободе и «пацанской» дружбе в полную силу. Свободу он понимает по-мужски: ему кажется вполне подлым желание избавиться от всякой ответственности, ему ненавистна пустая трескотня рыночного времени, его герои не нуждаются в том, чтобы кто-то снял с них чувство ненависти к ненастоящему, «бумажному» миру. В «Жилке» (рассказ) как раз и переплелись эти главные темы – любви и свободы, особенно обостренно чувствуемой перед угрозой ее потерять.
Рассказ дышит просторно, вольно, но постепенно наполнится сдержанной тоской, чтобы потом, в финале, выплеснуться радостью мужской дружбы. «Жилка» – просто рефлексия-воспоминание о ссоре с женой и прозрачном мае; о большой тайне любви между этим мужчиной и этой женщиной, – о тайне, неизбежно убывающей в усталой, «почти неживой» его женщине. Прилепин много сказал существенно-простого о своем герое в этих скупых описаниях – нет, не секса, но состояния «мы вместе» через самые тесные, подспудные объятия– во сне. Эта тесная телесность, эта переплетённость, врастание друг в друга – будто еще и страх потерять друг друга, будто чистая удивляющая радость одной плоти мужа и жены. А потом будут утраты – жизнь ли, сами ли украли друг у друга эту хрупкую близость? «Я обнимал ее, – но она отстранялась во сне… Я помню это ночное чувство: когда себя непомнящий человек чуждается тебя, оставляя только ощущение отстраненного тепла, как от малой звезды до дальнего, мрачного, одинокого куска тверди. И ты, тупая твердь, ловишь это тепло, не вправе обидеться». Жесткая пластика рассказа становится несколько иной именно тогда, когда герой помнит о «счастье любви»: «А ведь какое было счастье: тугое как парус». Жар от любовных строк остается, однако, внутренне-сдержанным. Вообще в любовной теме Прилепин умеет себя «держать в узде», что только лучше и ярче передает ощущение благодарной – мужской – сильной нежности: «Верность и восхищение – только это нужно мужчине, это важнее всего, и у меня было это, у меня этого было с избытком! – вдруг вспомнил я с благодарностью». Мужчина без своей женщины-жены, которой он дарует материнство, отлучен слишком от многого: отлучен от полноты мира, от радости сердца и «огромного света». Да, собственно, счастье, которое было, и делает его бесстрашным и сильным, возвращает ему достоинство – он не желает бегать как заяц, петляя и заметая следы, от опасности (возможного ареста). Вообще этот переход в состоянии героя напомнил мне классическое: толстовского Пьера, который вопрошал, – и это вы думаете взять меня в плен? Мою бессмертную душу?
Прилепин здорово обновил современную русскую литературу. После придурков, которые ели свой кал; после мерзких старушечек Авдотьюшек, странного народца-уродца и рядом с припадочными извращенцами, дебилами, например персонажами елизаровских «Кубиков», прилепинский герой выглядит положившим предел литературному нигилизму и обладающим шансами противостоять антиидеалу современной литературы.
О каких «шансах» я говорю?
Во-первых, мы видим некоторое возвращение на классические устойчивые позиции: над жизнью у Прилепина все-таки есть Судия, а значит – не все позволено. Для моего поколения в этой позиции нет никакой смысловой и жизненной новизны – но Захар высказал ее после чудовищной деструктивности «ликвидаторской литературы» постмодернистов, потому и прозвучала она оздоровляюще. Во-вторых, Прилепин любит сильную жизнь. Это правда, что деревенские корни Прилепина дали ему много того, чего нет у городских. Земляной, животный (живот-жизнь) привкус его прозы очевиден и силен. Он возьмет да и пройдется по жизни жарким словцом, – схватит, не церемонясь с модами и «тонкими вкусами», какую-нибудь русскую жизнь князя Святослава («бритого, потного»), да и швырнет в публику такой картинкой: «Сырая конина, рвет зубами. Шальная голова не знает, что быть ей чашей». И напомнит всем, что он «пришел из России», а потому не боится сказать, что бывало у нас всякое – и «потоки железные», и «звон, медь, пески сыпучие, запах сырого сукна» в Гражданскую войну, и «…заскорузлые, злые и пьяные повстанцы Разина Степана Тимофеевича. Шпана, гулебщики, негодяи…» – было всякое, но все это наше, наше, наше. И такие мы. И сякие. Зато «в самых страшных войнах мировых победили мы. В мире тысяча национальностей, а победили только русские. И воспели свои победы, в былинах, в песнях, в романах. И хорошо воспели».
На фоне бесконечно множащихся бессильных текстов, ложного разнообразия героев, кастрированных авторской волей до недочеловеков, – на таком фоне прилепинская проза читается ободряюще. Ободряюще потому, что к концу XX века уже начинало казаться, что поколениям нечего сказать друг другу. Казалось что одни, наши старшие, кто изнемогал под тяжестью мертвого для них духа рыночного порядка, одиноко надрываются и почти надорвались – как Валентин Распутин в повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Казалось что другие, моложе, ушли из литературной профессиональной среды почти-что в одиночество, в «затвор» – как Олег Павлов. А между ними в зрелой силе нынешние пятидесятилетние – вот уже вообще «незамеченное поколение» – продолжают думать и писать, не оглядываясь ни на кого. Просто делают свою работу. И были все глухи друг к другу, изредка испытывая взаимную ревность и, в принципе, не боясь ни разрывов, ни одиночества. Привыкшие к тому, что их не слышат, старшие, конечно же, страдают. Как многим из них казалось (и справедливо казалось), что им недодали славы, внимания, почестей! А Прилепин не ждал, что позовут, но шел и открывал двери сам. И вот уже «светские львицы» что-то лепечут о том, что чему-то в нем не верят; и вот уже банкиры ведут с ним «литературные споры», – на самом-то деле споры эти социальные, буржуазным страхом пронзенные. Его всюду зовут. И он идет, заставляя себя слушать.
Он как-то враз, победительно приказав как хорошо выдрессированному псу: «Рядом, время!», ухватил это самое время крепко и сильно. Просто перестал считаться с тем, что молодежь у нас давно уже пребывает в статусе человеческого черновика, а сделанное в молодости как бы и вообще не считается настоящим. Он, реально побывавший в разных кругах земного ада, просто отвернулся от псевдодраматизации жизни, чем любит заниматься современный литератор, страдающий как раз острой жизненной недостаточностью, а потому выковыривающий реальные впечатления из помойки – интеллектуальной, эмоциональной, идейной. Называя книги своих эссе «Я пришел из Россия», «Terra Tartarara: Это касается лично меня», перенасыщенный любовью к своей земле, Прилепин отказался играть в литературу. Он ей живет – это его любимая работа. Писатель предлагает такое отношение к миру: он утверждает состоятельность тварного мира, он защищает право человека на простейшее и фундаментальное в бытие. Цивилизации смерти, – «технологичному и сознательному отвержению жизни» (а именно такова она сейчас), – он противопоставил идею жизни как полыхающей, роскошной силы. Жизни юной, огненной, злой и активной, с мужественной и безжалостной волей, где беда и любовь, где ненависть и чистый запах младенца, где кровь, боль и неистовая тоска, где хлеб и водка, где родина и любимая женщина абсолютно равны друг другу: «Бог есть. Без отца плохо. Мать добра и дорога. Родина одна». Аксиомы. Они – генетический код прозы Захара Прилепина, не желающего никакого истощения внутренних, скрытых задач этого «кода». Да, «реальный мир» вновь вошел в моду. А значит – главные инстинкты, «романтическое мужество» и молодой «бунт проклятых», продленные без мысли во времени и пространстве, чреваты разложением и бесплодием. А значит – они вновь должны быть преобразованы, напитаны, защищены сознательной силой традиции, к огромному ресурсу которой Захар Прилепин только прикоснулся. Проза Захара Прилепина – энергетическая. Только в отличие от тупых напитков-энергетиков, в ней доминирует настоящая сила жизни, крепко заточенная им в слово.
Он пришел из России, а потому не хочет и не может жить вполпамяти и вполсилы. Такой у него драйв. Этим крепким инстинктом жизни, принятием ее всякой-разной, всякой-любой, кажется, и особенно привлекательно творчество Захара Прилепина для современников. Конечно, речь идет не о дурном равенстве и не о счастье идиотов, но о внутреннем влечении писателя к большому имперскому охвату, чтобы враз ухватить мощь жизни – бывшей, ставшей и будущей на этом огромном, гудящем тысячами судеб, просторе родины. Но эта большая, телесная и пластичная сила Родины только тогда будет правдой, когда она становится и твоей личной силой: «Родина моя, родинка на моем запястье, где вена бьет»…








