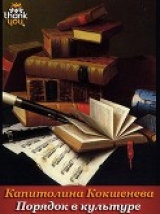
Текст книги "Порядок в культуре (СИ)"
Автор книги: Капитолина Кокшенева
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Раздел VII
Современная проза
О сущности социального нигилизма в «Печальном детективе» В.П.Астафьева«Слишком стремительно разлагается человек вообще и наше общество в частности, лишь бы удавалось заниматься самоутешением и самообманом, как прежде, и звереет и подлеет человек еще больше, и это при наличии Толстых, Пушкиных и прочих Шекспиров и Петрарок», – так писал Виктор Астафьев в частном письме в 1980 году. Радикализм мысли для Астафьева в этот период тесно связан с его личным самоощущением, с его «криком изболевшейся души» (В.Быков).
80-е годы XX века – тут все почувствовали перелом в творчестве писателя. А он сам прежде и раньше других трезвым и точным, будто острие скальпеля, взглядом узрел заболевание – заболевание духа истории. Что же случилось с человеком – строителем фабрик и заводов? Почему грандиозные успехи технологические и индустриальные уничтожают своим социальным героизмом земное счастье?
Заболевание духа истории Астафьев назвал – это был все тот же, не раз являющий себя на авансцене жизни, социальный нигилизм. Но ведь и социальный нигилизм имеет свой корень, свое ядро, часто не различимое сразу. Вот эта проблема и мучила писателя – на нее он искал ответ. Ответ о человеке.
В «Печальном детективе» Астафьев покажет жуткое в своей «простоте» действие нигилизма через насилие, жестокость, немотивированное зверство, через дикое хамство, подлое приспособленчество. «Гнилая утроба человека» нагло выставляет себя напоказ, требует своего жизненного пространства, утесняя и наступая на человеческую норму. Социоцентризм, пронизывающий советское общество рухнул не в 1993 году, а, пожалуй, значительно раньше. Социоцентризм как универсальный принцип пронизывал культуру и науку, политику и экономику. Все объяснялось на его основе. Но оказалось, что человека нельзя всего измерить этим социальным циркулем. И уж кто-кто, а русские писатели знали это лучше всех других.
Оказалось, что установка на социальное благо не может стать основой добра. Медленно, но верно, происходила деградация социального инстинкта – того самого, что так недавно поднимал сотни тысяч людей на трудовые подвиги и лишения. Союз социума и правды-справедливости становился все более формальным. И разрыв этого формального союза был неизбежен: «Беззаконие и закон для некоторых мудрецов размыли дамбу, воссоединились и хлынули единой волной на ошеломленных людей, растерянно и обреченно ждущих своей участи», – говорит Астафьев в «Печальном детективе».
Этот квазиправдивый декорум в «Печальном детективе» представлен сытыми и гладкими провинциальными снобами Пестеревыми, ловко умеющими жить и добывать, отбирать блага у жизни милицейской четы Лободы. Именно они, «сытые хамы», быть может более других причастны к тому нигилизму образованных и грамотных, что ничуть не менее страшен и разрушителен рядом с откровенным развратом и насилием пьющей и опустившейся тетки по кличке Урна или жалкого и злобного бывшего зэка Филина.
Мне представляется, что Астафьев в это время уловил очень существенное в человеке и социуме, что вскоре расцветет во всей своей злобной силе, – Астафьев уловил раскрепощение чувственности в человеке и отразил это отчаянно-смело. Эта чувственная, ничем не удерживаемая, звериная сила проявляется в четырех парнях, насилующих тетку Граню, в молодом пэтэушнике, что просто так, мимоходом, заколол трех человек; в другом «молодце», что, обиженный, взял и убил молодую женщину, разбивая, как орех, ее голову камнем; в том ошалевшем шофере с Севера, что покатался на самосвале так, что убил молодую женщину и ребенка. Эта жестокость, явленная писателем в почти в дисциллированном виде, жестокость как сила зверя в человеке больше всего и цепляла писателя и мучила его. Почему так незаметно примат высших ценностей (ведь этих преступников в школах-то учили лучшему) был в них так легко заменен приоритетом низшего? Отчего в городе Вейске так много парней и мужиков оказывалось в тюрьмах, а возвращались из них очень ненадолго, чтобы снова сесть, успев натворить на свободе мерзостей и преступлений? Почему социализм, улучшаясь, копал себе нравственную могилу?
Смерть социума развязывает человека. Человек утомился от собственной страшно героической истории. Он не смог стоять на том высоком гражданском пьедестале, куда ставила его руководящая сила жизни – партия. Эти разряженные, холодные выси партийности, где и дышать-то не мог простой человек, должны были обеспечиваться массовым культурным рабством, где под культурой понимается привычка и обязанность размышлять, в том числе и о самом себе.
Вообще Виктор Петрович, увидевший это безмыслие о себе, это начало раскрепощения чувственности в человеке, назвал главное, шагнул в XXI век, определив, почувствовав те культурные механизмы, что вовсю пущены в ход сейчас.
Да, Астафьев зафиксировал в «Печальном детективе» картину социального декаданса, жизненного упадка. Словно из самого бытия куда-то ушли соки – и, действительно, ушли. Ушли в тяжкий труд родителей, которые детей своих отдавали по садам, школам и интернатам и не видели их, не воспитывали. И не шло между ними родственных сердечных питательных токов. Что это за дети: «матерью не доношенные, жизнью, детсадом и школой недоразвитые»? Эти дети – «барачного производства малые, плохо с детства кормленые, слабые до потери сознания, психопатичные», «сексуально переразвитые», немытые, замученные, ненужные, всем чужие. И рожали-то детей в каком-то тяжком бесстрастии, безлюбости и получались они с измальства хилыми и болезненными.
А женщины в астафьевском романе? Несчастная Сыроквасова, протабаченная не хуже мужика, носительница «культурного сознания» с ее хамоватой властностью «избранной», поставленной в особое положение ко всем пишущим в городе Вейске. А «пустобрешная» мать Лерки – Евстолия Чащина – ничего не умеющая, кроме как всю жизнь болтать в собраниях и заседаниях, живущая вообще-то за счет своего рукастого и смиренного мужа, но его же и пилящая всю жизнь? Каких же детей могут вырастить и выпустить в жизнь эти – без женственно-материнского инстинкта – женщины? Конечно же, похожих на них самих. Не случайно Лерка, дочь «пустобрешной» матери, вся была ходульная, остренькая, вся изломанная. Она ведь не знала тепла, материнской ласки. В ней не копилась любовь, которой она, будучи замужем, смогла бы отогреть и своего мужа, и дочку Светку.
Астафьев тогда уже видел порушенными основы именно национальной, а не просто социальной жизни. Уже тогда кричал громко, что обезмужичила деревня, спилась. И это очень важно – в русской культуре никакой феминизм не может прижиться. Астафьев выстрелил в сердцевину проблемы, связав в единый узел проблему обезмужнивания в семье и обезмужичивания на земле, в деревне. Без мужского стержня и в самой жизни исчезает воля жить. Ведь не все же такие как деревенская красавица силы немеряной Паша Силакова, у которой, впрочем, есть муж и трое сыновей. Лучшие страницы романа отданы ей, такой настоящей для писателя.
Читая жесткую книгу Астафьева просто физически ощущаешь, как происходит выгорание ценностей жизни, как действует на человека расслабляющий, убивающий нигилизм. Но социальный нигилизм (так ярко и сильно воплощенный Астафьевым), конечно же, имел природу и духовную. Астафьев все отчетливее осознает, что социальный бог в виде «кодекса» для коммуниста совсем не способен стать на пути атомизации жизни, ее раздробленности-разложения. «Нам, – пишет Виктор Петрович, – противоречиво жившим и путано мыслящим, и вовсе не по плечу справиться со стихией цинизма и равнодушия и растления человеческой души. Только теперь я, например, по-настоящему понял, к чему приводит безверие и что даже насильственная вера лучше, чем вовсе ничего. Церковку-то сковырнули рановато, без Бога ни до порога и тем более ни до коммунизма…» (1980 г.) Астафьев понял и назвал главную дилемму человека, стоявшего перед сломом всей старой жизни: Бог или физиология? Резко? Да. Но на самом-то деле только такая крайняя постановка вопроса и имела смысл. Идейная починка человека была уже невозможна.
В «Печальном детективе» (в «Людочке», «Русском алмазе») Астафьев показал, – человек теряет веру в свою ценность, если через него (человека) больше не действует бесконечное целое. Но ведь никакая социальная идея не была и не будет этим «бесконечно целым». Им может быть только Бог. Конечно, в романе и рассказах писатель не говорит об этом так прямо, но все же в «Печальном детективе» по всему роману разлита не только «жалкость времени», времени, в котором «газета заменила ежедневные молитвы» (слова Ницше, о котором в романе вспоминает писатель), но и христианская по своему вечному происхождению человеческая честность, сострадательность, отзывчивость и тепло, производимое невидимой, но движущей жизнью бессмертной силой – душой.
Очень важно, что героем писателя стал оперумолномоченный Леонид Сошнин. И не только потому, что здесь, в этой области жизни, больше всего знают о ее печальной изнанке. «Мент», милиционер, работник органов был в советское время объектом бесконечных анекдотов и насмешек. Вспомним поэта-постмодерниста Пригова, посвятившего Милиционеру в это же самое время, когда Астафьев писал свой «Печальный детектив», целый цикл стихов. Приговский Милицанер (так у него пишется, как слышится – К.К.) выше поэта, он принадлежит к власти, он представляет «высшую реальность».
Милицанер же отвечал как власть
Имущий: ты убить меня не можешь
Плоть поразишь, порвешь мундир и кожу
Но образ мой мощней, чем твоя страсть
Астафьев видел в «милиционере», «оперативнике» не поверхностную приговскую социальную маску. Астафьевский Сошнин, стоящий на границе жизни, между законом и беззаконием, стоящий в том месте, где многие соблазнялись и соблазняются, остается тем человеком, в котором не растрачены силы жизни и силы души. Он – страж при человеческом страдании, беде, горе. Но ни свои, ни чужие страдания не убивают в нем воли. Именно он собирает в романе лучшие качества народа (и мы может предполагать, что о них он и написал свою первую книжку), именно он помнит и заставляет видеть нас в своей тетке Лере, бабке Тутышихи, тетке Грани, Лавре-казаке, тесте Чащине те силы, которые поддерживали жизнь, не давали есть пасть, сплошь стать хламом.
Финал романа – это размышления Сошнина о «муже и жене», «мужчине и женщине». Тут не только «мысль семейная», с ее спасительностью от личностного падения и оскудения, о выходе в равной степени из одиночества и социальной темницы, но и мысль библейская, вечная о крепкой опоре в соединении мужчины и женщины в одно, в родню; о хлебе, питающем эту жизнь, о чадолюбии. Ведь сказано: «Плодитесь и размножайтесь». Именно любовь противостоит нигилизму – любовь к детям, женщине, земле, отечеству. Не случайно Сошнин читает католический роман в письмах – монашка пишет в самых несовременных, самых возвышенно-страдательных выражениях о своей любви к ветреному французику. О читал и перечитывал эту книгу «как Библию», обнаруживая способность к бесконечному сопереживанию любви неведомой, запертой в тихую келью, монашке, ведь «по сравнению» с любовью «все остальное в мире – пыль, хлам, дешевка».
Нигилизм, то есть отрицание, появляется не вдруг, но как всякая болезнь имеет свои этапы. Нигилизм и начинается с неправильного представления о достоинстве человека и заканчивается тем, что пищей души становится зло. Астафьев показал результат – страшную суть нигилизма. Но он же, выводя своего героя в мир писательский, в радость творчества, свободного мышления, четко сказал и о другом: пришла пора понять Россию. Не в ее сиюминутности, не в ее грехах, но и в тех остатках любви, что несмотря ни на что сохранялись в жизни.
P.S. Мы помним как критики возмущались резкой речью Астафьева, его «чернухой». А теперь? Отвязанный инстинкт человека рыночной эпохи построил целую индустрию чувственности, – бессовестную этику и некультурную эстетику.
Сергей Николаевич Толстой как человек традицииВ настоящее время трудами Наталии Толстой издано Собрание сочинений С.Н.Толстого в шести томах, сразу поставившее его в ряды русских классиков XX века
Наше время так способно уменьшать масштабы буквально всего до полной неразличимости – неразличимости тленного и сущностного, что я не могла позволить себе говорить о Толстом Сергее Николаевиче легковесные фразы. Не могу позволить себе говорить о классике словами привычными, ибо перед нами писатель, обладающий уникальным энциклопедическим простором, ибо перед нами и уникальный человек. И эта его личностная уникальность сегодня должна быть отмечена и осмыслена, ведь он жил и творил в 20–30-40– е годы, когда именно личностное начало не имело признания, было невыгодно, а часто и опасно. Это острое чувство его судьбы, возникшее с первой книгой «Осужденный жить», заставило меня посмотреть совершенно особо на его новые сочинения. Я выбрала для представления его пьесу «Пушкин в Одессе» и его философское эссе «О самом главном». Почему? По причине самой что ни на есть современной: по причине того, что этому человеку так легко было соскочить в модерн или в пафос социальности, а он этого не сделал. По причине того, что мы должны и сегодня, в современной культуре бороться за этот совершенно особый тип личности – за человека Традиции. Именно Сергей Николаевич Толстой есть глубокий и прекрасный русский тип, несущий на себе это бремя – мужество оставаться человеком традиции.
В повести «Осужденный жить» он писал: «Терпимость? Так ради этого терпимость? Терпимость, когда новые гости станут колоть на лучину иконы, перед которыми молились еще твои деды и прадеды, терпимость, если сыновья-офицеры приедут и будут весело рассказывать как они вместе с великим князем таким-то лакали по-собачьи водку или шампанское, налитое в корыто у крыльца, а после выли хором;… Нет, спасибо!.. Я, по крайне мере, не утратил способности отличать белое от черного, а у всех эта способность, несомненно, если еще не потеряна, то катастрофически ослаблена… На вопрос «когда?» мыслю себе только один ответ? «Никогда!». Никогда не перестану быть тем, что я есть, никогда, ни за какую похлебку иудейскую, не отдам своего первородства, потому что в моем первородстве вижу мою цель и право считать себя в числе сынов моего Бога…. и ничего такого, ради чего стоило бы утрачивать эти образ и подобие, ни вы, ни кто другой предложить мне не можете». Он говорил свое никогда в годы совершенно оглушившие человека, он говорил свое «Никогда» во времена страшных социальных потрясений. И поэтому я хочу еще и еще раз подчеркнуть, что Сергей Николаевич Толстой нашел в себе мужество оставаться человеком традиции. А мы, мы ни на минуту не будем забывать, что сочинения, о которых я говорю, были написаны в 1948 и 1949 годах.
Однако, что это значит применительно к его творчеству?
А то и значит, что все его творчество – это апология традиции и ее ценностей. Мы привыкли воспринимать Традиции как нечто, данное нам объективно, материально, внеличностно. И отчасти она объективна. Она объективна через свое проявление в семейности, к которой Толстой был так счастливо и трагично причастен. Но нам сейчас интересно другое – то совершенно уникальное и удивительное напряжение, что существует между личностью и традицией. Нет, они не изолированы, нет, они идеологически не противопоставлены. Напротив, именно в общении рождается их новое и особенное единство. Толстой пишет «О самом главном» в 1948 году, о а Пушкине – в 1949. Нужна была совершенно особенная духовная свобода, чтобы размышлять столь нестандартно о человеке и его жизни. Он назвал свою пьесу «сценами», словно подчеркивая ее эскизность и незавершенность. Но перед нами сочинение, пронзенное силой личности гения. Он пишет о Пушкине и только о нем, рядом с ним все высокие государственные и чиновные особы, наделенные властью кажутся только большим историческим фоном. Он пишет о Пушкине как человеке чести, который тоже умел сказать светской черни свое «Никогда». Никогда он не продаст свой талант на ублажение карнавальных масок, никогда он не будет писать слоганов для тупого зубоскальства. Никогда он не извериться в чистоту женской любви, даже если рядом сплошь светские интриганки с пустой душой, красивые куклы, умеющие мыслить только телом. Он написал Пушкина в этой пьесе человеком чистым и светлым, а его сила – в его обескураживающей открытости, в его большой духовной свободе. (Я не буду делать тщательного анализа сценических и драматургических особенностей пьесы, скажу лишь только, что было бы славно поставить ее на сцене, но боюсь, что нынешний театр ее не потянет. И не потому, что нет актеров, а потому, что режиссеры из классики делают кич, используя ее для своих отвязанных трактовок).
Но вернемся к нашей главной теме. Мне кажется, что Сергей Николаевич Толстой жил в мире традиции легко и непринужденно, хотя сама его жизнь была именно приговором – осуждено жить. Этот категорический императив, тем не менее, был ему столь же необходим. Необходим для того, чтобы выговорить в своем творчестве себя, чтобы стать ярким примером жизни в традиции. Но кто это, человек традиции Толстой. Какие приметы нам позволяют столь уверенно налагать на него страшные обязанности? Во-первых, мы видим что в нем самом все время шла работа самого живого, тесного общения с традицией. Он пишет о классиках – о Пушкине и Блоке, о Достоевском и Хлебникове, о Толстом и Гумилеве. Он напряженно размышляет, он с не меньшим напряжением вживается в европейскую культуру. У него не было конфликта с традицией, то есть не было того, чем мы сегодня столь часто обладает как основным в нашей структуре личности. Во-вторых. Он сам, собой, своей плотью, душой и мыслью показал всем нам, что традиция никогда не бывает безличностна. Все, к чему он прикасался, согрето его личным теплом, которое он не боялся тратить. А мы? О, мы как-раз все время живет с ощущением, что это наше личностное тепло совершенно не востребовано нынешней не то что культурой, но и всей жизнью. В третьих, он жил в определенные годы, он писал в те же самые годы, но все дело именно в том, что он, в то же самое время, жил и писал в Большом и протяженном историческом времени, в большом духовном православном времени. Без этого физического ощущения протяженности традиции в Вечности, наверное, не родилась бы работа Толстого «О самом главном», где он показал нам человека традиции, где показал нам саму традицию как священную, антилиберальную, устойчивую по духу. А мы, часто ли мы предстоим перед этим Большим временем? Нет. Ведь современная культура вся, сплошь, нацелена на обратное – на мельтешение и уменьшение человека.
Вот от этого уменьшения перейдем к следующей, четвертой и важной особенности. Мы и до сих пор очень часто закрываемся от проблем неким общим, коллективным, соборным, общинным началом – закрываемся как щитом, обеспечивающим одним – комфортное существование, а другим – беззаботность и неответственность мышления. Мы очень часто теряем из виду личность, качеством которой всегда держалась русская жизнь. Нет, речь идет не об индивидуализме, но именно о личности, бескачественности которой так всегда боялись большие русские философы. Прочтите философское эссе Сергея Николаевича и вы увидите – он всегда хранил в себе не только то, что мы называем исторической, родовой или социальной памятью. Он возделывал себя все годы, когда писал. Он стремился осознать себя самого как непосредственную и ответственную часть русской нравственной традиции.
Мы привычно описываем традицию в культуре как культурное наследие. Три тома Сергея Толстого – это теперь и наше с вами культурное наследие. Но о какой культуре стоит вести речь? Ответим – о такой культуре, где возможно свободное, а значит творческое участие личности в традиции. Сегодня именно этого свободного и творческого участия так категорически не хватает всем нам – ведь не будем же мы всерьез говорить о творческом участии в потреблении сериалов. Толстой писал и жил другим – жил в пространстве бесконечной традиции, которая заключает в себе множество образцов. Он жил внутри такого понимания культуры традиционной, в которой есть свое ядро. И это ядро мы смело назовем тайной. Но смысл русской культуры всегда был в том, что ее тайна умела так проявить себя, что при соприкосновении с ней человек мог меняться. Так менялся и сам Толстой, ибо общался он с традицией русской культуры глубоко-интимно. Он задавал ей свои вопросы и получал на них от нее ответы. Он задавал вопросы Пушкину и Толстому, Достоевскому и Гумилеву. Но все это общение, наверное, было бы категорически невозможно, если бы он сам, лично, не обладал достаточной и для вопросов и для ответов энергией собственной личности, созвучной личностной силе тех, к кому он вопрошал. А суть этой личностной энергии не только природна, но и в истоке своем Божественна. Только при свободном и тесном общении может сохраняться это божественное чувство тайны. Увы, но современная культура утратила это чувство восторга перед чудом, восторга перед тайной и вся наша современность предстает перед нами голой, разочарованной, скорбной. А это значит только одна – она все больше и больше утрачивает свой традиционный характер. Мы скорее узнаем пошлые тайны политиков, грязные тайны психоанализа, и только каким-то сверхчувством будем тосковать о том, что в настоящей культуре и в личности остается прикровенным. Под покровом.
Какой урок извлечем мы еще, общаясь с Сергеем Николаевичем Толстым через его книги? Урок – существенный. Он как человек традиции проявил себя как открытая и открывающая себя перед нами личность. И это свойство редкой настоящести. И этим свойством обладал он как даром. Но откуда этот дар? Откуда эта настоящесть, не боящаяся предельно открываться? Без веры, без религиозности мертва всякая традиция. Ведь мы знаем, что именно Личной Бог Православия предает себя людям традиции, жертвует им Себя всецело. И Толстой это знал, иначе бы не были так пронзительно резки его слова о католицизме, например, или о поисках неотомистов. Что же это за целое, и какое имя ему? – вопрошает Сергей Николаевич в своей работе. И дает ответ, обращаясь к оде Г. Державина «Бог». Вот имя. Оно названо. Именно Он отдал себя в жертву, и мы ее приняли, и мы ее должны хранить, воссоздавать и передавать. Как часто Толстой говорит в своей работе о механистичности и техницизме. Он хорошо понимал, что традиция никогда и никому не может быть гарантирована чисто механически. Что она – это дело личной свободы, дело ответа на жертву Бога, что она истоком своим имеет не бытовой, но бытийственный акт. А это значит только одно – традиция должна осуществиться в людях. У нет у нее иного способа жить.
Не знаю, можно ли сказать какие-то самые главные слова о Сергее Николаевиче Толстом. Быть может это трудное и простое ответственное творение себя? Быть может это осуществление чего-либо жизненно-важного, что проходит через себя самого? Ясно только одна, Толстой принадлежал к той породе людей, которые жили большой и глубокой верой – верой в человека в себе, верой в русского человека в других.








