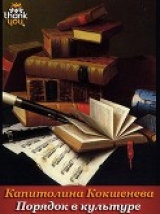
Текст книги "Порядок в культуре (СИ)"
Автор книги: Капитолина Кокшенева
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Своей новой повестью «Река любви» Владимир Личутин вновь вышагнул поперек современной литературы. И сделал это мощно, ярко, отчаянно. Личутин написал лучшее эротическое произведение последнего десятилетия. Да, тут уместен именно древний «эрос» с его точными оттенками: нежной страсти и любовного безумия, сжигающего ум и волю; с его нутряной тягой к рождению детей, чтобы оставить о себе память на веки вечные, да из рода в род; с его поэтическим преображением жизни, когда сама красота входит в человека хозяйкой.
Тут, у Личутина, все вопиет против секса в его современном виде. Секса – как «индивидуального предприятия по извлечению максимального удовольствия из тела партнера», как бесцельного гламурно-чувственного наслаждения. И вообще-то современная сексуальность, как и всякие «русские красавицы» (сочиняемые оптом на вынос и вывоз) кажутся страшно нищенствующими, ничтожно-жалкими рядом с той откровенностью пола, которую писатель с каким-то надлежащим порядком и открытой простотой воспроизводит в своем произведении. Это, безусловно, по-настоящему русский эрос, искусно вплетенный Владимиром Личутиным в русский эпос. Писатель сопряг эти две силы: эроса и эпоса. Ясно, что сделать это можно было только в пространстве народной, крестьянской культуры и жизни.
Он словно дразнит читателя, отправляя его в 70-е годы XX века, на Север, в студеные русские земли, в деревни, что уже тогда народом оскудели. От советской эпохи, собственно, в повести ничего и не осталось, кроме воздыханий древнющих старух о народе, «избаловавшемся при Брежневе». Но советская эпоха выбрана писателем, видимо, все же не случайно – так уж получается, что она была последней, знающей героизм, эпохой нашей истории, а значит и люди в ней были покрепче нынешних. Впрочем, никакого извилистого сюжета в повести тоже нет – Василий, достаточно молодой корреспондент, отправлен «за материалом» в район – даль далекую, в деревеньку Кучему, что стоит на Кучеме-реке. Его берет на постой «старуха, ветхая годами», в памяти которой многое «незабытно оследилось», а потому «говорит как по-писаному». А за стенкой (дом поделен на две половины) у старухи Ульяны проживает она, та самая немыслимая нынче жаркая, пламенная женщина Полина Королишка – наследница своего отца, человека-великана, человека-горы, «Егора сына Волота, короля Хорсы и Белого озера!». Потому и дочь его вышла «королишкой Хорсы, Кучемы и Белого озера, коли батя король».
Между двумя этими женщинами (набожной старухой Ульяной, плоть которой потратилась за жизнь до прозрачной легкости, дух которой, напротив, весел, и «никакой скорби в старенькой, словно бы она постоянно держит завещанный урок, – всех убежавших от Бога привесть обратно к Хозяину…») и Полиной Королишкой («ядреной бабой», «жар неостывшей плоти» которой даже на расстоянии жег и калил, которая, несмотря на свой почти преклонный, для других уже не женский возраст, умела «о глубоко личном поверять с такой откровенностью и беззаботностью, будто речь шла о ком-то другом.») – между ними и располагаются все остальные герои, как между двумя полюсами земли. И если старуха Ульяна с ее взглядом на мир, людей, страсти любовные и будет в повести христианской «меркой», без которой все в этой жизни легко могло бы превратиться в легковесно-пошлое подхихикивание, – то Королишка с ее исполинской, мощной, богатырской натурой вытеснит всех других на края живописного полотна Личутина. Она одарена всем земным без удержу и без меры: Кучема – это ее река любви, которой она со-природна. «Бессонная река, эта вековечная плодильня, спешила на вольные морские выпасы, не смиряя норова, не зная отдыха. От реки, странно волнуя, наплывало на меня чувство вечности, непокорной силы и неутоленной любви…». Гимном женскому плодородному началу – земле, реке и женщине – звучит повесть Личутина. Потому и Полина – королева, потому и нет в ней простенького и обыденно-вялого, но все наотмашь и с размахом, что в любви, что в труде. Именно здесь, в этом роскошно-холодном и огромном пространстве Севера, вызревает жаркий эрос огненной женщины-великанши.
Владимир Личутин всячески защищает в русском человеке телесную крепость, позволяющую трудиться не просто без устали, но как Королишка – сверх возможного. Он и не стремится, как это делал Лев Толстой, отобрать власть у страсти человека – отгородить человека от чувственности (похоти, по Толстому). Личутин не видит тут противоречия: у него человеческая телесность, пусть и чрезмерная в его богатырке Полине, и есть некая компенсация недостаточности нынешней силы в народе. Не случайно городской рыженький Василий – хилый, неумелый, физически слабый «приставлен» писателем к женщине-богатырше, с которым она «играет», все время поддевая в нем чувственность («Вот какой народ был прежде железный да стальной, жиляной да костяной. А нынче, – деревянный да стеклянный, тестяной да дижинный»). От городских мужичков Личутин, точно, мало что ждет… разве так… статейки «про жизнь»…
В классической русской литературе много неосуществленной любви. У Личутина, напротив, много любви осуществленной. Полина Королишка, перебравшая столько мужиков («Оглашенная…Богом удивленная. Мужей-то было, как на попрошайке вшей. Принялись было считать с ней, дак на втором десятке сбились, кого как звать: Егорей иль Григорей. Едва не расспорили.»), будто для того и перебирает их, что ищет того, кто будет ей подстать – от кого родит она богатыря …. Ведь личутинская богатырша еще и родом из эпоса. И здесь эта ее сверхчеловеческая, надчеловеческая любвеобильность будто должна обхватить собой все просторы России, разлиться и по ним, а не только разметаться по всему Северу… Она – как и положено – должна, родив нового человека-волота-богатыря обновить народ, дать ему избавителя и искупителя, способного защитить и укрепить.
Плоть, кажется, иногда подминает под себя дух – так необъятна, крепка Королишка, так преизбыточен в ней жар, так прямо предъявляет себя желание и сладострастие. Пластика ее тела – почти античная, скульптурная….будто изваяние, будто баба каменная… Это – эрос немыслимого простора, гульба безбрежного пространства.
Но собственно как такового голого тела в повести мало – только раз приметит городской герой «белоснежные куличи грудей с рыжими изюминами сосцов, развалистые бёдра» —…у Личутина больше слова, причем именно меткого и откровенного народного слова, эротических прибауток, побасенок да загадок. Именно потому слово у писателя открывает наготу не стыдно. При всех роскошных описаниях телесного как душного, влажного, знойно-горящего, трепещущего, – при всем том, чувственные бездны не поглощают всего человека. Он знает им определенное от века место: «… Полина Егоровна, – баба странная, диковатая, замысловатая и безразмерная, состряпанная из особой крестьянской дежи, последняя отрасль вымерших русских волотов– великанов; с непонятным умыслом плетет побаски, завивает словесную кудель, крутит на невидимое веретенце; внешне– необьятная, а внутри, – бездонное улово с кулачок, куда утекают страсти, как в воронку, не оставляя на облике никаких примет. Какие вихри на душе, какие смуты и грозы с молоньями, – можно лишь предполагать»… Ведь и Королишка – богатырка в любви – понимает, что любострастие – грех смертный («Ульяна Осиповна, молись за меня, дуру окаянную», – говорит она старухе.)
В области эротического сегодня мало кому удается удержаться, не нарушив той деликатной границы, когда все становится порнографическим. Личутину удалось не просто удержаться, но и дать осязаемую твердость этих границ, сказав при этом всё, назвав потаенное и спрятанное с откровенно-цветистой прямотой, но и многое, что никогда не называется, оставить в тайне. Эта народная земляная откровенность в Королишке, это восстание эротической силы в женщине-великанше показаны писателем через теснейшую и сложнейшую словесную вязь. И тут Личутин не знает равных: телесность у него облекается в такие словесные узоры, в такие ритуалы игры мужского и женского, в такую глубинную пронизанность эроса и природы, эроса и красоты, что самое сокровенно-интимное (как влечение) при таком прямом изображении не читается ни пошлым, ни сальным, ни подлым. «Богатырка скоро накупалась, – так видит ее городской попутчик в девятидневном путешествие по реке, – вернулась к огнищу свежая, намытая, словно бы снова молодильной водой окатили, взгляд с голубой искрою, и пухлые губы будто вишенье. Огонь– баба, и сорока не дать, столько в ней женской стати, а в повадках, – как шла к огню, переливаясь телом, – столько ленивой вызывающей истомы, азарта и неиссякаемой силы, что и молодухе не догнать» Нет, никакое «нежное чувство любви» не способно «пробить» эту закаленную, продутую ветрами рыбачку. Ясно, что такую «богатырь-бабу, мать-плодильницу» может одолеть лишь ураганный напор эроса, – напор такой силы, чтоб до вожжения всего состава телесного. А телесный состав Полины Королишки под стать русской природности с ее ширью земли, высотой небес да глубиной простора: «Пар шел от её бледнорозового огромного тела, заслонившего и небо, и солнце, и райские кущи…..»
Сила эротического восхождения этой повести легко и напрочь сметает всё, чем дорожат те, кто только в своих претензиях писатель, а потому без устали описывает мерзости человеческого тела, для кого «человек… – это не царь природы, а нелепая натуралистически выполненная кукла, набитая вонючими потрохами и обтянутая кожей», для кого человек – «душонка, обремененная трупом». Этот новейший взгляд на человека, якобы испытующий русскую культуру на веру в бессмертие души, а потому так отрицающий тело – этот взгляд на самом-то деле самый скотский, отрицающий человека вообще….
Народная, земляная сила повести Владимира Личутина и в том, что социальное тут сплавлено с глубоко поэтическим – писатель не ждет никакого обновления со стороны (ни декретами, законами, указами да приказами), но только собственными силами самого русского народа. И это – главное.
Я уже говорила, что без второй, иной, внутренней силы – силы души – повесть будет как птица с одним крылом. Эта вторая, внутренняя, душевная жизнь в повести как-то более скрыта, более потаенна, и тем не менее, нельзя не почувствовать борьбы срама и стыдливости, похоти и целомудренности. Запросы и требования тела не превзойдут, в результате, запросов духа. Всякая плоть истрачивается – исковерканная плоть богатырши, какой видим мы ее в конце истории (катила в гору бочку в 200 кг., оступилась, и бочка эта самая раздробила ноги) все же оказывается чревата новой жизнью… Королишка беременна….Почти как в библейские времена – беременность в шестидесятилетнем возрасте…
Оттолкнет наш городской герой от берега лодку с беременной богатыркой. Примет ее река любви …. Доплывет ли до родового отеческого дома? Родит ли народу богатыря-избавителя-заступника? «…Жди Волота, – крикнула богатырша… А сколько его ждать?». Это и наш вопрос.
Весело идти в жизнь«Тойота-креста» Михаила Тарковского
Он отвоевывал шаг за шагом свою крохотную территорию у Сибири. Он обживал ее в литературе, чтобы немое и невысказываемое научилось говорить. А сама литература для него, которую он делил с жизнью простой, крепкой, мужской – сама литература превратилась в место чистое и важное.
Было трудно привыкнуть к мысли, что Михаил Тарковский – охотник, профессионал. И только фотографии, фиксирующие всю тяжеловесную, но необходимую оснастку – вездеходы и лодки, ружья и топоры, дороги-зимники и охотничье зимовье, замечательных собак лаек и свет керосиновой лампы – только они со всей своей достоверностью утверждали его особый статус охотника-писателя, растящего свою литературу из воли человечьей и воли природной, уводящей в безмерную даль веков как вглубь тайги.
Но что же Тарковский делает в современной литературе? Почему он все-таки так заметен, при его принципиальной традиционности?
Мы не найдем у него ни капризной выразительности стиля, ни форсированных языковых напластований, но тут же, с первых строк, мы чувствуем тонкое богатство его писательской интуиции и понимаем, что проза его глубже, чем кажется с первого взгляда. Михаил пишет всё о простой жизни, у него много самый обычных, но и самых корневых русских героев-людей. Он действительно знает, что в той жизни, которой он живет, есть тайна, а не «игра в тайну» и не «игра в бисер».
В недавнем романе «Тойота-креста», мне кажется, Михаилу Тарковскому удалось собрать вместе всё, что вообще для него важно в жизни и литературе. Главной силой повести тут стала любовь, но назвать роман только любовным никак нельзя, поскольку жизнь и любовь главных героев помещена в огромные смысловые просторы, имя которым Россия. Вот эти внутренние «швы», эти нынешние «внутренние границы», которые далеко не всегда можно одолеть, и станут той конфликтной, тягловой силой романа, что протащат его действие от Курил до Москвы.
Впрочем, никакого «занимательного» сюжета и нет. Есть три брата, два из которых живут в Сибири, на Енисее, а один – столичный, киношный человек, прилетает к ним снимать «настоящую жизнь», реал, так сказать, мода на который сегодня существует, и за который готовы платить. Тут и начнется эта любовная история между Женей (водителем-сибиряком-мужиком и чуть-чуть романтиком) и Машей – москвичкой, сплошь городской женщиной из «гламура», работающий в модных медийных сферах. Вся психологическая наполненность этой любви – именно в непреодолимой разнице жизней. Его – такой породистой, твердой, как базальтовые горы, такой сыновней по отношению к земле и людям. И ее – с лощеной, всепобеждающей красотой, зависимостью от успеха, тусовки, «искусственного рая». Ведь Маша «спасалась» тем, что «широко и свободно стыли ее тылы, и законно лежала в них густая и великая плоть жизни, уча холодку, ледку и пощаде к себе, уча выбирать, где уступить, а где устоять, не поддаться простому, невыгодному, душезатратному»…
Какая же стратегия жизни у героя Тарковского и у самого писателя?
Нацелен ли он на победительность и победу? Пожалуй, что и нет – ему нравится это растворение в жизни, когда твои личностные границы становятся одновременно и границами жизни брата, милой девчонки Насти, никогда и никому не подчинившейся тайги. У Михаила иной дар, который противостоит и победительности, и уж, конечно, пораженчеству. Это дар уже называли – называли даром надежды. Закончилась любовная история героя, но как-то очень беззлобно, не мстительно, с оставшейся в душе точкой – точкой надежды. Жизнь тут, на просторах Сибири, видится как некое рыцарство с его неизбежными приключениями, но и с простодушной веселостью, и с великодушной здравостью ума, чистотой воли, свежестью взгляда. Им (его героям) весело идти в жизнь. Идти так, чтобы не думать самоуверенно о себе и своем успехе – это для сибирских героев Тарковского было бы глупо (зато для Маши и городских – норма). Идти так, что не ждать заранее неуспеха, потому как это трусливо. Идти так, чтобы не торопить будущее, а просто быть уверенным, что оно есть, и всегда остается возможность вкладывать легко и просто свои силы в эту нынешнюю жизнь тут же становящуюся фундаментом будущей. Вот так Ромыч (друг одного из героев – Василия Михалыча Барковца) «втирал в Михалыча свой пример, свою правду. И корил своим упорством, заботой, тем, что старается не для Михалыча, а сквозь его, дальше, ради уже совсем дальнобойной жизненной хватки, которую нельзя ослаблять ни на час». Я и выделила это человеческое усилие – «сквозь, дальше», поражаясь какому-то особому строю прозы Тарковского, ощущению незаслуженной радости, которую ты черпаешь из книги.
И вообще этот Михалыч – совершенно роскошный человеческий тип, «отяжелевший от опыта человек». Тут, в романе, все мужчины крепко привязаны к технике – машине, вертолету, моторной лодке, ружью, всяким запчастям и железякам. Что-то преображенно-платоновское есть у Тарковского и в его писательской любви ко всякой технике, которая помогает человеку жить и радоваться. Вот, например, Василий Барковец (старший брат) возвращается к себе домой после отпуска на поезде: «Поезд то летел легко и молодо, то вдруг тяжелел, и тогда застарело и близко отдавался стук колес, и Василию Михалычу казалось, что он едет рядом с огромным и усталым сердцем». Здорово, правда, здорово про усталое сердце машины.
У Михаила Тарковского есть замечатальное, почти-что детское, чувство драгоценности, ослепительности тех вещей, на которые мир наш смотрит с пресыщенной скукой. Ну что хорошего в режущей пустоте утреннего города? Ну что радостного в плывущем запахе угля? А он все это видит как некий избыток музыки земли, ее туманов и дорог. У него Михалыч, переходящий виадук над путями, не просто остановился, чтобы поправить лямку рюкзака, но «замешкался над Транссибом». Этот Транссиб, гигантом стоящий рядом с человечьей жизнью, дан в каком-то детском укрупнении мира, когда все громко, ярко и значительно. Вообще образ дороги в романе все вяжет крепким узлом, как и реальные дороги – кровные артерии нашей земли. Даже о своей любви к столичной, капризной и бесконечно привлекательной Маше наш герой мыслит «по-дорожному»: «Надо переложить гигантские рельсы в самом истоке жизни, чтобы ее (Машу) по-настоящему приблизить». А белая красавица «креста», белая птица «тойота» – тут просто поэма сложена писателем своей любимице, тут просто какая-то совсем новая песнь и гимн дороге и любви!
Вообще любовь (а она в романе и светлая, крепкая, простая как у Михалыча с Ниной, и заветная, глубокая, неразделенная как у героя с Настей, и насыщенная, пронзенная Эросом, опрокинувшая мир навзничь, как у героя с Машей) – вообще любовь у Михаила Тарковского и мыслит, и поет, и бывает чересчур красива, и чересчур требовательна. Но так получается, что вода как стихия и основа жизни, любовь и дорога (так я прочитала), у Тарковского взаимодополнительны. Или иначе: Женщина. Дом. Дорога. Это то, что нужно его мужчине-герою. Я ни у кого еще не читала такого перетекания их друг в друга: любимая женщина «чуть подавалась в его сторону» (герои – едут на машине) и «окатывало близостью, а когда отдалялась, пустело все до поворота Енисея». Никто еще не говорил такими словами о вмиг вспыхнувшей любви: «Вся жизнь перевязалась, озарилась одним вздохом, как живой водой».
Женское в романе – это легкие касания к мужскому, это вековая простота нежности, это какой-то немыслимый, причудливый окаём границ, когда отдельные «я» и «ты» становится существенным «мы», «вдвоем», «я – твоя».
Мужское в романе – это «отцовское», это некий изначальный образ «правильности», это норма навсегда, но и защита, и сила опоры. Мужское в романе – это умение «хорошо чувствовать все огромное и далекое», это умение копить в себе избыток, чтобы хватило его на горы и тайгу, на охоту и женщину, на мужское братство человеческую помощь.
И еще – в романе много атмосферы; он, если можно так сказать «атмосферический», когда непередаваемо тонкие слои жизни даны легким «мазком», изящным движением, а то, напротив, нависают как мощные напластования земных масс, вызывающие блаженную тревогу, дикую природную мятежность Енисея-батюшки, гор вокруг, с их немыслимо острыми вершинами, которые режут, кажется, и ветер.
Пока читаешь роман, не покидает ощущение какой-то правильности мира, несмотря и на разлуки и несовпадения, боли, обиды, незрячесть и непомерность городской жизни. Ведь в результате главный герой Женя Барковец вновь почувствует себя «крепко вставшим на дорогу», будто вернувшимся «в себя после долгой разлуки». Он стоит на краю Океана (приехал к другу на Сахалин за новой машиной), на краю жизни, окрепнув и закалившись в любви. «Трудно жить, когда чувствуешь путь…». Но он снова слышит ритм своей жизни, он обрел её сложное равновесие, целуя железный Крест, водруженный на краю Русской Земли…
Царский лиственьРусский писатель Валентин Григорьевич Распутин 15 марта отметил свое 75-летие
Каким свежим, полным сил, важных смыслов и решительных надежд был тот, 1988 год, когда я оказалась совсем рядом с Валентином Григорьевичем Распутиным. Мы шли в одном праздничном шествии через Волхов к древнему Кремлю, мы сидели за общим Круглым столом, посвященному вопросам современной русской литературы, мы выступали перед учителями и студентами, простыми горожанами – посадскими людьми.
В Великом Новгороде в третий раз (после Архангельска и Вологды) проводился «Праздник славянской культуры и письменности», сама возможность которого воспринималась русским культурным сообществом как большая духовная победа. Еще бы, в 1986 году в СССР впервые 24 мая отмечалось 1100-летие преставления св. равноап. Мефодия! Среди литераторов стали все чаще появляться особенные люди – в черных рясах и клобуках, к которым учились правильно обращаться, подбирая не просто должные слова, но и выискивая в своем голосе нужную почтительно-сердечную интонацию – интонацию большой Традиции, от которой были отлучены.
Мы тогда явились на праздник с Историко-этнографическим театром, в котором я выполняла работу помощника художественного руководителя по литературной части. Конечно, привезли спектакли, основанные на русской традиции – в основе которой лежало народное пение, и участвовали в культурной программе праздника всеми силами: артисты наши, только что выпорхнувшие из стен театрального училища имени М.Щепкина и специально обученные гениальным фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым, пели всегда и везде. Нас не надо было просить, чтобы огласить весь Посад широкой, мощной и торжественной песней «Ты взойди-взойди солнце красное».
Курс этот был уникальным для театральной среды. Мария Евгеньевна Велихова, дочь прославленного артиста Малого театра, воспитывала их в таком поклонении русским писателям – Василию Белову, Валентину Распутину, Виктору Астафьеву, что увидев их в Великом Новгороде вот так, рядом, сотоварищами по общему культурному делу, наши артисты испытали шок личного соприкосновения.
Нет, это был не нынешний культовый фанатизм. Это было что-то существенно иное: культурная советская среда была взорвана ими, «деревенщиками». Кто-то назвал их так, думая обидеть, а получилось новое, и сильное именно «деревенщиной», русское направление в советской литературе. Наш XX век – трагичнейший в истории – в советский свой период дал такой силы литературу, что понять и осмыслить всей ее многослойности и многосложности, мы пока не можем. Как создавалась литература несколькими поколениями, так и думать о ней, исследовать её тоже будут несколько поколений уже XXI века. Но ясно одно: литература и классическая, и современная, сохраняла важнейшую функцию – она связывала, она прошивала тонкими невидимыми смысловыми токами отцов и детей. У них был общий культурный фундамент. А само литературное пространство делилось на три части: пространство официальное (где господствовал соцреализм); русское («деревенщиков», где была боль за русского человека, и возвращение к устоям и обычаям отеческого образа жизни) и «подпольное» (тут было тоже все неоднозначно, с одной стороны, – в подполье жила «другая культура» авангардистов, а с другой стороны – так называемые «русисты», выпускавшие самиздатские журналы христианско-русского направления и сидевшие за это, как Леонид Бородин, в советских политических лагерях, или такие, как Н.Мальчевский-Ильин, печатавшие в «самиздате» статьи о русской философии).
Такого духовного подъема, такого жадного соединения с русской историко-мыслительной традицией, такого всеобщего прорыва в большую русскую историю, за пределы 1917-го, я больше не знаю, чем были эти, конца 80-х, годы уходящего «красного века». Русское национальное самосознание зародилось в недрах советского времени и «деревенщики», и лично Валентин Распутин имели к этому движению непосредственное отношение. А мы? Мы росли им в ответ. Это были именно ответственные отношения и между литературными поколениями: нам хотелось встать с ними рядом, но за свой собственный счет. За счет личного труда и личного таланта. Мы не хотели, чтобы нас «подсаживали». Мы хотели честных и достойных отношений. Поэтому единственную публичную похвалу Распутина (высокую оценку меня как критика в интервью одной из газет) я теперь ношу как высокую награду.
Родился он в России мощной, где «зеленое море тайги» сопрягалось с силой Ангары и немыслимой глубиной и чистотой Байкала. Он родился в Сибири (в селе Усть-Уда Иркутской области), а это многое дает, и ко многому обязывает. Конечно, нет никакого отдельного народа (как сейчас настаивают сепаратисты) по имени «сибиряк». Но сибирский характер, при этом, конечно же, есть: пусть он несколько грубоват в сравнении с «нежной» столичной выправкой, пусть он несколько тяжеловат на вкус мягкотелого и сдобного какого-нибудь вятича. Но зато прям, надежен, верен до гроба, смел да силен под стать холодам, да льдам, и бескрайним просторам. Народ в Сибири подбирался долго: русская история обтачивала характеры упрямо. То первопроходцев слали да казаков по царской воле, а то и каторжан-дворян, будто во искупление революционных замыслов трудившихся в Сибири таким истовым образом на благо просвещения, что, будем надеяться, и Господь принял их сибирское трудовое покаяние. Сибирь не знала крепостной зависимости, но и воля тут была особая: воля к труду, воля к земному крепкому обустройству.
Вот и Валентин Распутин оказался среди тех, кто взглянул на народ, в котором он жил, будто сквозь время, в глубь времен. И вытащил из закромов истории такие смыслы, которые, оказывается, вполне можно было примерить и к современному ему крестьянину. И восстал крестьянский мир во всю свою высоту в его книгах и пропел он «Славься!» русским деревенским старухам, и заговорил он о том, что человек не только винтик и колесико социального механизма, не только принадлежит он к «классу рабочих и крестьян», но еще и наследует отцам и праотцам, что лежат на деревенских погостах и, как в «Прощании с Матерой», вопиют вместе с живыми о тех переменах, которые губительны для народа, когда сдергивают с места, когда рубят его под корень.
Настоящую писательскую известность Распутину принесла повесть «Деньги для Марии» (1966). История проста: Мария, доверчивая и неискушенная в бухгалтерии продавщица сельской лавки, обвиняется в растрате более тысячи рублей (по тем временам для села – большие деньги). И муж ее идет к людям, ищет деньги, чтобы отдать этот долг без вины виноватой жены. Писатель уже тогда видел, что как только деньжонки завелись у народа, так не только благо они принесли. Муж Марии будто этими деньгами, что нужно отдать, оторвать от себя (и неизвестно, когда их вернут!) испытывает милосердие человеческое, совестливость: ведь Марию всем селом уговаривали встать на эту торговую должность, к которой в то время не сильно-то и охоту имели. И какие характеры писатель развернет перед нами! Кульминацией станет момент общего схода, на который сзывают ударом по рельсе (церкви-то порушили!). Сход нужен потому, что не собрал муж Марии нужную сумму – где-то в народном теле поселилась эта червоточина жадности. На сходе– то и взыщет председатель собственно не деньги уже, а в душу призовет вглядеться. Каждому – в свою. По ком идет звон над селом? По каждому, кто остался в стороне от беды Марии.
Повести «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» выходили друг за другом – 1970, 1974, 1976 годы. Писатель – на пике своей зрелости, своего мастерства, творческого дерзновения. Его много издают в России. Он по-настоящему известен всему народу русскому и в республиках СССР. Нет никакого сомнения, что он повлиял на творчество многих национальных писателей. Выросший из советской шинели, увидевший в человеке гораздо больше того, чем требовало время и социум, он, тем не менее, был отмечен и государством. Государственные премии СССР ему были принуждены в 1977 и 1987 годах. Оппоненты, которых всегда было у писателя не мало, считали, что книги Распутина переводятся на десятки языков мира только потому, что он показывает гибель русской деревни – сокрушенной и умирающей, с ее последними «старинными старухами», с ее последними, крепкой породы, людьми. Конечно, русский читатель так Распутина не читал. Как когда-то Московский Художественный театр возник в счастливый час русской истории и с невероятной быстротой был принят, понят и любим русской интеллигенцией, так и наши «деревенщики» – были поняты без каких-либо сложномудрых усилий постижения. Так – враз, с лёту – понимает душа своё. Родное, кровное, очень-очень созвучное тому, что живет внутри и готово к отзывчивости.
Старуха Анна в «Последнем сроке» многим читателям казалась «прямо вылитой моей матерью» с ее бесконечной любовью к детям, с ее терпением, трудолюбием и прощением, пониманием и величием, с христианской душой. Тут, как говорил Борис Агеев (курский писатель), перед нами великая простота живой клетки. В ней уже заложена вся жизнь, вся будущая сила. Она – начало начал. Старуха «жила как выходило»; «жила нехитро: рожала, работала, ненадолго падала перед новым днем в постель, снова вскакивала, – и все это там же, где родилась, никуда не отлучаясь, как дерево в лесу, и справляя те же человеческие надобности, что и ее мать». Только иногда ей удавалось оглядеться вокруг, да «задержать в глазах и в душе красоту земли и неба». Анна – «справляла свою жизнь». Валентин Распутин не раз повторит этот глагол «справлять» – в нем есть правота, правда, праведность и правильность, соединенные с волей человека. Вот потому он и правит свою жизнь – один, как Анна, «находится среди вечной жизни», не «переставая удивляться своему существованию» среди Вселенной, а другой ведет ее вкривь и вкось. Смерть матери для детей, собравшихся в родовом доме, и стала испытанием всей их жизни. Она умирает, а в них проявляется и что-то самое совестливое, главное, но и что-то уже накрепко утраченное, украденное в человеке городом.
Вообще женские образы у Валентина Распутина потрясающи: вот и Настёна в «Живи и помни» тоже ведь простая деревенская молодуха, вышедшая замуж перед самой войной, но и в ней мощно и чисто звучит ее огромное чувство ответственности за весь тот мир, что рядом с ней. Скрывая своего мужа-дезертира, она никогда не сможет быть счастлива только тем, что он жив. За то, что он живой вернулся домой, не выдержав до окончания войны, она заплатит самую большую цену: бросится, беременная, в реку. Она не смогла «уговорить» не болеть свою совесть.








