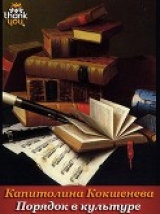
Текст книги "Порядок в культуре (СИ)"
Автор книги: Капитолина Кокшенева
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
Женщины, дающие жизнь и длящие род, в повестях Валентина Распутина и сами, каждая из них, как целая вселенная. Они слиты с миром и родом, они типичны и индивидуальны. В «Прощании с Матёрой» писатель выведет целый ряд «старинных старух» – Дарью, Катерину, Наталью, Симу. Жизнь миром в старинной деревне, которая должна уйти под воду, для создания большого водохранилища, чтобы построить новую ГЭС, – жизнь миром и в мире для этих старух находится на самом краю. Вот-вот и их переселят из деревни с историей в несколько сот лет в новое место, а их Матёру затопят воды. И в этот драматический момент для деревни, писатель погружает читателя в поэтический мир крестьянства: его глава о сенокосе – целая песня простому труду. Я и сама знаю, какое это необыкновенное ощущение жизни, какое это дивное диво – слаженное единение в труде и какое это счастье – сенокос! Студенткой, я всегда приезжала к родителям в Сибирь так, чтобы попасть на сенокосы (и на свой, но и с удовольствием ехала к добрым знакомцам родителей). Работа для всех любимых писателем старых деревенских женщин – это продолжение жизни, а жизнь длится для продолжения рода. Из рода в род. Из года в год совершался ее божественный и трудовой круг. Метафора рода у писателя – это нитка с узелками на ней. Одни узелки с одного конца распускаются (умирают люди), зато на другом конце новые появляются (новые нарождаются). Распутинская Дарья хочет «полной правды» не только для себя: строители ГЭС, которых она наблюдает, вызывают у нее тяжелые, почти трагические мысли, – она видит, как в детях исчезает что-то существенное, появляется странная забывчивость и беспамятность. Ей больно видеть, что люди стали жить неумно – «жить не оглядываясь», «облегченно», будто щепки неразумные несутся по волнам житейского моря. «Пуп не надрываете, а душу потратили», – говорит Дарья своему бойкому племяннику. Они-то жили «работой совести», помимо тяжелого своего крестьянского труда.
Имя Матёра, с которой прощаются и герои, и все мы, – снова звучит символично. Тут слышим мы: «мать»– «твердь»– «родина»– «земля». Матёра словно одна противостоит всему тому хаосу развороченной жизни, её запустению, истончению, разрушению, что надвигается вместе со строителями нового мира. Писатель говорит: «Тьма пала» на Матёру, что звучит как акт мировой, апокалиптический, а не просто трагедия одной сибирской деревни, отданной на заклание цивилизации. Земля и Цивилизация столкнулись здесь в почти библейской сшибке.
Валентин Распутин напишет еще много прекрасных рассказов, создаст знаменитый, «перестроечный» роман «Пожар», который тоже читала вся страна, сама подбирающаяся уже к своей гибели-пожару– сговору-расстрелу; напишет повесть «Дочь Ивана, мать Ивана», задолго до нынешних этнических конфликтов почувствовавшего тонким писательским нутром грядущие наши боли и тяжбы. Напишет много отменных и умных статей, каждая из которых не только наполнена до краев печально-русским смыслом, но и ободряет уже самой по себе красотой слова, которую Распутин может предъявить русскому читателю как меру подлинности. А наша мера подлинности состоит в том, что эстетика при определенных условиях становится непременно этичной. Не услышать подлинности слова Распутина, то есть слившимися в нём (слове) этики и эстетики, на мой взгляд, может только очень обделенный или очень одурманенный человек:
«Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далёко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил; когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и обвязанных одной вереей многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать и, как напитать душу ребенка добром и как утешить старость в усталости и печали – когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем, душой, напитанных родовой кровью, – вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времен оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Есть оно – и все остальное есть, а нет – и нечем будет закрепить самые искренние порывы».
Такая русская речь как-то бодрит, поднимает очи к небу и сам писатель, переживший так много большого и радостного, но очень много и горького, потерявший любимую дочь Марию (кровинушку свою, так близко-близко к сердцу его всегда расположенную), – сам писатель мне кажется тем Царским лиственем, который стоял посреди Матёры и держал, по преданию, своими корнями весь остров. Так и слово искреннее писательское каким-то последними усилиями удерживает нынче мир от безумия, – у последней черты человечности.
2012
«Дорога к себе бесконечна»Ультрареализм Ивана Зорина
«– Как ты пишешь? – однажды спросила она.
– Это просто. Складываешь ладони в шар и достаёшь оттуда слово за словом, будто рыб из воды…»
Иван Зорин
У него нет произведений большой прозаической формы – нет повестей и романов. Он пишет рассказы, до краев наполняя их художественной силой и смыслами такой концентрации, что иному хватило бы и на пару романов. Художественное совершенство – его принцип, кредо, цель. Иван Зорин его добился – просто физически чувствуешь, как отбирает писатель слова с необыкновенной для нашего времени тщательностью. Он, будто живописец, умеет рисовать словом образ: «Она лишь подумала, что кровь на снегу горит одинаково ярко – и звериная, и человечья», или зачин рассказа «Цыганский роман», демонстрирующий абсолютное стремление автора именно к живописному художественному эффекту: «Улица у нас такая короткая, что когда на одном конце чихают, на другом желают приятного аппетита, и про каждого знают больше, чем он сам. <….> Тощий как палка, и черный как грех, он целыми днями просиживал с кислой миной на лавке под раскидистой липой, потягивая брагу и отлучаясь только в уборную, так что со временем стал как поливальный шланг. От отца он унаследовал только вислые усы и верблюжью привычку. «Чай не колодец», – плевал он в шапку прежде, чем надеть. И насвистывая, шел под липу. На ней же он и повесился, поворачиваясь к ветру вывернутыми карманами, в которых зияли дыры». Вот так, с предельным лаконизмом дан человек и его судьба – скверная и бедная, простая и драматическая.
Всякий рассказ Ивана Зорина будто выступает, проявляется из сложной символической системы: он любит «прием наложения» времен, эпох, чтобы увидеть повторяемость человеческих грехов и радостей, несчастий и счастий, ведь «из века в век жизнь одна и та же». От тех, кто «топчет дороги Руси», он запросто перейдет к временам древнего Рима или в польское княжество, или в императорскую Россию, или к мрачно-романтичному средневековому колориту, или в наши дни «кавказской операции» – что «времена и сроки» для художника? Он зорко видит, что нет ни малейшего прогресса там, где человек остается наедине с собой и должен ответить на вопрос: «Кто я в этом мире?». «Так и Господь, – читаем в рассказе «Численник», – говорит из века в век одно и тоже, только переводчики у него разные». Линейное историческое время принципиально игнорируется автором, чтобы видеть необыкновенные картины бытия, – те, «где вздымая пыль, мужчина, как овцу на поводке, вёл за ожерелье женщину»; где о другом герое «говорили, что будто он проглотил беса и с тех пор носит свою судьбу за пазухой», где Параскева «счастливо перешагнула бедность, став нищенкой», где «у крика есть эхо, у дерева – тень, у берега – противоположный. У каждого есть тот, кем он не стал».
Символика незавершенного и завершенного пути дана через образ путника (а у него все герои в пути, будь то нищенка, шут, бродяжка, монах, искатель правды или иной доли, актер или художник, рыбак или писарь) – один из любимых у Ивана Зорина. Дорога у него «насыщает взор, но не ухо». На дороге можно потерять себя, легко потерять свое имя или стереть его о пыль дорог, можно «стать героем чужого сна» или узнать о себе то, чего бы и не хотел. На этом пути фигура библиотекаря, как путешествующего по дорогам самым длинным – из слов и речи разных времен и культур, – фигура библиотекаря часто играет ключевую роль в его рассказах, ведь библиотекарь владеет всей мировой культурой – ее смыслами и ценностями, всем интеллектуальным жаром, накопленным человечеством. Он – служитель. Космоса и культуры.
Тень, зеркало, двойник, сон – это образы, часто встречающиеся у Зорина, которыми, кажется, он сильно дорожит. Все они из области пограничья – между явью и неявью, вымыслом и реальностью: то герой «протыкает бородой свою тень», то «сумма дней моих – тень», о иной – «ходил как тень», а зеркало часто способно делать «человека непохожим на себя».
В рассказах Ивана есть таинственное и страшное, но не жуткое, не отвращающее, поскольку все пронзено его главным авторским желанием: мне кажется, что он хочет от человека чуда – речь идет не о преодолении смерти и страдания, но о новых возможностях человека и в самом страдании, когда «от пустоты слепнут», и «забросив язык за ухо седлают дорогу». А жизнь? Жизнь в его прозе – это «горькая настойка, и лучше пить её залпом»; жизнь в его прозе – будто «гирлянда тусклых дней, неотвязных, как лохмотья», а «мир – это лабиринт, каждый коридор которого кончается тупиком», при этом «Бог творил русскую природу со слезами, разводя сырость и слякоть», а потому «избы чернели трубами, свисая на дымах, как на веревках, с промозглого серого неба» {пожалуй, бедность («эти бедные селенья») русской природы – единственное, что роднит автора с нашими классиками, демонстрирующего «обратный взгляд» – с неба на землю, когда сверху сначала виден дым, а потом дом}. И все же жизнь у Ивана Зорина – какая-то дивная и хрупкая бабочка, легкий лепесток, тихое дуновение – причем хрупкость ее не затмевается и в физически мощных героях, даже тех, кто способен жить «принюхиваясь как зверь, к повисшей тишине», ни в палачах, ни в распятых мятежниках, ни в гладиаторах и центурионах. При том, проза Ивана Зорина совсем не сентиментальна и не тепла – в его героев «не вложишь» себя, как это делала, например, Анна Каренина, читая английский роман, или делаем мы, читая русскую классику. Отношения с читателем тут иные. Рассказы Зорина нужно зреть, видеть (а не столько чувствовать) – ему важны визуальные эффекты, благодаря которым он и достигает своей специфической метафоричности, пластичности, ёмкой сравнительности. Но зреть мы можем опять-таки с помощью слова и только слова. «Сумрак наслаивался на сумрак, как масло на хлеб, ночь лютовала, и только копеечная свечка храбро сражалась с ней», – какая речевая роскошь! Или другое: нищенка и сирота Параскева никого не любила, «разбрасывая любовь как приманку. И была по-цыгански воровата – похищала сердца. Постепенно ее коллекция включила нашу улицу, расширившись, переросла город, захватила окрестности, пока не наскучила ей самой. Тогда она разбила её, наполнив осколками всю округу, сделав мужчин бессердечными«…Осколки ворованной любви – режущие, убивающие мужские сердца – этот образ перельется дальше в рассказе «Цыганский роман» в грустное чувство – какое-то изначально осеннее, несущее бремя расставания, обещающего пустоту.
Невероятные случаи (от рассказа к рассказу накапливается «метафора невероятного») описаны во многих рассказах Зорина, герои которого часто обладают сверхкачествами (но не в ницшеанском понимании – это не сверхчеловек, отказавшийся от этики). Сверхкачествами обладает, как правило, человек, чего-то лишенный, чем-то изначально обделенный: горбун, карлик (обладающие физическими увечьями), палач (обладающий увечьем судьбы), сироты (обладающие горечью горя). Человек у писателя часто неучен, часто груб, прост нравом, но, кажется, именно в нём, человечью породу разглядеть можно лучше. Обделенные оказываются наделенными силой физической и жизненной (витальной) – таковы контрастные, интеллектуальные ходы писателя, где физическая ущербность становится одаренностью, а безнадежное и страдательное вдруг (перемена участи!) обретает покой.
Иван Зорин не любит писать об обычном человеке – ему не интересен мещанин, бюргер, обыватель, филистер, среднестатистический современный потребитель. Ключ к двери такого мира ему подбирать скучно: для него это жизнь, лишенная вкуса и запаха.
Быть может, называть его «ультрареалистом» слишком радикально? Но ведь его рассказы радикально-художественны! Да и вообще у Ивана Зорина нигде нет степенной или подвергшейся испытаниям патриархальности отношений (что я в прозе люблю), нет у него и нынешней «современности» как бездумности о себе и мире. Но что же есть, как это назвать? «Клочок родной земли» мы найдем только в некоторых его рассказах, скорее увидим «клочок исторического времени», в которое он погружает героев, но при этом никакого литературного «почвенного национализма» у него тоже нет, как нет и «участи народа». Так почему же его рассказы читаются как присущие нам?
Я бы назвала это главное качество его драм (а он пишет всякий рассказ именно как драму) бесстрашной и часто яростной независимостью от всего, что есть штамп, что серо в красках и стерто в человеке – и он хочет восстановить эту смелую способность к поступку, к отважной мысли, искреннему чувству, размещая героев на линии опасных разломов, испытывая их бедностью и богатством, любовью и завистью, гордостью и смирением. Он плохо чувствует (не видит в нашем мире?) отцовства (отечественности) как фундаментального принципа правильной жизни, а потому у его героев жизнь часто неправильная и неправедная. (Сейчас я вспомнила нашу недавнюю встречу, когда Зорин прямо с порога набросился с вопросом: «Скажи, почему у нас в судах одни женщины? Это что такое – женщина-судья?» – и такое чувствование-видение свойственно именно ему, я не знаю ни одного писателя, который бы это увидел!).
Взгляд самого Зорина (его писательское «эго») мне видится как скептический, – в этом здешнем мире мало что вызывает у него доверие, а сам мир – это пестрая карусель чрезмерных человеческих страстей, пороков, зол, привязанностей и случайностей, бессердечного и добродетельного. Потому самое главное нужно отделить от этой круговерти, – нужно так сказать о мире, чтобы высказывание звучало притчей (я вообще чувствую у него стилевое подражание библейскому): «Свой среди призраков – чужак на земле. Рожденный под луной – под солнцем умирает»; «ты написал множество букв и – ни одного слова»; «судьба семенит поодаль, предоставляя подбирать за ней следы»; ««сумма дней моих – тень», – говорит проповедник. Но где то солнце, которое её отбрасывает? Я достаточно искушен в словах, чтобы не поддаться их искушению. Воистину, перебирая, как бусы, метафоры, множишь скорбь…»
Иван Зорин, безусловно, эстет – но при этом он испытывает не красотой, а неким напряженным, концентрированным эстетическим смыслом буквально все: историю, время, профессию, любовь, человека и даже, кажется, Бога. Не случайно в рассказе «Золото, ладан и смирна» волхвы, «потерявшие лицо в пыли дорог», принесли Младенцу «самое дорогое, что у них было – меч, лекарство и слово». Есть какая-то дерзость и решимость принести Богу-Младенцу заранее то, что Он даст людям потом – новое Слово (Новый завет), которое будет и мечом, и лекарством. Бог у Зорина скорее Собеседник, нежели Судия, а христианская нравственная традиция воспроизводится часто через парадоксальность, некоторое эстетическое и этическое юродство (автор не выносит никакой моральной банальности): в рассказе «Посмотри на ближнего своего» речь идет об актере, играющем на сцене монаха (sic!), заболевшем смертельной болезнью, оказавшимся в больничном отделении, откуда живыми не выходят, переживающим общую судьбу со всеми обреченными и… единственным выжившим, поскольку диагноз был поставлен ошибочно…Он вернется в жизнь и на сцену, и снова будет играть монаха, будет жадно счастлив, но пока не может забыть (а скорее всего – забудет!) тех, «полных жгучей обиды глаз, которыми провожали его бывшие ближние, которых он предал». Ближними его совсем недолго были эти обреченные, которых он тогда любил… а потом забыл, и любил уже других ближних. Но Зорин мистик: актер играл монаха, носил рясу, ключом замыкал Библию, – потому с этим актером и должно произойти что-то из обыденности его выносящее. И произошло.
Пожалуй, что только к слову Иван Зорин относится сверхсерьёзно, а потому его собственное слово – это скальпель в руке писателя.
Вообще, он очень любит прием «обратного времени» (или «обратной перспективы») – будущее наступает раньше должного, и тогда «Сократ слушает Нагорную проповедь», а «Вергилий знакомится с учением Христа» (рассказ «Трудные уроки христианства»). У Зорина будущее может выступать вперед настоящего как некое предвестие судьбы, когда герой в будто-то бы случайно подаренной или кем-то данной книге прочитывает о себе (тут книга явно вызывает некие ассоциации с Книгой Жизни), что может его удивлять или не удивлять, но всегда прочитанное в книге сбывается. И снова зримо является авторское отношение к слову, к книжной культуре как к особой силы реальности. Так рафинированный эстетизм Зорина противостоит не только литературе факта, но и стертым цивилизацией лицам современников, все менее вмещающим в себя слово. Современность для Зорина – это анти-книга!
Рассказы Ивана Зорина объединяет не «современность», а внимание к природе человеческой – отсюда воля и действие, мысль и работа души, преобразованные в миф новой реальности равно интересны. Человек часто начинает знать себя и незнаемые силы в себе будто случайно, – но, говорит писатель, это всегда закономерно. Темы двойничества, параллельных судеб – в рассказах писателя и составляют тот художественный универсум, в котором всякая случайность не случайна. В рассказах «Игнат и Кондрат», «Родственник», «Численник» – судьбы героев зеркально смотрят друг в друга, но то, что их различит – это принципиально разная смерть. Одни герои живут долго, а «все не знают, как жить», другие «идут с миром в противоположных направлениях», третьи «не продаются, потому что их не покупают», но при этом страшно гордятся, что непохожи на других, четвертые действуют без всякой надежды на успех – и …автор никому не отдает предпочтение. Не отдает именно потому, что высоту и ценность всех этих человеческих действий и намерений, трусости и храбрости определит только смерть. Нет, жизнь совсем не теряет от этого значение, но как «сытость истории» измеряется, увы, человеческой кровью, так полнота жизни – смертью. Таков тотальный смысловой эффект его прозы. Да, современный мир явно не имеет каркаса (сохраняющей и охраняющей его иерархии), а потому писателю остается одно – наслаждаться безупречной логичностью повторяемости, смело вступать в перекличку с культурными эпохами, добывая в этой внутрилитературности вечность для искусства слова. Он не уступит Слова современности! Так тоже открывается долгий и по-настоящему важный путь к себе.
2010








