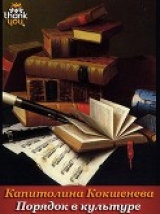
Текст книги "Порядок в культуре (СИ)"
Автор книги: Капитолина Кокшенева
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Нам нужен Русский культурный союз, мощный современный творческо-интеллектуальный кластер, объединяющий не только соотечественников за рубежом, но и русских творческих людей в Отечестве, взаимодействующий с крепкими, туго свитыми национальными культурами внутри России. Нам нужны каналы общественного влияния, нам нужно народное телевидение и народное кино, нужен русский массовый культурный продукт высокого качества, опирающийся на нашу систему ценностей. Нужна государственная программа «Классика», поскольку именно она, классика, является фундаментом культурного единства нации.
Культура – это шит и меч одновременно, научающая человека говорить «нет», научающего его использовать культурные фильтры, и бороться за «право не знать» мерзостей и разврата анти-культуры. Оборонное сознание – это и культурное сознание!
Как и кто может эти конфликты сделать источниками развития? Я полагаю, что это может мыслящая Россия и ее национальная интеллигенция. Любые реформы, претендующие на успешность, не должны искажать нашу сущность, моральные принципы и нравственность народа-нации. В том числе экономический язык «должен быть согласован» с ценностями национальной культурной почвы (Н.Козин).
Человек, не знающий кто он и откуда, из какой истории вышел, в точь так же не знает «коды» русской культуры. А радикальный разрыв с отеческим (и своей культурой) приводит, как мы видим к тому, что уже не только экономика стала местом господства в чужих землях произведенных товаров, но и душа русского человека стала вместилищем инородных задач и «оранжевых кодов». И это страшно всерьёз, когда твоя собственная, единственная, неповторимая, уникальная живая душа становится полигоном для насильственного или добровольного (что еще печальнее) испытания чужих флэшбомов, целей и смыслов!
Так происходит потеря себя – своей самобытности и духовного самостоянья, которые от века были для русской культуры и истории источником силы, выковывающей наши подвиги и хозяйственные прорывы, наши открытия, дерзания и наше развитие. А подлинных интеллектуальных, творческих самобытных сил для культурного прорыва у нас по-прежнему достаточно и в кино, и в литературе, и в гуманитарных науках. Только нужно дать наконец-то и им свободу! Только нужно их наконец-то призвать на государственное служение.
«Ты один мне поддержка и опора»У современного прозаика Светланы Василенко в одной из повестей все жители деревни, крестьяне, становятся по своей воле немыми. Безъязыкая деревня отказывалась говорить с властью, а исторический фон повести (раскрестьянивание 30-х годов) возводит домысел автора до мощной метафоры: народ больше не мог быть «языком». Ведь прежнее, существенное и ясное, представление о «языке – народе» предполагало, что язык дан человеку для того, чтобы говорить с Богом. Но это высшее предназначение языка постепенно изменялось – огромный семантический пласт языка, опирающийся на христианское мировидение, серьезно пострадал в период атеизма и, увы, сегодня его статус восстанавливается медленно, а зачастую – в искаженном смысле (журналистам удобнее пользоваться «церковным сленгом»: «правительство мироточит», вип-персона обладает «ипостасью» и пр.).
Казалось бы, что язык наш – русский – все «растет» вширь, все «обогащается» под натиском новых информационных технологий. Языковое древо разветвилось на язык бытовой и разговорный, литературный и специальный, бранный и блатной, «офлайновый» и «язык падонкафф» (или «пОдонков»). Но все это внешнее дробление, расщепление, языковое приумножение, в сущности, значит одно – тотальное омирщение, упрощение и искажение языка. Язык стремительно теряет свое богатство, свою связь с глубинами народного духа, свою национальную особинку. Столетиями наш народ выговаривал себя в песнях, былинах и сказках, создавал светлые и положительно-мощные образы героев, тем самым непосредственно творя умное будущее своего народа, утверждая добро и правду, обязательно следующие за испытаниями. Но ведь и еще совсем недавно, в XX веке ««старики» – если так можно назвать плеяду художников слова, начавших писать в середине XX века – работали на огромном «избытке» языка, подпитываясь у реки народной речи, сохранившей десятки оттенков одного понятия, скопившей в своем сердцевинно-глубинном течении широкую образность, художественное осмысление мира – весь воздух жизни. Молодые писатели пишут уже в условиях гипоксии, недостатка воздуха, недостатка языка, его оскудения и забвения. А ведь язык – это народ, заново его «сочинить» нельзя» (писатель Борис Агеев).
Но если все-таки языки сегодня «сочиняются», то не вправе ли мы поставить вопрос: что происходит с обратной связью? воздействуют ли, субкультурные языки уже на сознание народа, ведь само по себе появление компьютерного жаргона, сленга тусовки, жаргона геймеров, сленга наркоманов и секменьшинст, руленга (русского инетрнет-языка), языка завсегдатаев чатов явно ведет к росту взаимного непонимания между различными общественными группами, расшатывает языковые нормы, снижает общий уровень языковой культуры.
Очевидно, что молодежно-сленговый «язык падонкафф» свидетельствует о процессах фонетического искажения языка, которые, в свою очередь, нацелены на подчеркивание своего отличия – выделение из суперобщности-народа. «Свой язык» в данном случае – это особый код для «посвященных», пароль для «избранных». Но каков смысл в написании слофф искажающих их фонетический образ? Некоторые исследователи-наблюдатели считают, что фонетические искажения – это вызов падонкаффской контркультуры культуре официальной. Врубились кросавчеги? Превед вам! Аффтар, выпей йаду! А тот, кто сегодня напишет роман на падонкаффском, имеит шанс стать асноватилим новава литиратурнава изыка. Но кому и чему делается «вызов»? Социологи не раз подчеркивали, что контркультура и субкультура в современном мире – это хорошо управляемые и режиссируемые процессы. Процессы, подчиняющиеся рынку определенных потребительских услуг. Во-первых, личностное сознание здесь задавлено (отсюда и самоопределение – «подонки»). Личности как центру человеческой культуры, высокий статус которой утвердил сам Господь, воплотившийся в Богочеловека, в субкультуре противопоставлена именно не-личность. Но может ли не-личность чему-либо противостоять: официальной культуре, модным интеллектуальным тенденциям, идеологии партий и корпораций?! Здравомыслящим ученым давно понятно, что «противостояние» контркультуры – это блеф, рассчитанный на подростковый цинизм, юношеский динамизм и личностную незрелость.
«Подонки» управляемы. И управляемы прежде всего через сексуальный инстинкт, через игру витального культа силы, денег и успеха. Совершенно очевидно, что все это – не ценности русской культуры. Прежнее «европейничанье», о котором предупредительно говорили лучшие русские философы и писатели (Н.Я.Данилевский, в частности) давно и целенаправленно превращено в «американничанье». И не нашлось пока ни государственной, ни общественной силы, чтобы не повторять уроки чужой антикультурной истории. Напомню эти уроки: В США, по подсчетам исследователей, к 18-летнему возрасту ребенок видит на экране более 180 тысяч актов насилия, из них примерно 80 тысяч убийств. «По данным агентства Mediascope за 2003 год, 66 процентов детских передач, транслируемых в США, содержали сцены насилия, причем в трех четвертях случаев оно никак не наказывается. Убедительным представляется мнение российского американиста М. Хазина: «Известно, что самые высокие рейтинги собирают демонстрации полового акта или же натуралистических сцен насилия. Вопрос возникает в этой связи только один: в чем заключается задача телевидения – в воспитании подрастающего поколения или в стремлении максимизировать свои прибыли? Только государство может контролировать телевидение, однако в США такого контроля над содержанием эфира нет. С экранов пропагандируется культ денег и силы. При этом даже многочисленные христианские организации в США, лоббирующие законы, которые могли бы изменить положение, ничего не могут сделать – приоритет денег выше всего. Отсюда и те последствия, которые мы видим: расстрел подростками детей в школах стал для США закономерным явлением»» (Н.Акуленко).
Языковая субкультура намеренно поддерживает девиантное поведение и сознание, что опять-таки не выгодно государству (главная цель которого – самосохранение народа), но выгодно рынку. Снятие языковых табу неизбежно ведет к растормаживанию человеческой психики, поколенческому эгоцентризму, личностной безответственности, социальной апатии и деструктивности (особенно– подростка).
Многие лингвисты говорят сегодня об англоязычной языковой интервенции, которая ведет к варваризации русской речи, к англо-русскому сленгу (русанглу). Самые заметные процессы этого направления происходят в пространстве Интернета: компьютерный жаргон уже не просто обслуживает профессионалов, но меняет стиль языкового общения. Современный компьютерный жаргон напоминает по точному определению А.Е.Войскунского «кириллическую латиницу»: «Впервые после 1920-х годов русская азбука потеснена латиницей. Особенно это заметно в пересекающихся «виртуальных пространствах»– рекламном бизнесе, индустрии компьютерных игр и Интернете» (Г. Гусейнов). Если согласиться с утверждением исследователей, что большинство отечественных компьютерщиков обладают «высоким интеллектом и развитым чувством юмора» (Ф.Смирнов), то придется признать и тот факт, что интеллект в данном случае совершенно оторван от почвы (человеку все равно – пользоваться кириллицей или латиницей), а это значит, что он становится геокультурен – ему легко перешагнуть любые границы: государственные, национальные, языковые. Он ни к чему не привязан и ничем не дорожит, внутри собственной культуры он становится своеобразным «внутренним эмигрантом». Конечно, я не хочу сказать, что нет исключений, но только подчеркиваю, что таит внутри себя, в свернутом виде как потенциальное направление развития поддержка «кириллической латиницы». Да, мне могут возразить, что существует и обратный процесс, мол компьютерная терминология не просто заимствуется, но ей свойственны и семантические новообразования. Так, в русском изводе, клавиши называются «батонами», винчестер – «веником», монитор – «глазом», портативный компьютер notebook – «бочонком». Но здесь ли нам видеть «развитие языка»? Ведь «новые слова» таковыми, в сущности, не являются – они только «намекают» на ассоциативную связь с речевым первообразом (глазом, бочонком) в их простейшем разговорном употреблении, но не отказываются и от сниженной лексики. Речь идет о такой фонетической «обработке», в результате которой у русского человека возникают ассоциации с ненормативной лексикой, ругательствами и табуированными выражениями (позволю себе только один пример: блювануть – обработать почту в редакторе Blue Wave). Так каким же образом сочетаются «высокий профессиональный уровень компьютерщиков» с настойчивым и активным использованием ненормативной лексики и жаргона? Очевидно, что проблема лежит не в плоскости технологий, но в области нравственной. Новые технологии не прибавляют культуры, а рожденные ими «языки» – чаще всего связаны с снижением языкового богатства, потерями речевого багажа.
Связь языка с внешним миром очень тонка и существенна. Так, Г.О.Винокур в 1925 году, когда «новый строй» активно утверждал себя и в языке, писал: «Штампованная фразеология закрывает нам глаза на подлинную природу вещей и их отношений, …она подставляет нам вместо реальных вещей их номенклатуру – к тому же совершенно неточную, ибо окаменевшую. …Поскольку мы пользуемся ничего не значащими лозунгами и выражениями, то бессмысленным, ничего не значащим становится и наше мышление. Можно мыслить образами, можно мыслить терминами, но можно ли мыслить словарными штампами?». Кажется, нынешние новые языки, требующие умения пользоваться именно штампами, напрочь лишают человека способности к индивидуальной речи. «Демократизация культуры» после Октября 1917 года сопровождалась и «демократизацией» языка. Так, стало принято употреблять существительные с пренебрежительно-фамильярным суффиксом: столовка, читалка, экономичка, изобразилка; активно распространялись малопонятные народу заимствованные слова как ультиматум и инициатива, пленум и персонально; стремительно распространялись сокращения – студент АКВ (Академии коммунистического воспитания), Чеквалап, прозодежда; изменилась эмоциональная окраска слов, их ситуационный смысл – элемент, вояж, лишенец, просвещенец, попутчик.
После 1991 года, когда была отменена цензура, речевая практика в обществе тоже приобрела приметы времени: теперь активность реформ отражали новые термины, со звучной фонетикой: регионализация, криминализация, фермеризация, спонсирование, инвестирование, лоббирование; модные слова подвижки, панацея, импульс, стабилизация, эксклюзивный потеряли свое вполне определенное, а главное – реальное значение. Трудно увидеть культурную норму в типичных чиновных выражениях, ставших новыми шаблонами: «конференция показала о том, что…», «на основании каких-то материалах…», оздоровление экономики, предвзятые барьеры, Россия больна сегодня здоровьем людей, Россия занимает здесь главное лицо, местные власти борются с нехваткой средств; как трудно не заметить активное употребление слов и выражений, весьма ловко скрывающих суть явлений: социальная незащищённость (нищета), привлечение фирмы такой-то к благотворительной деятельности (это могут быть и незаконные поборы с предпринимателей); путаны (проститутки) и пр.; а о проникновение жаргона в публицистическую и устную официальную речь говорилось не раз.
Пропаганда классической литературы, бережного отношения к русскому языку вполне могла бы стать основой национального проекта «Культура». Но его нет, и, возможно, еще долгое время не будет, так как для такой проект неизбежно приведет конфликту целей, потребует существенного обновления культурной идеологии, признания иерархии как принципа существования культуры, в которой нет и не может быть равенства. Но и без высокой культурной нормы, без установки на настоящее и ценное, национальный проект в культуре бессмыслен. Если «для всякого народа величайшее и важнейшее целое есть он сам» (Н.Г.Дебольский), то отсюда следует, что первичный критерий культурного и языкового творчества нации надо искать в ней самой. И здесь нам не помогут ни европейские эксперты в культуре, ни наши сторонники перманентной культурной революции, заинтересованные в затемнении культурно-исторических смыслов (последнее провокационное заявление шоумена М.Е.Швыдкого: «тусовка – это имитация империи»).
Но все же, современная классика как фундамент нашего культурного единства и современная почвенная литература сохраняют и развивают родной язык. Память о «первом, главном его назначении – богообщении … осталась лишь у больших художников слова, под чьим пером, может быть, и независимо от их желания, обинуются низкие, грешные смыслы, и выявляется то, что читатель безошибочно чувствует, как святое» (Б.Агеев). И эта пра-память языка никогда не даст подлинному художнику пускаться во все тяжкие языкового эксперимента, превращая богатство фонетической и смысловой его окраски в мычание, двусмысленность, паразитирование, экзальтированную громкость или ложноумную «философичность». Подлинное слово питается любовью ко всему сущему – ведь все, достойное любви, из мира не исчезает. Ни любовь к детям и родине, ни любовь к женщине и матери, ни любовь к свету дня и летнему теплому дождю. Русский язык – это и богатство наша, но и наша опора, наша охранная грамота. Я хочу процитировать отрывок из повести Валентина Григорьевича Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». Писатль признавался, что для него это совсем не случайные слова. «Я думал над ними и вложил в них и свою коленопреклоненность перед нашим языком: «… когда звучит в тебе русское слово, издалека-далеко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил; когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и обвязанных одной вереей многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребенка добром, и как утешить старость в усталости и печали – когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой – вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времен оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Есть оно – и все остальное есть, а нет – и нечем будет закрепить самые искренние порывы».
Критический авитаминозС начала 2010 года критики бросились «подводить итоги»: кому-то хотелось решительного «обнуления литературы», а потому будущая жизнь была обещана отнюдь не всем писателям, но каждый критик выстраивал тут свои стратегические списки допущенных. По сути, критики как литературные кавалеристы быстро прошли сквозь писательские ряды, оставив в «живых» на свое усмотрение кто Личутина и Проханова, а кто Маканина да Гандлевского. Это, впрочем, уже и не суть важно, поскольку само «осмысление» литературного процесса было столь бескрыло и рутинно, настолько лишено вдохновения и интеллектуальной страсти, что впору говорить о социологии критики и литературных нравах, чем о понимании критиками литературы.
В критических итоговых статьях были заметны такие тенденции: никто не обнаружил евристического восторга перед литературным произведением, что, на мой взгляд, превращает критику не в «науку понимать и помнить», а в «науку забывать». Прочитав итоговые обзоры В.Бондаренко или Н.Ивановой, в которых в основном повторяется то, что говорилось много лет тому назад, начинаешь предполагать, что эта критика пишется не личностно, а как формирование некоего пространства для «единства ответов» или «тактики дня» – при этом каждый из критиков будто бы с высоты своих заслуг стоит над всеми и, так сказать, обобщает сказанное (особенно типична в этом отношении статья Бондаренко в ЛГ, где он «обобщает» чужие мысли о «новом реализме» и ничего своего!). А Н.Иванова, например, по-прежнему боится «значительного героя» как проявления советского наследства (сколько можно вбивать эти ложные страхи в головы читателей? Именно критик Иванова и похожие на нее молодые – сами стали «объектами» для демонстрации того, как это самое «советское», эти самые «эстетические правила» сидят именно в их собственной «подкорке»). Ну, а быть «тронутой» тем, «что сегодня надо опять доказывать, что в искусстве важно не что, а как», читается настолько жалко-непродуктивно, что можно опять-таки снисходительно списать сей пассаж на хорошую советскую выучку критика Ивановой, на уровне подсознания носящей в себе «проблему формы и содержания».
Конечно, в критике есть и другая тенденция, которую можно обозначить так: оскорбить слух и испортить воздух, чтобы привлечь внимание. Всем известен грозный и «хмельной» питерский критик. И обсуждать тут нечего. Хотя можно вспомнить в «оправдание» такой критике даже классиков. Так, кажется Чехов, вспоминал критика Стасова, который был наделен особым, по наблюдениям Чехова, умением – «эстетически пьянеть» и от помоев.
Свобода больше не правит бал в литературно-критическом пространстве – свобода требует смелости, независимости, личностной способности к борьбе за свои эстетические и этические принципы. Вместо свободы сегодня мы видим профит и гешефт. Формирование литературной элиты нулевых – это стратегия для будущего. И слишком многие были забыты: Бондаренко «забыл» Галактионову, исчезли из «актуального пространства» Голованов, Сычева, Тарковский, Отрошенко, не говоря уж о провинции, Зое Прокопьевой, например, – той провинции, которая вообще-то никогда не присутствовала и в мыслях у ряда столичных критиков. В общем, были поставлены затворы на кровеносную систему русской литературы. Хотели вроде как честного балансового отчета, но не вышло никакой «стеклянной ясности».
Никакие новые или значительные идеи не прочитываются в критике нулевых, и настолько оскудела мысль, что молодые и якобы дерзкие критики вновь заунывно затянули песнь о новом реализме, как совсем недавно с ловкостью цирковых иллюзионистов превращали в метафизический реализм любой литературный хлам (о, тут море разливанное пошлости и, опять-таки скверно, что так интеллектуально пусты наиболее активные – М.Бойко, например, с его благоглупостями о метафизике).
В общем и целом литература утратила власть, но власть (держатели госденег) помнит о некоторых литераторах, поддержавших эту власть в период смены собственности и политсистемы, а потому бросает «мозговую косточку» именно им, всякий раз разыгрывающей историю со свободолюбием, якобы свойственным этой части интеллигенции. В проект этой игры входит и то обстоятельство, что те же самые лица, поддержавшие Ельцина, поругивающие Путина и размахивающие истлевшей тряпкой «реставрации советизма», – те же самые лица клюют «по зернышку» все с той же властной ладони, которую они «презирают». Ни в какой литературной тусовке не осталось священной веры в подлинность того, что делается. Впрочем, Николай Петрович Ильин об этом говорил несколько лет назад: «Один из ярких примеров такой игры – уже ставшие «традицией» игрища на площадках «Дня литературы» и «Литературной газеты», где сражаются «русские» и «русскоязычные» писатели, для которых в русском языке давно есть поговорка: «хрен редьки не слаще». Конечно, как и у всякого «учения в условиях, близких к боевым», и здесь есть реальные жертвы – те немногие, кто продолжает принимать «военную игру» за настоящую войну. Но таких простаков – единицы, и уж по крайней мере их нет в высших эшелонах условных противников, где произошло полное срастание верхушки «писателей-традиционалистов» и «писателей-авангардистов», включая их многочисленную «критическую» и «философскую» свиту».
Я, например, могу лично, так сказать, засвидетельствовать: в прошлом году либеральнейшая Н.Иванова называла меня «русской националисткой» (естественно в это понятие она вкладывает негатив фашистского толка), а в этом году патриотичнейший Н.Дорошенко определил по ведомству фашизма и «коричневого пространства» Александра Потёмкина, меня и нескольких писателей, очевидно, не достойных «честных глаз» редактора-патриота. Противники сошлись, так сказать, на почве ненависти к критику Кокшенёвой, из которой, правда, никому и никогда не удастся сделать «жертву» (степень независимости Потёмкина и обсуждать глупо), поскольку я не собираюсь ни с кем состязаться и «дружить против…». …Мне глубоко чужда и «лавочная осторожность» патриотического (размягченного и больного) крыла в виде «организации писателей»; как глубоко отвратителен ползучий цинизм профессиональных либералов, который медленно и настойчиво все сводит к среднему и низшему, смотрит на все снизу и все объясняет снизу… «в этой проклятой стране с отвратительной историей», воздухом которой им так невозможно дышать..
Сейчас заметно и другое. В новом поколении критиков (тридцатилетних) изменились привычные очертания почвенников и либералов – «кончились» большие идеи. Более отчетливые либеральные очертания имеет критика Сергея Белякова, а почвенные – Андрея Рудалева, но все эти границы тоже достаточно пунктирны, своеобразны, а, быть может, более реалистичны и пластичны в своих принципах (в сравнении со старшими поколениями).
Направлениям и литературным лагерям молодые критики противопоставили заединщину (Попугана) – хорошо сбитые группки, сохраняя при этом возможность заводить отношения со «старшими», обеспечивающими место в тусовке (и только некоторые из них способны к личному выбору в отношениях). По критическому честолюбию своему они с уверенным наслаждением «вдыхают фимиам», который обильно воскуривают друг другу часто в скудного содержания «полемиках», заваливая литературное поле текстами сорными, написанными неряшливо, «по случаю». Они не дают сами себе «наполниться чистой водой» (отточить мысль и мастерство), а потому торопливо и жадно готовы черпать жижу из «случайной лужи», спешно выплескивая эту муть в литературное пространство. Но поскольку они хотели и хотят легитимности в критике, и, естественно, самореализации, то, собственно, неизбежно вступили на поле её величества игры, когда «живая протестация», своеобразная эстетическая «ересь» тоже продуманы и в определенных границах допустимы. Но, по большому счету, в молодой критике практически нет даже и «ереси» – все уныло, никакого «нового принципа», никакой «своей мысли» или с жаром прожитой, с темпераментом прописанной мысли «чужой» (нынешние критики, в основном, «идей не водят»!). Процесс мышления (особенно в дамском исполнении) заменяется несчастной способностью нагружать текст терминами «научными», когда кажется, что и сам пишущий (критик) себя плохо понимает. «Стиль мове гу» – как иронически сказал еще Маяковский в «Бане».
В современной критике преобладает принцип партийности (понимаемой как принадлежность к организации – СП или Пен-клубу, или принадлежность к группе, требующая «личной преданности» вместо преданности делу – «ганичевской», «гусевской», «прохановской», «поляковской», «шайтановской» и пр.). Примером такого спецстиля стала для меня статья-доклад Аллы Большаковой о современном литературном процессе, который «претерпел большие изменения». Статья, собравшая в себе все возможные штампы и оценки, принятые «ганической организацией». Я испытываю искренние огорчения, что такой образ мыслей принят за некий эталон: все эти «качественные подвижки и в жизни, и в литературном процессе» (какие? в чем?).. или заявки типа «теперь на каждом литуглу повторяют, что никакого постмодернизма у нас нет и не было» (ничего подобного – никто не повторяет!); все эти вопрошания – «в каких направлениях движется современный литпроцесс? Пребывает ли он все еще в виртуальных грезах (??!! – К.К.) или выбрался наконец к долгожданному освоению новой, сдвинутой с привычной колеи реальности?» – все эти небрежные и какие-то поверхностные, дикие характеристики лично меня приводят в полное недоумение, как и абсолютная пробуксовка мысли (вне всякой колеи!). Ни одной новой идеи! Сплошные литобъедки. Ну хорошо, не все способны к подлинному и новому, но тогда хотя бы потрудись дать элементарно-грамотный анализ, а не умучивать не просто плохим мышлением, но и плохим русским языком, как в заключительном выводе о «разнообразной палитре художественно-эстетических средств», что «позволяет писателям вылавливать еле еще видные ростки возможного будущего» (это, простите как?! и о чем вообще?!)
Я совершенно не намерена никого учить, – моя задача та же, что и всегда: я отстаиваю в критике и литературе принцип христианской личностности и принцип национальности (народности). Отстаивание этих принципов как принципов моей критики неизбежно ведет и к непониманию (отторжению), и к одиночеству (ярким проявлением которого является нарочитое замалчивание, ближайший пример чему – статья С.Сергеева в «Литературной России» от 30 апреля. Пока Сергей работал в журнале «Москва» я была для него авторитетным и ярким критиком, а вот его изгнание из журнала, собственная обида, с которой мужчина не справился, стали тут же мелочно пущены в ход – статью завершает пассаж, что после Казинцева (давно уже не критика) и Бондаренко у почвенников (кстати, термин, возвращенный мной в современную критику) «не появилось ни одной по-настоящему творческой личности»). Впрочем, это не важно, что думает обо мне Бондаренко или Сергеев – меня читают и знают во многих городах России. Дело в другом – С.Сергеев (историк) давно ведет ревизию русской литературы. Полемика между Сергеевым и Юрием Павловым интересна сама по себе (независимо от Белинского) – интересна, так сказать, своими опорами.
Юрий Павлов, безусловно, мыслит себя как критик-патриот и государственник. Он изначально верен определенным принципам, которые так или иначе проговаривает в своих статьях (увы, огромные статьи. напечатанные в газете, читаются с трудом, если вообще-то их дочитывают до конца – это медвежья услуга Павлову). Сергеев прав, говоря о провинциализме Павлова (но я вижу тут не просто скуку, как Сергеев, а именно постоянно проговариваемую верность оценок, некий спрос с любого явления – насколько оно русское? И тут у нас тоже много накопилось освоенных приемов, которыми Павлов и пользуется. Сергеев упрекает критика в начетничестве – но, во-первых. «трудящийся достоин пропитания», а во-вторых, кто он сам, господин Сергеев, столь ли творческая личность? Какие новые идеи есть у него?
Для Юрия Павлова, как я его понимаю (и для многих наших патриотов тоже), существует приоритет государства и государственности. Сергеев, кстати, опираясь на западных интеллектуалов (несамостоятельность в данном случае – только констатация факта, но не укор), пытается говорить о другом: первична нация, но не государство. Да, я тоже считаю, что нация-народ первичны (они создавали государство, а не наоборот). Сергеев не умеет доказать почему первична нация, а потому начинает бороться с русской историей, чтобы проиллюстрировать свою мысль: то Романовы и империя убивали нацию и не давали ей состояться, то дворяне-сволочи боролись с нацией, то русская классика давала искаженную картину действительности и уводила сознание на ложные пути и т. д.
Но задолго до Сергеева в своей статье о Страхове Н.П. Ильин писал, что уже Страхову было ясно, но неясно Сергееву при полном отсутствии у последнего философской культуры мышления. Так вот, русским мыслителям давно ясно, что художественная литература не может дать полновесного мировоззрения. Но это не значит, как мило нам напоминает чужими словами Сергеев, что она – «красивая ложь». Тем не менее, между художественным словом и словом философским (дающим мировоззрение) есть глубокая связь (и русская литература отразила эту связь через тип русского человека, существенное в его нравах, в самосознании, в языке). Понять эту реальную связь, увы, позитивисту Сергееву уже не по уму. Ему уже ничего не остается как впадать в аншлаговое осмеяние, издеваться, ерничать (это надо же, П.А.Вяземского – сплетника и развратника – цитировать в споре о Гоголе!). И вообще статья «Павлов как симптом» испещрена какими-то интимными деталями, в которых демонстрируется знание подробностей из жизни писателей (модный и бедный принцип «писатель без глянца»!), с другой стороны, как напомнил Н.Ильин об оценке Страхова, данной Леонтьеву – факты видит, а «идей не имеет». Такая защита нации и очищение места для национализма (как его представляет Сергеев), непонимание метафизики русского человека и русской культуры – чем это лучше «подозрительности» Павлова и его бдительного поиска русофобии? Кстати вопрос, столь педалируемый Сергеевым и Павловым, о «русофобии» или любви к России западников и славянофилов – вопрос давно не актуальный, не содержащий вообще той непримиримой оппозиционности, которая видится оппонентам. Ну и что, что герои русской литературы говорили: «ах ты сор славянский, ах ты, дрянь родная!». Этот, как и прочие примеры, отнюдь не свидетельства мировоззрения писателя (в данном случае так говорил герой Н.С.Лескова), осмысленной веры или неверия в Россию, укрепленной или неукрепленной в сознании любви к ней.








