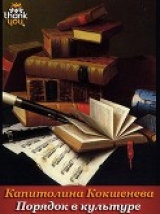
Текст книги "Порядок в культуре (СИ)"
Автор книги: Капитолина Кокшенева
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Но есть еще один важный смысловой аспект, связанный с фильмом «Достоевский»: для того, чтобы сделать актуальными споры «западников» и «почвенников», христиан и революционеров, чтобы протянуть линию мысли от XIX столетия в день сегодняшний, – для того нужно обладать высокой культурой мышления, которая категорически не востребована ни современным «неразумным эгоистом», ни любителем телесных «тайн». По существу некультурные потребности этих групп навязаны всему социуму.
С другой стороны, слепота даже ради благой цели, вряд ли даст нам силы. А потому мы обязаны видеть, что процесс диффузии сегодня затронул не только политическую жизнь, но и гуманитарные области, и непосредственно литературу.
Мы видим, что огромной затвердевшей коркой покрылись от трибунных повторений слова о «сокровенных замыслах о России», об «избранности России в океане духа», о «борьбе за национальную идею». Пользователи столь важных слов не заметили, как забетонировали ими живую русскую жизнь. И мне эта тенденция кажется более опасной, чем сочинения тех писателей, которым не дал Господь веры, но которых тянет «порассуждать» о христианстве, т. е. которые и не скрывают, что для них православие (христианство) – это только интеллектуальные «системы мысли». С другой стороны, рыночная трескотня о всяческих «угрозах», коими будто бы напичкана наша жизнь, нуждающаяся то в «десталинизации», то в борьбе «с искажениями истории», обладает исключительно мертвой хваткой (и жизнь этих мертвецов поддерживается искусно, но искусственно).
В современной России, кажется, не осталось ни одной чистой идеи. И не осталось героев, способных «умереть за идею». Мне кажется, что дошли мы до некой крайней точки «свального идейного греха», а потому редкий писатель строит сознательно и последовательно как Достоевский свое творчество – строит как национальное мироздание, где «идейность» – фундаментальное качество прозы. Прозы, в которой, звучит мощно и цельно главная мысль: если человек не подобен Богу (Христу), то он разрушаем.
Христианские корни творчества Ф.М.Достоевского очевидны. И нам не грех вспомнить о тех, кто лучше других понимал задачи писателя, например о Н.Н.Страхове. Критик, философ и публицист (о нем глубже всех написал современный философ Н.П.Ильин) говорит, что, несмотря на то, что Страхов высоко ценил русскую литературу, однако смотрел на русского человека совсем не сквозь призму литературы, но напротив: судил о «русских писателях по их способности выразить правду о русском национальном характере». Для критика Достоевский предъявил нам во всей глубине русского человека в ситуациях его «трагической борьбы за самого себя». Вот это-то как никогда актуально, но напрочь отсутствует в фильме!
В частности, говоря о «Преступлении и наказании» Страхов указывал, что в Раскольникове именно что «помутился» образ русского человека (и тут мы снова вопием – о нас, о нас!). А что значит «помутился»? А это значит, что «произошла внутренняя измена самому себе». Ключ к трагедии Страхов видел в словах героини, написанной с высочайшим художественным блеском, – в словах Сони Мармеладовой: «Что вы, что вы над собой сделали!». Русский человек сам себя уступил злу – это главное, что видел Достоевский и видит современная литература, но не пожелали увидеть создатели фильма.
Но потому Достоевский и национальный гений, что там, где останавливалось и останавливается множество писателей (современных – особенно, умеющих описывать только «помутнение»), он находит развитие: после измены самому себе, Достоевский изображает «возвращение русского человека к самому себе»! Вот в этой-то точке и виден художественный гений писателя: он заключался в «изображении борьбы с властью «извращенных идей» над душою русского человека» (так наш современник Н.П.Ильин читает Достоевского в понимании Страхова – видит именно так, как следовало бы видеть и Хотиненко, чтобы не лгать на писателя). Но современные культуртехнологи требуют обратного: их воодушевляет разглядывание и получение чувственного удовольствия именно от смакования «извращенных идей». Вот и получается, как у Хотиненко, анти-Достоевский! Только справедливости ради скажу, что вопросы о. Александра Шумского: «Разве такая ходульность – не издевательство? И у любого несведущего зрителя невольно возникает вопрос: «Как этот сексуальный маньяк смеет еще что-то говорить о нравственности и Православии?»»? – вопросы эти, увы, можно адресовать и к нынешним «православным писателям», которых частенько «никто не читал», но все знают, что они – «православные писатели», и не клеймят, как Хотиненко, а напротив, награды еще выдают.
И, наконец, последнее.
Будем помнить, что в наше время легко совершаются всяческие подмены, а личное человеческое развитие трактуется как «измена». Мы просто обязаны увидеть, что «защита маленького человека» с его правом радоваться своим маленьким радостям (новой шинели), с его правом на свою обыденность и повседневность, на которую посягает (отбирает, уничтожает, оскверняет) большой внешний мир, – мы просто обязаны видеть, что всё это теперь взято на вооружение теми, кто с помощью «малого мира повседневности» разрушил и будет разрушать Большой мир и большие цели (об этом первым писал А.Н.Панарин в том числе и в журнале «Москва»). Нам говорили, что повседневность («мирок в шесть соток», «личная кочка») неангажированы, и якобы ради этих «маленьких людей» и их права на неангажированность производится туча реформ. И советские же писатели и советская интеллигенция, «удушенные» объятиями большого государства с его большими целями, с ощутимой симпатией отнеслись к свободам маленького человека, выставленного против государства. Постепенно и оформился этот ново-маленький человек.
И что мы видим? Приватный ново-маленький человек (он же – «маленький гигант большого секса», он же – «комеди-клабист») победил государство всюду – в культуре тоже. Не только в советское время государство воплощало в себе «совокупный социальный капитал нации». А это значило, что культуру, науку и образование никто не мог приватизировать с тем, чтобы использовать их в своих корпоративных целях. Государственный их статус гарантировал их общедоступность и возможность быть в распоряжении всей нации (вспомните о государственном культурном строительстве в XVIII веке, например). Да, в советское время существовала гипертрофия больших целей, существовала узурпация «прав повседневности», но оставалась возможность подлинности как таковой. А вот сейчас, и само государство превратилось в корпорацию с защитой корпоративных интересов. Отец Александр пишет: «Здесь (в концепции фильма – К.К.) я вижу прямое, слегка замаскированное, продолжение либералами большевистской линии в отношении христианских основ русской культуры». Всё так, но только хуже. Если богоборчество советского государство нашу Церковь и нашу веру укрепило, то сегодня с Богом не борются. По новым технологиям Его попросту не замечают. Он – «не помеха»!
Сегодня именно подлинность (любая) подвергается заведомой «профилактике» по новым технологиям – процедуре «тотального открепощения»: отрыва чувственности от нравственной воли, ума – от души, нормы – от культуры, эгоизма – от социума, «маленького человека» – от государства. А фильма «Достоевский» – от причастности к родной культуре.
Евразийский мир Андрея Борисова2011
Полнота его жизни кажется невозможной. Он – главный режиссер Якутского государственного драматического театра им. П.Ойунского и Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутии). Он поставил десятки спектаклей и создал Арктический государственный институт культуры и искусства, в котором ведет режиссерский курс, являясь при этом еще и академиком Академии духовности Саха.
Он, выросший в стенах русской театральной школы при Малом театре, успевал создавать и проводить театральные фестивали, ставить спектакли в разных годах России, снял несколько фильмов, последний из которых – «Тайна Чингис Хаана» (2009) по роману знаменитого писателя-современника Николая Лугинова был воспринят как символ имперской мифологической культуры.
Андрей Саввич Борисов активно участвовал в строительстве нового здания руководимого им театра, переименованного, как только вошли в новый дом, в Саха-театр. В этом нового типа театре, главное – трансформирующаяся (симультанная) сцена, обладающая сложной машинерией и световой техникой, позволяющими Борисову достигать удивительных пространственных решений в своих спектаклях: здесь могут двигаться навстречу друг другу две (или несколько) лодок одновременно; здесь вырастают ввысь символические деревья эпоса, здесь набегают волны реки Лены и втягивает в свои немыслимые просторы степь.
А теперь все силы Андрея Борисова сосредоточены на создании единого культурного евразийского пространства, начало «собирания» которого было положено в декабре 2011 года – года его шестидесятилетия – на Международной научно-творческой конференции, собравшей в Якутск, где стояли сорокоградусные морозы, ученых из Москвы и Казахстана, Тувы, Казани, Перми, Горно-Алтайска, Бурятии и Хакасии.
Он произвел на меня впечатление человека летящего: мысль его всегда точна, но устремлена в будущее. Говорит он при этом с какой-то убедительной щедростью – его режиссерской эмоциональности и напористости совершенно не противоречит благородная выдержка аристократа. Но аристократа подлинного, лишенного всякого высокомерия, поскольку чувствует он себя сыном якутского народа, и сыном ответственным, всеми своими талантами, обязанным «Земле Олонхо».
С Олонхо связан его новый национальный проект – строительство в пригороде Якутска особого инновационного комплекса (культурного и сакрального центра) в таком культурно-историческом ландшафте, в котором когда-то предки на берегу священного озера Сайсары проводили свои ритуальные праздники.
Эпос Олонхо для Андрея Борисова – это «закодированное послание предков», это система мировоззрения, это символизм обряда и ритуала. Он понимает культуру своего народа как евразийскую. А евразийство – как философское, геополитическое учение, которому Борисов в своем творчестве находит воплощение в художественных образах, в сокровенных знаках и символах.
Его недавний спектакль «Ледоход» (2011) по пьесе Василия Харысхала, посвящен отцу и братьям Ксенофонтовым, одного из которых – Гаврилу Васильевича, считают первым евразийцем Якутии, труды которого переизданы и ценятся наряду с написанными о культуре и мировоззрении Великой степи книгами Льва Николаевича Гумилева. Перед тем, как поставить спектакль об этом большом роде Ксенофонтовых, который после 1917 года был смят ударами революционного времени, Борисов отправился в поселок Тиит Арыы, что на острове Бюлтэгир, в их родовое место. Вот это величие места будто перетекло в людей, выросших на острове, омываемом мощью водного пространства Лены и обрамленного древними скалами, являющимися предвестьем почитаемых якутами Ленских столбов (с древними петроглифами – надписями и рисунками).
Величие места – это и величие рода Ксенофонтовых, стоявшего и выстоявшего в достоинстве перед буйствами мятежного времени. Времени «ледохода», ставшего в спектакле метафорой беспощадной силы, ломающий коренной строй жизни, разбивающей в щепки человеческие судьбы.
Это оттуда, с того клочка островной земли, где стоял дом Ксенофонтовых (сегодня оно отмечено памятным камнем-валуном) перенес в свой спектакль Андрей Борисов деревянные столбы (столбы являлись волнорезами – они разбивали мощную волну реки, они же были защитой и от весеннего ледохода). Деревянные столбы вбивал отец. Деревянные столбы на сцене на каком-то глубинном уровне соотносились в сознании зрителя и с его сыновьями: сколько столбов, столько сынов. Сколько сынов – столько опор для рода и для народа. Но и идея спектакля была найдена, как говорит Олег Сидоров, сопровождающий Борисова в этой поездке, там же – «они, братья Ксенофонтовы, как эти волнорезы, приняли на себя удары стихии». Только стихии исторической, жертвами которой они все практически стали, но тем самым и подняли высоко-высоко, на недосягаемую врагам высоту, духовные ценности своего народа.
Эта мысль в спектакле воплотится художественно-зримо. На столбы, которые все выше и выше «вырастают» из земли, будут все время ставить чороны – ритуальные сосуды (кубок на трех ножках) для пития ритуального же напитка кумыса. А вторая фундаментальная сценическая образная система спектакля связана с двумя лодками, плывущими по кругу друг другу навстречу: сценический круг мгновенно превращается и в круг жизни отдельного человека, как и в круг мирового пространства, где лодочка может быть и лодкой Смерти, перевозящей погибших братьев в иной вечный мир предков, так и лодкой Жизни, когда в ней братья везут к отцу своих невест, становящихся женами.
Этим спектаклем не начался, а, пожалуй, достиг еще одной своей кульминации, путь в евразийство Андрея Борисова. Он всегда, с середины восьмидесятых годов, стремился к воплощению «таюка» – кода якутской культуры. Через «таюк» он восстановил, а вернее создал заново, «Театр Олонхо», цель которого – возрождение не просто культурной, но генной памяти народа.
Никакие приемы постмодернизма и деконструкции, которые корежили русский театр, Андрею Борисову были попросту не нужны для того, чтобы стать подлинным и благородным создателем нового якутского театра. Его новизна есть воспоминание о будущем, есть преображение культуры саха ради народа саха. Я давно не слышала у нас, в русской России, чтобы талантливейший режиссер (при этом министр культуры!) вышел бы и сказал: «Я ставлю спектакли для русского народа», как Борисов прямо говорит, что ставит спектакли для народа якутского. И это не пафос – это чистая правда. Свидетельствую.
Идея театра Олонхо родилась в 1983 году – в эпосе режиссер почувствовал колоссальные возможности и резервы строить не театр, состоящий из отдельных спектаклей, но создавать спектакли, нанизывая их, как, ритуальные бусины, на стержень-суть. Уже «Желанный, голубой мой берег» по повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» в сотрудничестве с постоянным художником его многих спектаклей Г.Сотниковым, поражал особым мифологическим строем, который и был, по существу, шагом к Евразии – Евразии как кредо, как к огромному миру, достойным которого он и начал создавать свой театр Олонхо. Уже здесь, в спектакле «Желанный, голубой мой берег», мир мыслился Вселенной, в которой «пока человек жив, духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо…». Язык спектакля, обновленный метафорой, культовой знаковостью, интересен был и тем, что зрителям говорили о вечном – жизни, жертвенности, смерти.
1991 год в Якутии (а министром культуры и духовности стал уже А.С.Борисов) был назван Годом хомуса, т. е. традиционной музыки (хомус – язычковый музыкальный инструмент). 1992-й – Годом ысыаха (традиционных празднеств). 1993-й – Годом Олонхо (национального якутского эпоса). 1994-й – Годом итэгэл (верований, духовности). Слово и дело не расходились, когда Борисов писал: «Взлететь, вобрав в себя Восток и Запад». Именно в эти годы не только якутская интеллигенция, но, что самое главное, народ, вернулись к питательным и живительным истокам своей традиционной культуры, – Борисов сам воспитал зрителей для своих достаточной сложных и глубоких спектаклей.
Эпос Олонхо как система ценностей народа саха лежал в основании спектакля «Кудангса Великий» (по повести П.А.Ойунского). Между двумя мирами – прошлой исторической эпохой и будущим как перспективой, расположил режиссер зрителя. Он говорит, что его мысль в спектакле была такой: «Трагедия высокомерного сознания – вот тема…». Это сознание и раздавит главного героя, Кудангсы, дерзнувшего бороться с природой-матерью, дерзнувшего поднять руку на вековечную звезду Чолбон, «дабы укротить убийственный холод, идущий от нее». Между человеком (в спектакле дается его технократическое сознание как тип) и природой идет война, но как сознание человека не в силах остановиться в своем дерзновении познать и изменить природу, так и природа не знает пощады – она сильней любых человеческих амбиций. Спектакль был пронизан эпическим духом: во-первых, сам герой не совсем человек, а все-таки легендарная личность, герой и дух мятежности одновременно. Во-вторых, была найдена особая мелодика выговаривания слова: возращена слову особая интонация – с использованием и шаманской заклинательной традиции. В третьих, это был спектакль метаморфоз: архаичные детали в одежде, в сценографии переплетались с современными; одно вытекало из другого. И все вместе подчинялось законам эпического пространства, где был мир Нижний, Средний и Верхний.
Спектакль за спектаклем вел свой театральный корабль Андрей Борисов в евразийские воды, всякий раз обновляя способы распространения якутского эпоса и традиционной культуры, вводя их в ткань, казалось бы, ему противопоказанную. В 1997 году он поставил знаменитый свой спектакль «Король Лир» и поразил снова театральную Россию, показывая спектакль на фестивале в Москве, как когда-то, 15 лет тому назад, поразил своим Айтматовым. Шекспир по-якутски удивлял гортанными звуками пения и речи, национально-ориентированными, в мехах, одеждами героев, какой-то особенной воинственностью Степи, бесстрашием лиц «с раскосыми и жадными глазами». Металлические трубки (они свисали с неба, вызывая ассоциации с некими свечами, быть может, поминальными в этой трагедии?) – это одновременно и оружие героев (применялись как копья и мечи). А автомобильные покрышки, в огромном количестве, трансформировались то в дом, то в колодец, то в трон. Тут, как и в эпосе – была три мира (срединный, нижний, верхний), но уже внутри человека. И дочери, поставленные режиссером на котурны (!), в сложнейших головных уборах которых «читалась» уже целая «философия», – дочери эти все время играли ритуал: и в том, как пели клятву любви к отцу, и в том, как выгоняли его и отнимали царство.
Сам Лир – не только отец трех дочерей, но, кажется, прежде всего, отец народа. Он тоже играл по определенному «чину» до тех пор, пока не сошел с ума. Сцена в степи во время бури, когда отвергнутый, он узнает о любви к нему Корделии, одна из центральных в спектакле: «карта королевства стала саваном для отца и дочери». Якутский «Лир» завершался торжеством Героической симфонии Бетховена; опадал темный задник, на котором изображались те самые петроглифы – древние наскальные знаки, а за ним зрители видели еще один. Он был белым. Он был чистым…
Конечно, Андрей Борисов ставил и русскую классику («Женитьбу», «Чайку» Чехова и «Бориса Годунова» Пушкина-Мусоргского); он ставил и современную якутскую драматургию, как и зарубежных классиков, но совершенно ясно, что нынешняя его цель – это сохранение и распространение якутского эпоса самыми современными средствами. «Земля Олонхо» – это проект создания современного научно-технологического городского кластера-комплекса, в котором должно реализоваться всё, что нужно современному якуту (и человеку Севера, т. к. предполагается опыт этот распространять). Если «Олонхо» – это энциклопедия народной жизни, язык, философия и культура народа саха, то «земля Олонхо», говорят ученые, должна обеспечивать следующие функции: мировоззренческую и космогоническую, этнокультурную и языковую, сакральную и религиозную, этнопедагогическую и экологическую, эстетическую, психологическую, военно-патриотическую, гедонистическую, этноидентификационную, имиджевую, информационно-коммуникативную… Размах, поистине, достойный просторов Якутии.
Министр культуры и режиссер Андрей Борисов, кажется, уже и сам стал одним из главных героев евразийского мира. Его цельная пассионарная сила легко преодолевает границы собственно якутского культурного суверенитета. Его лидерство стоит на крепком фундаменте таланта и уверенности в том, что «энергия убеждений является основой общества, идеалы – душой народа».
2011
РАЗДЕЛ V
Современное искусство и антиискусство
(Юрий Воронов, Валерий Харитонов, Марат Гельман)
Направление – СеверХудожник Юрий Воронов
Его родина – суровая и обильная. Веками здесь, на земле преподобных Кирилла, Ферапонта и Мартиниана Белозерских происходил своеобразный духовно-культурный отбор: натур даровитых и тонких, владеющих словом и красками, языком национально– созидательным.
Его родина – земля Вологодская, много украшенная церквями православными и монастырями-крепостями, хранящая в усадьбе вологодских дворян Брянчаниновых в сельце Покровском корень христианского духовного стяжания святителя Игнатия, а, впрочем, и память о крестьянских родах. Северорусские крестьянские черносошные роды, хоть и были лыком шиты, да обладали и личной независимостью, и собственными землями, и свободой хозяйственного маневра. А потому и понимает вологодский художник Юрий Воронов слово «творческое родословие» буквально как славление родного Севера, в котором соединилось для него всё: и крепкий, суровый климат, и просторный, с размахом, ландшафт с его горушками и далями, с низким жемчужным северным небом и разнообразием глади озер, каждое из которых отражает в себе мир наособинку.
Отбор породы и культуры тоже был нешуточный: если дворянская северная культура Межаковых, Гальских, Батюшковых, Зубовых, Олешовых, Качаловых, Засецких несла на своих гербах свидетельство о традиции служения, то крестьянские роды (обильные детьми, многоколенные) с их простосердечной патриархальностью учили видеть плоды труда – тяжелого, грубого, но сделанного на века и на совесть.
Кто хочет понять Юрий Воронова, тот должен научиться видеть эту его северную «закваску» – независимого и спокойного созерцания, идущего от любви ко всем тем, отошедшим в историю, пластам жизни, что стали для нас «культурным наследием». Но художник смог это прошлое перечитать, передумать – смог передать этот дух дерзкого, прямого и честного взгляда на мир, характерный для человека Русского Севера.
Получивший образование в институте имени В.И.Сурикова, награжденный званием заслуженного художника и обремененный член-корреспондентским статусом Академии художеств, он, не раз покидающий родную Вологду ради дальних странствий (жил и рисовал в Норвегии, в Доминиканской республике, Канаде и Малой Азии), всегда возвращался назад: не как блудный сын, – нет. Напротив, чужые ритмы и краски, чужая (часто очень сытая) жизнь только ярче делали художническое зрение: будто укрупняли мощь монастырских стен Кирилло-Белозерского монастыря, который он рисует постоянно; будто белее становились снега (как на его большом холсте «Зимний Никола»); будто торжественнее и осмысленнее становилась провинциальная жизнь, легко и беззаботно взмывающая в вечность (как в картине «Утро на древнем озере», в которой из глубин водных, и из нежного легкого земного воздуха проступают дали горние с ангелом – и восстают из озера, как образы-мысли, символические фигуры и предметы).
Русский человек любит пейзаж. Он размягчает душу, пробужденную к созерцательности разнообразием нашей природы: лето и весна, осень и зима имеют свои особенные краски, свое дыхание, ритм и мелодии. Нам потому никогда не надоедает пейзажность нашего изобразительного искусства, потому что в природности вообще мы чувствуем свою связь с землей, политой нашей кровью и нашим потом. Земля христианину-крестьянину дана была изначально как спутник нравственный (с ее теплом и добром, с всходящим на ней зерном) – отношение к земле так много говорит о нас самих. Земля у Юрия Воронова не столько рожающая (мы не найдем у него поля пшеничного), сколько памятующая и держащая человека в образе человеческом, может, из последних сил. Земля – это опора, фундамент, основание всякой памяти (рода, народа, культуры).
Созерцательное наслаждение можно испытывать вновь и вновь, вглядываясь в работы художника, написанные гимном своей земле в картинах «Туман», «Утренний этюд», «Зимний пейзаж», «Северная деревня», «Зимние хлопоты», «Зимняя Вологда» и «Ферапонтово», «Вечер в Белозерске», «У озера». Да, белый цвет и белый снег художником бесконечно любимы – любимы за изначальную и без-печальную чистоту.
Что и говорить, художники, которым известно некоммерческое воодушевление, живут сегодня трудно. Но меня всегда поражало их упрямство в отстаивании своего творческого досуга, который еще Аристотель (уловивший самую точную меру в теории искусства и сущности творчества) не просто рекомендовал, но требовал для человека, «свободного по природе». Без творческого досуга невозможна никакая вдумчивая созерцательность. А потому именно таких, сочетающих в себе жадный интерес к мировому искусству с русской душой, я и полагаю сегодня стоящими на передовой позиции борьбы за эстетику, только при определенных условиях, могущую быть этичной. Юрий Воронов может рисовать Северную Италию или «Воспоминание о Ванкувере», древние развалины Греции («Ника», «Греческая керамика», «Идущая к нам») или «Дворец царя Зимрилима» (Месопотамия), но при этом, безусловно, он остается русским художником, вкладывая в свои «заграничные работы» легкий аромат театральности, скептическую просвещенность образованного человека, некоторую русскую барственную утонченность. Да, мы любим и знаем на Западе часто то, что сами они уже любят и знают меньше нас: воистину, Достоевский навек высказался актуально, сказав о святых для русского «камнях Европы».
Русской провинции всё ещё удается держать высокую планку в искусстве живописи, графики, в искусстве портрета. И это тем более удивительно, что ведь и они живут в рыночной экономике, где возникают новые сообщества людей, объединенных не схожестью идей и эстетических пристрастий, но схожестью потребления. Если помещик Межаков (тесть нашего знаменитого мыслителя Н.Данилевского, автора труда «Россия и Европа») собирал в своей усадьбе Никольское уникальные предметы искусства, в том числе и картины, то нынешний человек, напротив, стремится всеми силами купить похожее: вещь или предмет той или иной марки (фирмы). Как пошутил один американский исследователь: «Место братства по ремеслу заняла демократия звонкой монеты»! Итак, современных людей объединяет не характер убеждений, не феномен предпочтений, но акт приобретений, то есть тип потребления. Теперь уже уникальное и неповторимое вызывает недоверие (исключение составляют только драгоценности). Современному «успешному художнику» вопреки всей многотысячелетней традиции нужно создавать предмет потребления, «вещь», но не давать жизнь неповторимым в своей уникальности и красоте живописным полотнам. Американский писатель Артур Миллер очень точно рассказал об этом процессе: «Потому что главное сегодня – это хождение по магазинам. Много лет назад человек, если он был несчастлив, не знал, куда себя деть. Он шел в церковь, устраивал революцию – лишь бы делать хоть что-нибудь. А сегодня? Вы несчастны, не знаете, чем заняться? Спасение – в хождении по магазинам». Ему вторит другой американский историк и романист К.-А. Сэндберг в книге «Да, это люди»: «Папа, а луна что рекламирует?»
Если «спрос» и есть гарантия достоинств, то Юрий Воронов выпадает из данной системы оценок. Высокая традиция сегодня требует от художника жертв – главная из них состоит в самоограничении (в выпадении из общества потребления). Увы, местные держатели средств, предпочитают не у своих художников закупать работы, а устраивают какие-то немыслимые кинофестивали, свидетельствующие и о том, что провинциальное европейничанье у нас тоже в ходу.
Юрий Воронов не впускает на свои холсты силы стихийные – он предпочитает их сдерживать, окультуривать, возвышать до символа. Понимания символического языка искусства его работы требуют неукоснительно и настойчиво: в какой-то простоте и первоначальности предстают в его работах предметы крестьянского быта, которые у художника не столько этнографичны, сколько символичны. Так, холст «Вологодский натюрморт» изящно и естественно сочетает лоскутную скатерть, крынку с молоком, туесок с засохшей травой и деревянную церковку с одной маковкой, стоящую на втором плане с какой-то основательностью вечности. В «Николе зимнем» все тот же берестяной туесок, да брошенный на снегу ключ (толи от трудного земного счастья, толи от старинного амбара), колодец с поднятым из него полным ведром воды, горшок, в котором кашу варили в русской печи и сидящая на первом плане за прялкой деревенская девушка, – все это помещено среди белых бескрайних снегов и «читается» как сиротливость, как символы того, что прежде составляло крепкий крестьянский космос, о которых сейчас, об их отдельности, разбросанности по миру, если и печалится кто, так это – художник. К философски-раздумчивым полотнам можно отнести и «Сны лоскутного одеяла», где в лоскутах, как в клеймах, проглядывают сквозь времена и сроки лица. Вот лицо бабушки (а она у Юрия была кружевница – занятие творческое, не у неё ли внук впитал эту любовь к «составлению картин»?!). Вот – лик Богородицы. А дальше – молодица у зыбки качает дитя. А чуть ниже и вбок – летит щепная птица счастья, которых еще и до сих пор принято в домах подвешивать прямо в красном углу, перед киотом, где эта самая северная легкая птица символизирует Дух Святой.
Сны и «воспоминания» лоскутного одеяла – это еще и история рода, причем крестьянского. А в «Зимней элегии» причудливо и почти эстетски на белом снегу разбросаны предметы крестьянского быта, о ладе которого так проникновенно и красиво написал Василий Белов. У художника, правда, и полотенце вышитое, и самовар, и дуга, хомут и сани «очищены» от быта, помещены снова в «белые снеги», а у края этого земного стоит ангел, взор обращая к сидящему на втором плане «Христу в темничке». Сидящему так просто в бескрайних и бедных этих просторах, будто так все это изначально и было задумано. И где-то совсем глубоко, по линии горизонта, разметались крошки-избушки – белое безмолвие снова упирается в жизнь. Впрочем, лучшие натюрморты Юрия Воронова тоже так и называются «Крестьянские», «Северные». Вологодская же художница Джанна Тутунджан словно продолжает тему Юрия: «Я увидела его по соседству, на деревенской улице. Вывешенное на солнце Лоскутное Одеяло. Оно поразило меня не просто цветом… Оно обожгло меня своей сутью. Той, которая его смастерила, давно нет на свете, но это Одеяло, сшитое ею из того, что было под руками, выглядело, как вся ее Жизнь… На нем горели алые лоскуты ее сарафанов, как наши Праздники и Победы… Чёрные вдовьи дни и платки – муж и два сына не пришли с войны… Защитные куски солдатской формы – внуки вернулись из Армии… Голубые тряпицы ее надежд… Светлые, в цветочках, распашонки правнуков…Да это же не только ее – это жизнь Страны! Я была ошеломлена». Так видеть может, наверное, только художник.








