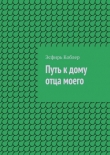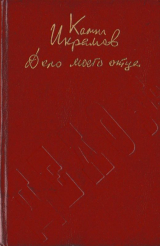
Текст книги "Дело моего отца (Роман-хроника)"
Автор книги: Камил Икрамов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
– Соедините.
Хорошо актерствовал, так хорошо, что меня не спросили, кто говорит.
– Слушаю вас, – вежливо ответил мужчина.
– Здравствуйте, товарищ Рахимов, – сказал я голосом тона на два ниже, чем говорил обычно. – С вами говорит сын Акмаля Икрамова. Вам это имя знакомо?
И тут я собирался «качать права», почему, мол, республиканские организации не отвечают на мои письма, что, мол, за бюрократизм такой! Но вопрос постпреда меня обезоружил. В голосе его зазвучало волнение.
– Сын Евгении Львовны? Где вы? Вы можете приехать? Я вас жду.
Это было летом пятьдесят шестого, прошел XX съезд, но волнение постпреда, как оказалось, было вызвано тем, что он считал себя учеником моей матери, работал в ее подчинении в Наркомземе, а когда он женился, мать выхлопотала ему квартиру и вместе с его молодой женой вымыла там полы.
Через некоторое время, в августе, Касым Рахимович вызвал меня в постпредство. Я сел под пальмой в кресло и независимо закинул ногу на ногу. Ждать пришлось долго. Но когда дверь кабинета открылась, первым оттуда вышел симпатичный узбек в сером костюме. Постпред шел за ним.
Человек в сером направился ко мне, я встал и пожал протянутую мне руку.
– Простите, – сказал человек в сером. – У меня здесь очень мало времени. Лучше прилетайте ко мне в Ташкент.
Ничего себе – «прилетайте». На какие, с позволения сказать, шиши я билет куплю.
Он понял и сказал:
– Билет туда и обратно вам обеспечит Касым Рахимович. До свидания.
Человек в сером и постпред вышли, а я спросил секретаршу: кто это?
– Первый секретарь ЦК Узбекистана товарищ Мухитдинов Нуритдин Акрамович.
Так, благодаря чешскому пиву и девушке Клаве, я сподобился на путешествие в Ташкент, да еще самолетом.
…Вместе с нашедшимся братом Ургутом мы пришли в ЦК. Никогда не забуду разговора и той благодарности, которую я испытал к Н. А. Мухитдинову. Недавно я напомнил ему нашу встречу, но он, видимо, забыл, что говорил мне. А было так.
Кабинет моего отца, почти та же или такая же обстановка. Мухитдинов сказал нам с братом.
– Когда арестовали вашего отца, я был студентом и к его аресту отношения не имел никакого. В его гибели сыграли роль Усман Юсупов и еще некоторые. Но когда я пришел в этот кабинет, я прежде всего занялся делом вашего отца Недавно я докладывал на Президиуме ЦК КПСС, что прокуратура республики реабилитировала всех, кто обвинялся по делу «Милли Истиклял»[5]5
«Национальная независимость».
[Закрыть]. Не было такой организации, значит, сказал я, необходимо реабилитировать Акмаля Икрамова, который в руководстве этой националистической организации обвинялся. Никита Сергеевич помнит вашего отца Он сказал, что вопрос надо поручить товарищу Руденко, потом ткнул пальцем в Молотова и добавил: «Вы эту кашу заварили, вы и расхлебывайте. Срок два месяца».
Н. А. Мухитдинов больше обращался ко мне, потому что Ургут сидел в позе молчаливого узбекского просителя, склонившись и сложив руки у живота.
– Запишите телефон заведующего Отделом административных органов ЦК КПСС товарища Дедова и Генерального прокурора Руденко. В разговоре с ними можете прямо ссылаться на слова Никиты Сергеевича, на срок два месяца.
Так я взлетел в сферы, о которых не помышлял. И тут же были решены практические вопросы: брата восстановили в Ташкентском сельхозинституте, дали квартиру. Я ни о чем для себя не просил, мне вполне хватало девятиметровки. Учиться дальше я не хотел, боялся, что не справлюсь, но Мухитдинов настоял, позвонил в Москву, в ЦК, большому начальнику, и меня почти насильно заставили учиться. Предлагали МГУ, но я решил; что институт должен быть похуже Для представления о ходе моих тогдашних мыслей скажу, что думал так: проучусь семестр до первых экзаменов, которые, конечно же, завалю, но зато в анкетах буду писать: «образование высшее, незаконченное». Хоть кое-что.
Отца реабилитировали не через два месяца, как того хотел Хрущев, а через год, когда изгнали из партии Молотова, Кагановича и всю их по официальной терминологии «антипартийную группу». С Н. А. Мухитдиновым я встречался, когда после XXII съезда он не попал в Политбюро и оказался заместителем председателя Центросоюза. После снятия Хрущева Нуритдин Акрамович встречаться со мной желания не имел, а в недавних случайных встречах поразил меня своими совершенно новыми суждениями, резко положительной оценкой Молотова и, когда Черненко восстановил его в партии, резко отрицательным отношением к Хрущеву, даже – удивительно не ко времени – восхвалением Сталина и Усмана Юсупова.
О политика! Что ты делаешь с людьми!
Не могу не рассказать, как в ЦК КПСС знакомили меня с выпиской из постановления Президиума о посмертном восстановлении отца в партии. Чиновник вынул бумажку из сейфа, дал прочитать и пальцем указал на гриф в правом верхнем углу бланка: «Совершенно секретно».
– Оглашению не подлежит, – предупредил он.
– Это для вас секретно, – нахально возразил я. – Сейчас же пойду, наменяю пятнашек и буду звонить всем знакомым.
– Мое дело предупредить, – сухо сказал чиновник.
За справкой Верховного суда я зашел позже. Поскольку в тексте была указана должность отца, полковник (не тот, что на улице Кирова, а другой) сказал, что он очень рад, что справедливость восторжествовала, и т. д.
– Да, – согласился я. – Это действительно великое дело. Ведь теперь рухнул весь процесс «право-троцкистского блока», дело Бухарина и Рыкова.
– В каком смысле? – удивился полковник.
– Если один из главных обвиняемых оправдан подчистую, то значит, что и весь процесс – липа.
– А ваш отец проходил по тому процессу? Вы не ошибаетесь?
Некоторое время ушло на то, чтобы убедить военного юриста, что я не ошибаюсь.
Полковник убежал куда-то, привел еще трех полковников, и я повторил для них то, что уже сказал.
Они были ошарашены, другого слова мне не найти. И не зря не верили своим ушам. Время это показало. Понадобилось еще тридцать с лишним лет, чтобы свершилось то, что казалось мне закономерным, делом завтрашнего дня. Глупые полковники были умней меня.
…Я начал писать и печататься в газетах и журналах сразу по возвращении, а вскоре меня привлекла в нештатные сотрудники газета «Нойес Лебен», издающаяся для советских немцев. Писал я там под почти рифмующимся псевдонимом И. Крамер и в 1958 году выпросил себе командировку в Узбекистан. Редакция поставила условием, чтобы прежде я по бывал в Таджикистане, где есть целые немецкие колхозы написал бы очерк о передовике производства.
Во время этой командировки я понял значение грифа «Совершенно секретно». Прибыл я в райцентр Колхозабад, который только что переименовали. Он был Кагановичабадом, и не все вывески и бланки успели сменить.
Первый секретарь райкома узбек Исаев встретил меня, поджав губы, руки не подал, сказал, что наедине беседовать не будет. Постепенно в кабинете набралось человек пятнадцать, и секретарь сказал:
– Мы вас слушаем.
Я сообщил, что меня интересуют немецкие колхозы, а конкретно – колхоз имени Тельмана и колхоз имени Карла Маркса, хорошие механизаторы, доярки, культурно-просветительная работа.
– Видите ли, – секретарь переглянулся с молчаливыми людьми за длинным столом, – сейчас туда поехать нельзя. Во-первых, ремонтируется мост, во-вторых, нет транспорта.
За окном райкома я видел с десяток легковых машин и понял, что дело в чем-то другом.
– Ну, так я поеду на попутке. У меня очень мало времени.
– Этого делать нельзя, – твердо заявил секретарь. – Мы предлагаем вам пока осмотреть райцентр. Вас будет сопровождать собственный корреспондент республиканской газеты товарищ Рыбакин.
Рыбакин повел меня по центральной улице недавнего Кагановичабада. Навстречу нам шла поливальная машина.
– Вот видите: у нас ежедневно поливают улицы. Это поливальная машина. А это – школа. У нас обязательное среднее образование, причем бесплатное. А это новый детский сад. Забота о детях…
– Слушай, друг, – я не выдержал. – У меня времени нет на это. В какой стороне колхоз Тельмана? Я поеду на попутке.
– Нельзя, – жалобно сказал Рыбакин. – У меня будут неприятности. Вы слышали, какое я получил указание?
– Плевать мне на твои указания, – возразил я. – Не могу я задерживаться, мне еще в Ташкент лететь, а бухгалтер в издательстве «Правда» ни одного дня просрочки не простит.
– Как вы сказали? В «Правде»? А при чем «Правда»?
Я объяснил, что «Нойес Лебен» принадлежит этому издательству и бухгалтер Васильев может не оплатить мне всю поездку, если я задержусь без уважительных причин.
А вы разве советский? – Рыбакин вытаращил глаза.
Пришлось показать ему командировочное удостоверение и паспорт.
– Слушай, теперь и он перешел на «ты», – но ведь из Душанбе сказали, что к нам едет сын врага народа Акмаля Икрамова, который теперь корреспондент немецкой газеты. Мы поняли, что из ФРГ.
Когда я приехал в колхоз, то увидел, что все население поспешно белит дома. Даже с посевной людей сняли.
В Ташкенте я сразу пошел в ЦК, надо было добиться, чтобы в газетах опубликовали большую статью об отце, чтоб люди узнали, что он реабилитирован и восстановлен в партии.
Большие люди выслушивали меня, говорили «бажарамиз» – сделаем, но не делали ничего. Ташкент не хотел.
Тогда я написал письмо Н. С. Хрущеву. Очень горжусь формой и содержанием того письма. Оно явно было доложено Никите Сергеевичу, потому что очень скоро в «Правде» появилась редакционная статья «Верный сын партии».
Не могу умолчать и детали, весьма характеризующей время и нравы. Задание «Правда» получила срочное и сразу связалась со мной. «Кто может написать?»
Я назвал двух ташкентских историков, но редакция спешила. «А вы бы не смогли дать нам материал для статьи?»
Статью я написал полностью, но заголовка не предложил. Дежурный редактор отдела прочел ее, одобрил и стал придумывать, как статью озаглавить. В тексте нужной фразы он не нашел и приписал две строки: «Память об этом верном сыне ленинской партии навсегда сохранится в сердцах советских людей».
Заголовок был найден, но ни редактор, ни я не ожидали последствий. А они оказались замечательными: на другой день после выхода газеты ЦК КП Узбекистана и Совет Министров республики приняли постановление об увековечении памяти А. Икрамова. Как же иначе, если «Правда» сказала, что память навсегда сохранится?
Кстати, это была единственная за всю историю «Правды» статья с рубрикой «К шестидесятипятилетию со дня рождения». Так я заставил Рашидова считаться со мной. Узбекский писатель передал мне слова Рашидова, сказанные затем в узком кругу: «Если б наши дети так заботились о нашей памяти».
Писателю этому я в общем-то доверял и не сдержался: «Для этого нужно, чтобы отец был таким, как мой».
Дело моего деда
…Я перечитал написанное, даже то, что осталось в этом варианте о царской администрации: не упростил ли я противостоящие силы, не получились ли представители власти более циничными и примитивными, нежели они были в действительности? Наверное, эта мысль не беспокоила бы меня, если бы – я должен вновь подчеркнуть это – не вполне определенная теперь тенденция идеализировать дореволюционную Россию, ее нравы и устройство, ее колониальную политику.
Я взялся за папку, где лежит толстенное «Дело Туркестанского Охранного Отделения об обысках и арестах бывшего члена 2-ой Государственной Думы Абду-Кариева и его единомышленников за пропаганду против государственных идей, на 226 листах, начато 30 января 1909 года, по описи № 40».
Удивительно легко, даже не легко, а просто само собой попало это «дело» на мой стол, словно оно само искало меня, хотя принес его конкретный человек и рисковал при этом.
…А вчера позвонила мне совершенно незнакомая женщина и сказала, что в Москве проездом, что мама попросила разыскать сына Акмаля Икрамова, чтобы передать ему брошюрку с речью отца и еще какие-то газетные вырезки и бумаги, связанные с памятью о нем.
Это ведь надо! Сколько лет хранить, с какой опасностью не считаться! Нет, неистребима в людях память, и только она может противостоять одичанию. Люди часто не понимают этого, а только чувствуют.
…Опять перечитываю титульный лист охранного дела «…За пропаганду против государственных идей». Вновь обращаю внимание на существование в России государственных идей, самого этого понятия. В какой еще стране они были? В чем же они заключались, государственные идеи, и за что мулла Абду-Кариев, недавний член высшего законосовещательного органа империи, совсем недавно распущенного, был закован в кандалы? Вторая Дума, впрочем, сильно сердила охранку, разгневала Столыпина, он наказал ее, и в Туркестане сделали выводы. Периферийный чиновник всегда активней в ревностности в делах государственных, равно и в лихоимстве.
«Шифр Департамента Полиции. Текст телеграммы, отправленный 2 февраля 1909 года в 2 часа пополуночи.
Петербург.
Директору Департамента Полиции. Лично. Бывший член второй Государственной Думы от туземного населения Ташкента мулла-имам Абду-Рауф Кариев уличается в противогосударственной агитации за вооруженное восстание целях отложения Туркестана от Империи Точка Кариев и выясненные розыском четыре его соучастника также как и он преподаватели туземных школ Ташкенте мною арестованы Точка По обыскам обнаружена обширная переписка и большое количество изданий на персидском тюркском и арабском языках Точка Значение обнаруженного в смысле вещественных доказательств материала для розыска может определиться только подетальном разсмотрении всего отобранного переводчиками Точка Охранное разследование возбуждено Начальник Отделения Л. Квицинский».
Не знаю звания Квицинского, он появляется в документах редко, чаще фигурирует штабс-ротмистр Лалетин, отсюда в предреволюционных главах возник у меня полковник Лелютин. Реальный Лалетин же – автор «дела» моего двоюродного деда – фальсификатор и провокатор. Можно бы на этих страницах показать его сотрудников и приспешников в сочетании правды с домыслом. Если это будет надобно.
Для публициста же очень важно отметить следующее: «По обыскам обнаружена обширная переписка и большое количество изданий на персидском, тюркском и арабском языках». (Уже криминал, на непонятных языках читают и пишут, канальи!) «Значение обнаруженного в смысле вещественных доказательств материалов для розыска может определиться только по детальном разсмотрении всего отобранного переводчиками». (Вот оно, сначала взять, а потом видно будет. И это девятый год. И это в отношении лица хотя и потерявшего депутатскую неприкосновенность, но весьма видного, уважаемого, пользующегося влиянием.)
В деле много имен людей, стоящих по обе стороны не баррикады, конечно, а только барьера, решетки, которая разделяет карающих и караемых.
«Его высокоблагородию Н. Н. Караульщикову.
Милостивый Государь Николай Николаевич!
Впоследствии личных переговоров и нашего взаимного соглашения направляю Вам, Милостивый Государь, подателя сего – моего секретного сотрудника по кличке „Оренбургский“, владеющего туземными наречиями, для розыска в уезде по известному Вам делу Кариева и других…»
По делу моего двоюродного деда допрашивались многие.
Их дети, внуки, правнуки, праправнуки вряд ли узнают по именам своих предков, ведь узбеки не наследовали фамилий, и полагаю, что это избавило многих от серьезных неприятностей, связанных с неправильным происхождением.
А дети тех, кто допрашивал, содействовал полиции, кто доносил, Переводил и вообще служил? Им тоже не нужно было устанавливать прямых связей с родителями. Не с точки зрения детей я пишу это, а с точки зрения нас, родителей.
Историю дела моего двоюродного деда можно начать с того, какие важные люди собираются в белое кирпичное здание под голыми тополями. Февраль. У дувалов не стаял снег, булыжник мокрый. В фаэтоне приехал отдельного корпуса жандармов ротмистр Осипов, на своих лошадях, а кто и пешком, если жил поблизости, прибывали к назначенному хмурому утреннему часу переводчик при управлении канцелярии генерал-губернатора Бактий Галиевич Илькин, переводчик пониже рангом из ведомства градоначальника Шакирджан Согдиев Ишаев, помощник пристава 2-го участка туземной части Ташкента Султанбек Абдулганиевич Яушев, надворный советник Таирбек Киязбеков и другие компетентные люди.
Предстояло сличение почерка муллы, сарта, жителя г. Ташкента Мухамеда-Рахима-ходжи-Нурутдина Ходжаева с почерком, коим написаны письмо и прокламация от имени депутата мусульман г. Ташкента Кариева, начинающихся словами (в русском переводе) первое: «Любезный брат» и второе «О смиренные мусульмане».
Было установлено, что это не подлинник, а копия с письма, которое «по своему стилю и отдельным выражениям могло быть написано сартом, знакомым с революционными воззваниями на татарском языке».
Допрашиваемый, тридцатилетний учитель, живший подле Шейхантаура, совсем рядом с махаллей моих предков, был еще имамом своей махаллинской мечети, имел детей и младших братьев, которых содержал после смерти своего отца.
Образование арестованный получил в Ташкенте и в Бухаре, ранее не был судим, к дознаниям и следствиям не привлекался. Он показал, что деда моего двоюродного знает с детства, учился у него высшей премудрости незадолго до отъезда учителя в Санкт-Петербург. Дружить с ним не дружил, ибо неровня ему. В гостях Кариев всегда занимал почетное место, а он сидел поближе к двери. Еще он показал, что Кариев перед отъездом своим сказал в мечети народу, что в Государственной думе он приложит все свои старания и свой ум к тому, чтобы добиться всего хорошего для населения, но свои требования он выскажет только такие, какие будут в пределах закона. Вернувшись, он говорил, что Дума распущена по воле государя и что наш край теперь лишен возможности докладывать о своих нуждах, а при существовании Думы Туркестанский край мог бы добиться улучшения для своих жителей.
Арестованный называет имена людей, которые вместе с ним слушали речи бывшего члена Думы, а потом по обстоятельствам, которых доподлинно мы никогда не установим, говорит: «Мои прихожане могут подтвердить, что я после каждой молитвы в мечети говорю им, чтобы они в своих молитвах молились за русского царя, и меня прямо поражает, что такой умный и ученый человек, как Кариев, может думать или тем более делать что-нибудь против правительства еще после того, как был в Петербурге и, следовательно, видел всю силу, самое лучшее…»
Впрочем, я ведь читаю русский перевод допроса, а как переводили и записывали показания арестованного, бог знает.
Вот допрашивают другого нашего соседа – Ахмата Ходжаева, тоже живущего близ мечети Шейхантаур. Его арестовали одновременно с Кариевым, и он тоже старается отмежеваться от него: «О приезде Кариева из Петербурга я знал, но мало интересовался подобным делом, и поэтому лично с Кариевым о его нахождении в Государственной Думе и о том, что он в этой Думе делал, я не разговаривал, но слышал, что Кариев другим лицам сообщал, что он ничего для пользы населения Туркестана достичь не мог, так как Дума скоро была закрыта».
О другом из арестованных Ходжаев говорит: «Про муллу Бердияра я слыхал, что он из уезда, что по наукам он идет впереди всех учеников в мечети Юнус-Хана».
Третий по делу – Аллаутдин-Магзум Якубходжаев уверяет, что Кариев ему вообще не доверял, откровенным с ним не был, и неприязнь его проистекает из зависти. Якубходжаева выбрали в мударисы (наставники) почти единогласно, а Кариев получил голосов много меньше. Далее арестованный отвергает свою причастность к двум письмам предосудительного содержания, начинающихся словами «Любезный брат» и «О смиренные мусульмане».
Интересно тут одно обстоятельство, рисующее нравы тогдашнего Ташкента, как принято было говорить, в туземной его части.
Якубходжаев высказывает предположение, что донос на него могли написать по злобе некто Минновар-Кары или Самиг-Кары. Минновар-Кары якобы особенно зол и на Абдувахида, потому-то и связывает их вместе в своем доносе.
(Характерно, что Минновар-Кары, или, как это имя пишется теперь, Мунновар-коры, один из идейных вождей мусульманского изоляционизма, в годы революции продолжал быть ярым врагом либерального Абдувахида Абдурауфа Кариева, а в 1919 году очень враждовал с моим отцом.)
9 февраля 1909 года допрашивается мулла Бердияр. Тут есть кое-что весьма любопытное. Ему тридцать лет, он называет себя не сартом, а куроминцем, занятие и ремесло его обозначается так: летом работает чернорабочим, зимой учится в мечети. В отличие от трех первых допрошенных, обладавших недвижимостью и кое-какой земельной собственностью, мулла Бердияр на вопрос о степени имущественного обеспечения отвечает: «Лично ничего не имею. Мать тоже».
Ему, как и другим, предъявляют два рукописных текста, о содержании которых мы можем пока только догадываться, и Бердияр заявляет: «Эта рукопись написана не мной, и я не знаю, кем она может быть написана. Я понимаю, что за писание подобных воззваний, где говорится об отторжении Туркестана от Российской империи, должна быть строгая кара и тяжелое наказание, и я знаю, что за бунт в Андижане назад тому двенадцать лет погибло много мусульман. Я еще раз повторяю, что писал это не я, а кто, не знаю, тем более что у меня врагов и недоброжелателей нет. Однако я допускаю, что враги и недоброжелатели Абдувахида Кариева могли это написать. Никаких поручений по подобным делам Абдувахид Кариев мне никогда не давал, а если и поручит на словах передать другим что-либо, что относится к разряду преступлений, я исполнять не буду. Я хотя и ученик его, и закон наш шариат обязывает подчиняться учителям, но я все равно не стал бы делать ничего против закона».
Уверен, что любой беллетрист сможет в уже описанные обстоятельства вмонтировать мальчишку лет одиннадцати, смышленого, знающего худо-бедно три языка и Коран наизусть, мальчишку, дядю которого забрали так неожиданно.
Ясно, что обысков боялись все родственники, что о возможных доносчиках говорилось в семьях много, что могли мальчишке дать поручение куда-то сбегать, кого-то предупредить, у кого-то о чем-то спросить.
Вот и была бы главка в беллетристический вариант книги о моем отце. В одиннадцать лет человек много понимает, по себе знаю, хотя я бесспорно лишь бледный список с портрета отца.
Итак, Акмальхон видел все это и слышал об этом много. Можно еще написать сцену в доме домлы Икрама, где Абдувахид рассказывает о своей деятельности в Думе, о ее роспуске. Можно! Только зачем придумывать? Лучше представить себе рассказ Абдувахида в семейном кругу, среди близких по тому, что он говорил на допросах.
«Действительно, при моем отправлении в Государственную Думу в Петербург население меня снабдило программой о нуждах Туркестанского края, подробности программы я не помню, но она, кажется, должна быть в числе вещей и предметов, которые у меня отобрали по обыску. Перед отъездом в Петербург я сильно был занят сборами в этот дальний путь и совершенно не помню, кто эту программу мне вручил…»
Не забывайте, читатель, что речь идет о депутате, об избраннике народа, о Государственной думе, которую нынче принято ругать за злоупотребление данными ей царем демократическими правами. Не забывайте, читатель, что следователь спрашивает, а обвиняемый рассказывает не о тайных прокламациях, а об официальном наказе избирателей.
«По прибытии в Государственную Думу я вошел в состав мусульманской фракции, во главе которой стоял депутат от Уфимской губернии татарин Биглов… Вся мусульманская фракция сидела в центре, за кадетами, в правой от центрального прохода части… Я лично с кафедры Государственной Думы оратором не выступал. Голосовал и поддерживал в баллотированиях я те группы, к которым склонялась вся наша мусульманская фракция, состоящая приблизительно из тридцати человек. Насколько мне помнится, не было случая, чтобы поддерживали в баллотировках сторону левых групп».
Двоюродный дед не врал. Действительно, мусульманская фракция держалась центра и из страха, внушенного не с помощью гипноза, клонилась чаще в правую сторону. Тут их месторасположение в зале российского парламента соответствовало их местоположению в истории.
«Не зная русского языка, – продолжал Кариев, – я не могу ответить на вопрос, поднимался ли во Второй Государственной Думе вопрос об автономиях окраин империи, как-то: Польши, Финляндии, Туркестана и других. Об отложении Туркестана от империи я хорошо знаю, что подобный вопрос в Государственной Думе и не возбуждался, а о нуждах Туркестанского края я членам мусульманской фракции заявлял, но мне на это ответили, что до возбуждения этого вопроса очередь не дошла. Вопрос же об отложении неорошаемых „богарных“ земель Туркестана был решен в том смысле, что за каждую десятину правительство должно взимать только по одному рублю».
Казалось бы, все ясно с этим депутатом. Но охранку почему-то интересует и то, что она сама обычно знала, то, что называлось столыпинским переворотом.
«Перед роспуском Думы я узнал от некоторых депутатов, что 17 человек из среды тех же депутатов должны идти под суд за противоправительственную деятельность и сама Государственная Дума решила вопрос о предании этих семнадцати депутатов суду, но не успела окончательно решить этот вопрос, как последовало распоряжение о ее роспуске».
По нашему семейному преданию, получается так, что никто из ближайших родственников не мог или боялся узнавать, что происходит, за что схватили Абдувахида и что с ним будет. Только свекор старшей сестры моего отца по своим связям с купцом Яушевым, родственником одного из уже упомянутых здесь «туземных» администраторов, узнал, что дело совсем плохо, что дядю заковали в цепи и ему грозит виселица.
А мой отец именно в это время служил мальчиком в лавке у купца Шерахмеда, компаньона братьев Яушевых. Какой был бы простор для фантазии, какая экзотика, какие детали. Можно ведь устроить встречу со штабс-ротмистром Лалетиным, то бишь Лелютиным, чтобы потом продлить эту линию вплоть до Октября, а там устроить диспут Абдувахида-коры с Мунновар-коры. Можно муллу Бердияра сделать одним из вождей восстания шестнадцатого года, рассказать, какое влияние его решимость жить справедливо по шариату имела на моего отца… Можно и даже нужно ввести сюда агента по кличке «Оренбургский». У меня на примете есть ему прототип. И портрет готов – коренастый молодой человек с двумя рядами золотых зубов. Только зачем? Зачем, кому нужны эти фантазии, когда передо мной дело?
Помните, как герой одной из лучших повестей Юрия Трифонова рвался из нашего времени к делам царской охранки? Мне и рваться не надо, все принесли домой. «Если сыну Акмаля Икрамова надо, мы сделаем». Правда, тайно принесли, и ксерокопию сделали тайно.
Далее хочу привести цитату без всякой орфографической правки, все, как читается, разве что без ятей и твердых знаков.
Протокол №…
1909 года февраля «11» дня, в гор. Ташкент я, Отдельного Корпуса Жандармов Штабс-Ротмистр ЛАЛЕТИН, на основании Положения о Государственной охране, Высочайше утвержденного в 14 день августа 1881 года, допрашивал нижепоименованного в качестве обвиняемого, который в дополнение к показанию от 10-го февраля 1909 года объяснил: Вторая Государственная Дума была закрыта 3-го июня в Воскресение 1907 года; на другой то есть 4-го июня я получил «суточныя» деньги за истекшую неделю, – в тот же день выехал из гор. С.-Петербурга направляясь в Туркестанский край. Никто из членов «мусульманской фракции» в числе 17 человек преданных суду за противоправительственную деятельность – не попал в это число и я тоже: после чего я благополучно и приехал в гор. Ташкент домой. По прибытии домой я опять занимался своими обычными делами и приходящим меня навещать – моим родным и близким знакомым говорил лишь о своем благополучном прибытии. Про Государственную Думу я почти ничего существеннаго никому не говорил, а также и разговоров на политический темы ни с кем не вел. Я занимался и занимаюсь со своими учениками науками – учеников у меня более 30 и назад тому 15 месяцев я будучи выбран в «мударисы» – «Имамы» спустя месяц принял еще в число своих учеников и Муллу-Бердияра, который по наукам идет первым учеником. Но я как «Имам» строго придерживаясь своему закону по «Шариату» – не делаю никакого предпочтения Мулле-Верди яру и он пользуется одинаковым моим расположением наравне с остальными моими учениками. Тем более Мулла-Бердияр, как еще не вполне образованный и ученый человек – близко ко мне не стоит и тесную связь с ним я не поддерживаю, и никаких кроме ученических задач я ему других поручений не давал. Кроме разговоров по вопросам науки – я с учениками других посторонних не относящихся к делу разговоров не веду и с Муллой-Бердияром я ничего подобного тоже не говорил. Предъявляемая мне Вами рукопись написанная на тюркском наречии рукописными арабскими буквами, какими обыкновенно пишут все мусульмане – на листе почтовой бумаги малого формата, на одной стороне котораго написано письмо по переводе на русский язык начинающееся словами: «Любезный брат…» и кончающееся словами: «…депутат Ташкентских мусульман Кариев», а на другой стороне этого листа написано: «Танби-Намэ» – что значит «прокламация», начинающаяся словами: «О смиренные мусульмане…» и кончающаяся: «…Указатель дальнейшего пути депутат мусульман» – я заявляю, но окончательно сказать не могу, кто это написал, то есть какой человек. Но я утверждаю, что писал это не я, и никто другой, которому бы я мог диктовать для писания эти будто бы мои собственные слова. Я еще раз говорю, что это дело не моих рук. Но я думаю и предполагаю и подозреваю, что это мог написать сарт Таджибай Иса Мухамедов. Возрения и убеждения Таджибая Иса Мухамедова я не знаю – но по нравственным качествам Таджибай по-моему способен написать как бы от моего имени подобное подложное письмо. Я приписываю подобное деяние Таджибаю Иса Мухамедову потому, что он на меня сердит, – а я друг его брата Мирза-Абдуллы, с которым Таджибай враждует, и из этого я допускаю, но окончательно и утвердительно сказать не могу – что Таджибай по злобе к брату вредит и его друзьям то есть мне, о чем известно всем проживающим в нашей махалле (квартале) Пу-Штюбах. Почему именно автор этого предъявляемого письма, подозреваемый мною Таджибай – еще упоминает и выставляет в тексте письма имя моего ученика Муллы-Бердияра – я тоже окончательно и утвердительно сказать не могу: но предполагаю, что это сделано для большаго усиления тяготеющаго на мне подозрения будто бы в противоправительственной деятельности и еще и потому что Мулла-Бердияр, человек уже взрослый и считается моим первым учеником по наукам – в силу чего имя Муллы-Бердияра и выставлено, – а других остальных учеников не упомянуто как и малолетних.