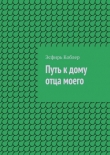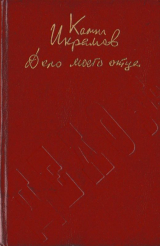
Текст книги "Дело моего отца (Роман-хроника)"
Автор книги: Камил Икрамов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Камил Икрамов
ДЕЛО МОЕГО ОТЦА
Роман-хроника
Книгу К. Икрамова «Дело моего отца» когда-то собирался печатать Твардовский в журнале «Новый мир». Вместо этого автору пришлось спрятать ее на тридцать долгих лет, но все тридцать он не прекращал над ней работу.
В центре книги – две судьбы, два человека. Отец – Акмаль Икрамов, видный партийный и государственный деятель, расстрелянный в марте 1938 года вместе с Н. И. Бухариным и другими, проходившими по процессу «право-троцкистского блока», и сын – автор книги, арестованный в шестнадцатилетнем возрасте, проведший 12 лет в лагерях и ссылке. В книге есть слова: «Одна сюжетная линия движет мной уже тридцать писательских лет – отец и сын. Две судьбы, две истории, два человека. Один жил ради будущего, другой в этом будущем живет».
К сожалению, Камил Икрамов до выхода книги не дожил, 3 июня 1989 года он скончался.



Об этой книге и ее авторе
Писать о книге Камила Икрамова – все равно что писать о собственной жизни. Он родился в 1927 году, я – в 1930-м, но судьба у нас одна, и мой отец, как и его отец, стал жертвой сталинского террора. Только мой отец выжил, отец Камила Икрамова пал от пули. И сам Камил последовал вслед за ним в тюрьму. Мой детский дом несравним с этой тюрьмой, хотя детский дом – так как его задумал основатель советской педагогики А. Макаренко – был лагерем без колючей проволоки.
Я убежден, что каждый из нас должен написать книгу о своем отце. Отцы – любовь и камень преткновения для нашего поколения, которое, осекшись на их опыте, стало другим, совсем другим.
Это чувствуется в книге К. Икрамова. В ней нет жесткости, завещанной отцами, нет безоговорочности, нет уверенности, что нам – и только нам – принадлежит абсолютная истина. Конечно, это была вера отцов, но это было и их суеверие, их мистическая преданность идее, которая их же отправила – кого в бессрочную ссылку, а кого – на эшафот.
Были люди, которые не подписывали предъявленных им обвинений. Акмаль Икрамов их подписал. Он признал себя без вины виноватым. Но кто посмеет бросить ему слова упрека?
Автор книги по этому поводу пишет: бессмысленно возвеличивать терпение человека под пытками, бессмысленно выставлять в герои того, кто, видя мучения своих близких, пытаемых у него на глазах, упорствует в молчании. Есть в этой героизации особого рода жестокость.
А застенки Лубянки и Лефортова были не чета застенкам всех предшествующих тайных канцелярий. Когда тебя сажают в камеру с голодными крысами или на допросах прищемляют половые органы – кто может это перенести?
Если пользоваться сравнениями из литературы, то я бы сказал, что книга Камила Икрамова – это книга современного Гамлета, который все время видит перед собой тень отца. Тень просит мстить за нее – Гамлет медлит. Он сомневается, он мучается мукой человека, не желающего – даже из святых побуждений – обагрять свои руки кровью. Единственное, что он может передать тени, а через нее и отцу, – это любовь и верность.
«Дело моего отца» – книга великодушия и любви. Поразительно, как автор, сам пройдя лагеря и ссылки, сохранил в себе эти чувства, не ожесточился, не озлобился. Видно, это было передано ему отцом и матерью (а мать К. Икрамова постигла та же участь, что и отца). Видно, прожектор детства навсегда осветил его жизнь.
Когда я читаю, как кто-то в тридцатые годы отрекался от отца или матери, предавал свою семью якобы из-за убеждений, я не верю этому. Потому что нет силы, которая могла бы пересилить любовь к матери и отцу.
Камил Икрамов пишет, что почти не встречал среди детей репрессированных подонков, деляг, карьеристов. Опыт страданий, исказив их жизнь, не сломал их внутренне. Верность отцам перенеслась потом на верность близким, друзьям, людям. Она стала коренной чертой целого поколения.
Я познакомился с Камилом Икрамовым за три недели до его кончины. Он знал, что безнадежно болен, но при этом держался как человек, который не пал духом. Меня поразили его самообладание и благородство. Он держал на руках внука и улыбался ему. Он улыбался всем приходящим. Он хотел говорить и говорил о жизни, а не о смерти.
И, обращаясь мыслью к тем, кто растоптал и развеял по ветру его семью, он не жаждал сведения счетов. Нот вражды и отмщения нет в его книге. Это – светлая книга, хотя в ней рассказано о жизни во тьме. Хотя многие ее персонажи – бесы, по сравнению с которыми «бесы» Достоевского – мелкие приготовишки. Они – теоретики, пустомели, иногда лишь по случаю прикладывающие руку к мокрому делу. «Бесы» из книги К. Икрамова – мясники на бойне, свежеватели живых душ, убийцы в законе.
Они родились от той же матери-идеи, что и их жертвы. И они сами – жертвы истории, ибо их участь незавидна. Такие книги, как книга К. Икрамова, вбивают в их биографии осиновый кол.
Я не хочу вдаваться в ее подробности, в отдельные перипетии, оценки. Мне важен дух этого сочинения и дух автора, который высоко возносит читателя, внушая ему добрые, а не злые чувства.
Под конец встречи мы заговорили о том, что нас ждет. К. Икрамов очень надеялся, что петля вражды не захлестнет общество. Он сказал, что в противном случае мы можем превратиться в трехсотмиллионный Ливан, где будут стрелять уже не из автоматов и пушек, а ядерными ракетами.
В этом его предчувствии я уловил глубокую тревогу. За окном светило солнце, виднелись распустившиеся деревья (на дворе стоял май), и это было последнее солнце и последние зеленые листья, которые видел Камил Икрамов. Он смотрел за окно и не завидовал тем, кто останется жить. Он желал им жизни – жизни надолго. Таким он остался в моей памяти, таким он предстает и со страниц книги «Дело моего отца».
ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ
Предуведомление
«И сказал Иосиф: не бойтесь; ибо я боюсь Бога».
Бытие, глава 50, стих 19
Я пишу эту книгу больше тридцати лет.
Конечно, читателю дела нет до того, сколько времени потратил писатель на свою работу, но это мое предисловие не «от автора», ибо авторские предисловия, как известно со времен по крайней мере Лермонтова, смысла не имеют.
Это предисловие сына героя книги.
Именно как сын героя я начал делать первые записки в толстых тетрадях и на отдельных листочках. Я делал эти записи тогда, когда не только не был писателем, но и не собирался, не надеялся им стать. Важно было понять самому – кто же мой отец. Кто он?
…Менялись времена, иногда казалось, что книга об Акмале Икрамове нужна срочно, иногда же возникало ощущение, что имя это вновь будет поминаться крайне редко и только при анафематствовании.
Я писал повести, романы, сценарии, пьесы, но про отца – для себя. Об отце я мог говорить только правду, а времена, как они не менялись, этому не способствовали.
Впрочем, это не совсем так. Писать «в стол» я стал после того, как вначале написал полтораста страниц, которые назывались так же, как эта книга, – «Дело моего отца» с подзаголовком «Комментарии к тексту». Это о том, как сын, вернувшийся после лагерей и ссылки, читает стенограмму «Процесса антисоветского „право-троцкистского блока“», что он увидел, что понял. Ведь Акмаль Икрамов был в числе главных обвиняемых и признавался во всем. Так казалось на первый взгляд. Рукопись в «Новом мире» приняли восторженно.
Анна Самойловна Берзер, Ефим Яковлевич Дорош, заведовавший прозой, и заместитель Твардовского Алексей Иванович Кондратович стали готовить рукопись.
– Вот напечатаем «Раковый корпус» и сразу начнем пробивать тебя, – говорил Алексей Иванович. – Ведь у тебя впервые будет так о Бухарине. Понимаешь?
Я ходил именинником.
«Раковый корпус» не напечатали, хотя и верстка была.
Время круто пошло вспять. Так круто пошло, что в бухгалтерских документах я подменил свою рукопись куском из детской приключенческой повести.
Через много лет возникла надежда написать книгу для серии «Пламенные революционеры». Это была попытка компромисса с моей стороны, надежда на камуфляж, который бы так маскировал главное, чтобы это главное оставалось. Дважды, в 1982-м и 1984 году, я относил книгу в издательство, предварительно спрятав запасные экземпляры у самых надежных друзей. Предосторожность оказалась напрасной, но и напрасно я надеялся на камуфляж. Добрые мои друзья-редакторы возвращали рукопись с просьбой никому не говорить, что они ее читали.
Так что нынешний вариант – четвертый. Я убрал из него многое, что было написано для отвода глаз, а то, что вписываю теперь, в 1988-м, хотел бы увидеть в печати набранным другим каким-то шрифтом, курсивом, что ли, или в скобках.
Однако не вошел бы мой курсив в противоречие с написанным ранее. Это дополнения, новые факты, имена, которые не мог назвать, чтобы не подвести людей еще живущих. Но главное – факты, открывающиеся нам сегодня и совершенно иначе освещающие наше прошлое.
Для литератора или редактора не составляет труда грамматически перевести, к примеру, настоящее время в прошедшее, но постараюсь избегать этого, ибо книга моя не только роман-хроника, но и документ о мучительном пути к истине, а так заманчиво, почти неодолимо желание быть умнее задним умом.
Недавно я давал интервью болгарскому телевидению! Меня спросили: когда я впервые понял, что такое Сталин? Нужно было время, чтобы вспомнить… Лето 1951 года, я уже потерял отца, мать, многих родственников, я прошел страшные лагеря, где дружил с людьми мудрыми и честными. В то лето я находился в ссылке в крошечном ауле в пустыне Бетпакдала. Ночью я лежал на кошме, укрывшись другой кошмой, стоял пяток юрт, рядом паслись овцы и козы, а небо было в звездах крупных, как вишни. Я представил себе, что сейчас явится передо мной волшебник и разрешит мне высказать одно желание, которое непременно будет выполнено. Только одно желание, а не три, как в сказках. До сих пор удивляет меня, что не свободы я попросил бы. Мое желание было сформулировано точно: пусть в ночном московском небе огненными буквами, а днем черными по голубому постоянно висят два слова: «Сталин – говно!» И пусть ни авиация, ни зенитки не смогут эти слова стереть.
Это сколько же, выходит, надо было времени, сколько надо было увидеть и пережить! Точно помню, что за два года до того я так не думал, «диалектически мыслил». Не мог принять такого грубого примитива. И все-таки, все-таки! Почему я все эти годы завидовал красивому мальчику лет четырнадцати, с которым на несколько минут оказался в кафельном боксе Бутырок? Нас воткнули туда четверых или пятерых, а мальчик этот уже был там и на вид казался явно моложе меня.
Никого моложе меня из «политических» я не встречал ни до, ни после.
– Сын врага народа? – спросил я.
– Нет, – ответил мальчик. – Мы за партию сидим, ВППС. Организовали в Ульяновске, листовки расклеивали.
– Что такое ВППС?
– Всесоюзная партия против Сталина.
Больше поговорить не удалось: нас «выдергивали» по одному и водили расписываться, что ознакомились с постановлением Особого совещания.
Не знаю, сколько их было в ВППС, какая была у них программа. Мальчик сказал, что он сидел за настоящее дело, а не зря, как я, не по недоразумению, не потому, что «сын врага народа» и предполагалось, что должен мстить. Но я-то знал, что не собирался мстить, и готов был умереть в борьбе с фашистами, и кричал бы вместе с другими: «За Родину, за Сталина».
Где он, тот мальчик? Что с ним сделали? Что с ним сталось?
А я просто «сын врага народа».
Анатолий Жигулин говорит, что я был в числе тех, кто повлиял на его решение писать «Черные камни». Говорили мы с ним об этом часто и подолгу, но жесткая его проза вновь поразила меня. С такими ребятами, как он или Батуев, я в лагерях, тюрьмах и пересылках не встречался. Скажу больше, мои взрослые солагерники в подавляющем большинстве были людьми с куда большей деформацией сознания. Будучи очень порой образованными, видевшими и знавшими тоже неизмеримо больше, чем те школьники и студенты из Воронежа, эти люди подверглись какой-то таинственной и тотальной деформации сознания. Ни в коем случае не назову это конформизмом, дело в ином, в том, что я назвал бы влиянием какого-то специфически нашего, отечественного гегельянства, сводившего все к тривиальной формуле, что все действительное разумно, что с данностью надо считаться.
Я всегда был далек от настоящей философии, но мой нынешний добрый знакомый, философ настоящий, имя которого без его разрешения я назвать не хочу, презрительно бросил как бы невзначай в разговоре о нашем другом знакомом:
– Он же гегельянец, что с него взять?
Толя Жигулин-Раевский и те мальчики из ВППС не знали Гегеля и Канта, но руководил ими нравственный императив, хотя и этого термина они не знали.
Гегеля мой отец изучал, Кант был ему, по-видимому, не близок, но дело, конечно же, не в этом. Или не только в этом.
Меня спрашивали: «Правда ли, что вы пишете об отце?» «Когда будем издавать?»
Я отвечал по-разному. Иногда я говорил уклончиво в том смысле, что книг у меня много, а отец один.
И вот главное, что я свидетельствую в данном вступлении как сын и писатель, – мой отец был настоящим коммунистом, настоящим большевиком-ленинцем.
Сегодня очень многие пытаются любым способом опорочить людей, делавших революцию, погибших за нее. Причем тут все беды России и империи начинают исчислять с Радищева и декабристов. Степняка-Кравчинского называют убийцей, а Мезенцева – жертвой, считают, что именно Фурье и Оуэн виноваты во всех ужасах раскулачивания и коллективизации, что именно фаланстеры были созданы Сталиным на Кубани и в Рязани, что Желябов и Перовская виноваты в репрессиях, которые проводили Ежов, Берия и др.
– Перовская и Желябов породили все это!
– А если не они? Если тот же Мезенцев? Если все тот же Муравьев-вешатель?
– Это две стороны одного явления!
Ох уж эта гегелевская диалектика на русский лад! Ох уж это интеллигентское чистоплюйство!
Две стороны одного явления?
Бесспорно, что убийца и убитый связаны воедино, но путать одного с другим – стыдно и смертельно опасно.
В каком-то смысле это историческое недомыслие, обернувшее свое тупое рыло к обличению революционеров, поносящее Чернышевского заодно с Нечаевым, сделало еще один, подсказанный Сталиным, незаметный шаг назад даже от сталинских времен, не говоря уж о временах Соловьева и Ключевского. Страна, жившая столетия под ужасом Грозного и Малюты Скуратова, твердо знавшая Бирона и Шешковского, теперь забыла о них, чтобы все беды России вывести из Азефа. Пестель стал хуже Майбороды, а Кюхельбекер – Бенкендорфа…
Горько, что именно теперь, в сравнительно благополучное для обывателя время, он, этот обыватель, стал совершенно равнодушен к истине. Даже модное ныне увлечение религией не помогает вспоминать об истинах христианских. Ныне все еще принято говорить, что все относительно, что нет абсолютных истин, что Христа не надо понимать буквально, что «есть многое на свете, друг Гораций…».
Мы живем в удивительной стране, где одни ведут отсчет времени с 1937-го, другие с 1930-го, третьи с убийства царской семьи… И очень мало кто помнит, что жил в России Лев Толстой с его поистине великим и поистине интернационалистским учением, с «Хаджи-Муратом», со статьями «Так что же нам делать?», «Христианство и патриотизм», с целым полутомом статей о голоде… А уж В. Г. Короленко и вовсе исключен из сознания. Стоят его тома на полках интеллигентов и тех, кто таковыми себя считают, но идеи русского демократизма, защиты гонимых царизмом русских, инородцев, иноверцев и инаковерцев стерты из сознания. Да что идеи! Стерты и факты. Говорим о суде присяжных, который был высшим до сих пор юридическим достижением, но напрочь забыли о страшной карательной системе «в административном порядке», которую на высшем уровне с применением новых технических средств возродил Сталин.
Кто нынче не знает аббревиатуры АС (административная система), но относим это в основном к экономике, будто экономика может существовать отдельно от политики А корни?
Вера Засулич избежала тюремного замка только потому, что сразу после оправдания присяжными скрылась от агентов тогдашней АС.
Идеализация царизма, которая то и дело выплывает на свет, носит не ностальгический характер. Она направлена не назад, а вперед, на будущее наше. Но уже сегодня видятся первые столкновения, где, с одной стороны, великодержавный шовинизм и мечта о патриархальном устройстве общества, а с другой – традиции наших демократов, основанные на уважении человеческого и национального достоинства, на терпимости к идеям, к мнениям, к религии и национальным проблемам. И нельзя удивляться тому, что сторонники первой из названных мной тенденций в сегодняшнем столкновении мнений вроде бы вдруг оказались защитниками сталинизма. Не «вдруг» это, а закономерно, ибо третьего никому из нас не дано.
Мы живем в стране, которая зовется Союзом Советских Социалистических Республик, раньше она называлась Россией, но долго была уникально разноплеменной колониальной державой, где – опять же уникально – обратная связь колоний с метрополией была едва ли не важней связи прямой. Русская азиатчина всегда имела мощную подпитку из Азии, и без Азии в ней не происходило ни одно важное событие от времен князя Игоря и вплоть до Великого Октября. Только национальная программа большевистской партии, только статьи Ленина по национальному вопросу в противовес поразительно узколобой шовинистической политике царизма могли обеспечить победу революции. Это так! С этого начиналось, а куда пришло – другой вопрос. Совсем другой.
…Книгу об отце я начинал с разных направлений. То мне казалось, что это должна быть историческая беллетристика, то строгий подбор документов с минимумом комментариев… Я писал, писал, складывал в разномастные папки… и больше в них не заглядывал.
Постепенно я понял, что любые сюжетно-жанровые ухищрения в данной работе – безнравственны по сути. Я должен писать об отце то, что я о нем знаю и что я по этому поводу думаю. А сюжет вечный – он и я, отцы и дети.
Прощались мы с отцом в гостинице «Метрополь» в первой половине сентября 1937 года. Он сказал мне:
– Что бы со мной ни случилось, сынок, что бы про меня ни говорили, знай, что я всегда был честным коммунистом, большевиком, ленинцем.
Я не понимал, что мы прощаемся навсегда, я не понимал, почему в глазах отца слезы, я ничего не понимал в тот миг не потому, что был мал для такого понимания, а потому, что был в шоке, который продолжался много лет. В этом шоке в 37-м, до и после него долго жили люди и вся страна. Видимо, именно шок способствует тому, чтобы вовсе стерлись в сознании причины шока.
(В первом варианте книги я писал, что после процесса 1938 года мой дед по матери, известный московский врач Лев Захарович Зелькин, усиленно лечил меня, месяцами давал какие-то лекарства и в конце концов вынужден был положить в детскую психиатрическую клинику. Я даже пропустил учебный год. Ночные кошмары я помню, но почему мудрый врач был вынужден обратиться к профессиональным психиатрам – понимаю только теперь. Видимо, были основания. Из первого варианта книги эту историю я убрал: умудренный товарищ сказал, что упоминание о детском психическом расстройстве опасно, это может дать основание теперь упрятать меня в психушку. На основании анамнеза.)
Идут годы, слабеет, конечно, память, жалею, что не записал какой-то эпизод, когда помнил отчетливо. Какие-то имена забываются, но все же не жалуюсь я на память, а вот ни одного товарища по второму классу ташкентской школы № 60, где учился, не помню. Ослепшая в старости моя учительница недавно написала, как я упал в бочку с мазу том… И этого я не помню. Это стерлось, как многое второстепенное, что было в 1937-м и 1938-м. Спасло меня то, что медики называют трудотерапией. Я поступил в автомобильный кружок Дома пионеров, там мы работали на всех станках, освоил я автодело и построил два первых в стране мотороллера. Тогда они назывались еще скутерами. В каком-то довоенном номере журнала «Пионер» была даже моя фотография к статье «Пионеры умеют работать». Через три года в лагере Гушосдора НКВД СССР № 2 я стал автослесарем, и это спасло мне жизнь.
Нет, главное я помню! Помню!
Сознание и память – почти синонимы. Сознание, лишенное памяти, – абсурд. В полном сознании я пишу эту книгу для самого массового читателя.
О памяти
До сих пор мне иногда кажется, что вот-вот откроется дверь и войдет отец. Молодой, стройный, с запыленным смуглым лицом, усталый после дальней поездки в открытой машине по невероятно пыльным дорогам тогдашнего Узбекистана. Войдет усталый и улыбнется мне, мгновенно стерев с лица все свои заботы и тревоги.
Умываться он любил во дворе под краном голый до пояса, делал это быстро, тщательно, но с каким-то особым удовольствием. Спортивно, как мы сказали бы теперь. До сих пор мне кажется, что он может войти, кажется, что я не удивился бы этому.
А в детстве я ждал. Раза два или три случалось, что какой-то человек со спины мне виделся похожим на отца, я долго шел за ним, боясь забежать вперед, потому что в глубине души неосознанно и неотвратимо боялся разочарования. Чары ожидания и самообмана были потаенные, сладкие, и я мог долго идти за незнакомцем. Однажды в Москве на Пятницкой улице я и вовсе увлекся, сел за незнакомцем в трамвай и продирался сквозь толкучку, радуясь заслонявшим его спинам. У Покровских ворот я увидел лицо незнакомца, оно было совсем чужое, но такое же усталое, как у отца.
Давно уже я старше своего отца и никому не поверю, будто ребенок может забыть родителей. Память живет в каждом из нас вечно. Почти от рождения до самой смерти.
Я хорошо помню отца, но знал о нем мало, и несколько десятилетий ушло на то, чтобы понять его характер, мотивы поступков и слов. Я сижу в архивах, читаю старые книги и журналы, разыскиваю людей, знавших отца в разные периоды его жизни. Теперь все чаще люди сами находят меня по книгам, по статьям, по фильмам. Меня разыскивают через официальные организации, через редакции и Союз писателей.
– Почему вы не пишете книгу об отце?
– Книг у меня много, отец один.
Конечно, это отговорка, лукавая отговорка, чтобы скрыть страх перед книгой, главной книгой, которую редко кому удается написать.
Все ли знают, что ничто в истории не исчезает бесследно, что даже при теперешнем развитии науки и техники, при всех ужасающих средствах уничтожения человечество легче лишить будущего, нежели прошлого, хотя намерения эти одного корня.
Пока на земле есть люди, прошлое не истребить. Человек стал человеком, когда научился передавать и перенимать опыт памяти. Чем вернее, точнее в деталях наша память, тем действеннее, тем полезнее для общества.
История. История, лишенная подробностей, никому не наука.
Жажда помнить все – отличительная черта того биологического вида, к которому мы принадлежим. Чем иначе можно объяснить наш постоянный обмен знаниями обо всем прошедшем и ушедшем навсегда? А память на клеточном уровне? Чем выше уровень генетической памяти, тем выше организм.
Тривиально звучит сентенция, что книги, как люди, имеют свою судьбу, но как не удивиться тому, что через десятки лет очень разные люди подарили мне две книги из личной библиотеки отца. Путь этих книг был очень долог и отразил многие социальные и бытовые катаклизмы нашего времени.
Одна из них осталась в нашем доме, когда в него со всей его мебелью, бельем и книгами въехал преемник отца, ставший вслед за ним первым секретарем ЦК КП(б) Узбекистана, Усман Юсупов. Мебель он оставил, не знаю, как поступил с постельным бельем, но книги стояли на своих местах. Дети У. Юсупова росли, выходили замуж, женились… И вот один из этих молодых взял старую книгу, ибо выбрал себе профессией философию. Потом он показал книгу одному из своих научных руководителей, а тот выпросил ее будто бы в подарок себе, а на самом деле чтобы подарить мне. Мы были только знакомы. Спасибо тебе, Игорь Пантин!
Вторая книга принадлежала молодому перспективному востоковеду 3. Д. Кастельской. Ее арестовали в 1937 году за то, что она часто бывала в нашем доме, что считалась как бы приемной дочерью бывшего меньшевика, а затем видного большевика Ларина. Все ее книги и рукописи были изъяты в Ташкенте при аресте, эта же чудом сохранилась у подруги, которая по прошествии двадцати лет вернула ее Кастельской. Зинаида Дмитриевна преподнесла ее мне.
Есть и третья книга, такая, как была в нашем доме, но другая – красочный подарочный экземпляр альбома, выпущенного к десятилетию Узбекской ССР. Эта книга содержит много фотографий отца и вернулась ко мне с надписью: «Камилу Икрамову – в память необыкновенную об его отце. Он нас поднял на эту книгу». Подписи – А. Родченко и В. Степанова. Да, Родченко, тот знаменитый художник, о котором даже в Советском энциклопедическом словаре сказано очень много. Александр Михайлович перед смертью пригласил меня к себе в огромную комнату на улице Кирова в Москве. Посреди этой комнаты он вынул несколько пластин паркета и достал из тайника альбом. Вот ведь какой подарок, могший погубить его, хранил и преподнес мне художник с мировым именем, близкий друг и сподвижник В. Маяковского…
Экслибриса у отца не было, он ставил свое факсимиле. Оттиск четкий, разборчивый.
Две случайные книги из очень большого собрания, а для меня каждая из них полна особого значения. Вот, например, капитальный труд по теоретическим проблемам естествознания: Густав Лебон, «Эволюция материи». Петербург, 1914 г. Перевод с двенадцатого французского издания Эпиграф: «Ничто не создается, все теряется. Интра-атомная энергия, освобождающаяся при дематериализации материи, начало большинства сил мира».
Быть может, с точки зрения современной теоретической физики книга Лебона выглядит наивной или, напротив, интересной и поучительной, но я представляю себе, как читал эту книгу мой отец, как много она открывала ему.
«Современная научная мысль отличается резкой революционной настроенностью. Она восстает против укоренившихся в науке догм, отвергает отжившие доктрины и требует пересмотра некоторых основных своих принципов. Наряду с этим мы наблюдаем процесс сближения науки с философией».
Так начинается этот ветхий том, посвященный энергии, заключенной внутри материи, предсказывающий в области физики то, чему мы являемся свидетелями. Есть в этой книге несколько абзацев, чуть заметно отчеркнутых карандашом.
«Среди занятий, наполняющих столь короткие моменты нашей жизни, никакие, пожалуй, не приятны так, как искание скрытых истин, протаптывание тропинок в окружающее нас необъятное неизвестное».
Не было у отца и самых кратких моментов для протаптывания новых тропинок в физике, его жизнь была отдана другому – пути в столь же необъятное и неведомое будущее. Его поколение обладало небывалым никогда прежде социальным оптимизмом, который и ныне волнует всех, кому по-настоящему и бескорыстно дорога наша история.
Так уж повелось, что быть оптимистом стыдно, что во все времена пессимизм больше свидетельствует о мудрости. Оптимист – вроде недоумка, а Екклезиаст умнее Моисея и Христа. Но так ли это на самом деле? Отчего же в Библии он только глава, одна из многих составляющих ее книг?
Нет, я отдаю должное мужественному, бескорыстному и открытому социальному оптимизму русской интеллигенции, тому оптимизму, который заражал многих образованных людей в разных нациях и народностях тогдашней России.
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». Это не Лебон, это Пушкин.
Вторая книга из библиотеки отца издана много позже первой, но устарела куда сильнее.
М. Барановский и С. Шварсалон, «Что нужно знать о Китае». Московский рабочий, 1927 г. На обложке и на титульном листе – столбиком по алфавиту наиболее важные, по мнению составителей, понятия, наиболее значительные имена. Приведу этот перечень целиком. «Что такое: Аньгоцзюнь, Аньфу, Боксерское восстание, Гоминдан, Джентри, Красные пики, Лицзинь, Манчуани, Сетльмент, Тайпинское восстание, Шеньши. Кто такой: Ван-Цзин-вей, Евгения Чен, Ли Да-чжао, Сю Чен, Тан Ен-кай, Тан Пин-сян, Фын-Юй-сян, Чан-Кай-ши, Чен Ду-сю, Чжан Цзо-ли, Чжан Цзун-чан».
Книга вышла в год моего рождения, а нам всегда кажется, что это не так-то уж и давно, нет в ней, однако, еще имен и названий, которые долго не сходили с наших уст. Китай от Узбекистана недалеко. Ближний сосед, а китайцев в городах Средней Азии еще на моей памяти было полным-полно. Почему-то уверен, что отец и про Китай знал больше меня.
Не могу поручиться, что Акмаль Икрамов внимательно прочитал все книги домашней библиотеки: она была внушительной. В одном уверен: любая книга была пролистана, просмотрена, оценена, прежде чем он ставил ее на полку Он читал быстро, одинаково хорошо на трех языках – узбекском, русском, фарси. Арабский знал хуже, в пределах Корана и основной религиозной литературы. В конце жизни отец научился читать по-немецки. Времени на чтение у него было ничтожно мало, а интерес не угасал. Я видел его читающим у книжного шкафа, стоял иногда часами. Из многих книг, которые всегда лежали на тумбочке возле кровати, мне запомнились две: одна – со страшными и пророческими для нашей семьи фотографиями – про немецкие концлагеря, другая «Золотой теленок» с иллюстрациями К. Ротова.
Зачем мне память на эти мелочи? А зачем, к примеру, старому инженеру из Донбасса упорно разыскивать меня, исписывать десятки страниц и звать в гости, чтобы сообщить мне нечто, что, как самому этому старику понятно, ничего исключительно не содержит? Вот ведь совсем недавно вскрыл я пакет с незнакомым обратным адресом из неведомого мне Доброполья. На стол выпала бумажка – ответ из журнала «За рулем», в котором некоему товарищу Яксону сообщалось, что английские заводы «Тальбот» и «Напир» в настоящее время не выпускают автомобилей; первый давно слился с фирмой «Самбим», второй специализируется на авиамоторах и поглощен фирмой «Роллс-Ройс».
Еще в том пакете лежала ученическая тетрадка и письмо. Потом пришло еще несколько таких тетрадок.
В. А. Яксон работал шофером в ЦК Компартии Туркестана с 1922 года вместе со своим отчимом, который возил моего отца еще в 1919 году. Отчим был эстонцем и старым коммунистом, пасынок – латыш.
Воспоминания, присланные мне без всякой просьбы, очень конкретны, посвящены шоферской работе и шоферским впечатлениям, но содержат в себе и весьма трогательные отступления со ссылками на Улугбека и Гёте. А ответ из журнала «За рулем» оказался в пакете потому, что Валентин Августович Яксон хотел попросить для меня фотографии тех машин, на которых он возил отца. Это у него не получилось, не поняли его в журнале.
Есть расхожая фраза: «Никто так не врет, как авторы мемуаров». Видимо, есть для такого мнения свои основания, возникшие тогда, когда врали почти все, однако меня лично в воспоминаниях поражает противоположное – удивительная точность. Правда, чаще всего это бывает в устных воспоминаниях. Порой расскажет человек нечто, противоположное общеизвестным фактам: начнешь проверять, в чем ошибка, а ошибки-то и нет. Архив доказывает.