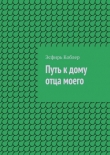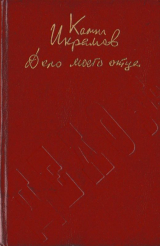
Текст книги "Дело моего отца (Роман-хроника)"
Автор книги: Камил Икрамов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Не поверил я родственникам, будто дядя моего отца Абду-Рауф Абду-Вахид, по уличной кличке Джигут-домля, был депутатом Государственной думы. Говорили, будто его потом арестовали и заковали в кандалы. Рассказывали об этом старшая сестра отца Русора-амма, мусульманская учительница, ни слова не говорившая по-русски, и ее дочь Шарипа – преподаватель вуза. Я твердо решил, что они путают Государственную думу с городской и не может быть, чтобы депутата Думы заковали в кандалы. Путает старушка, путает дочка, не знает она про тогдашние законы и депутатскую неприкосновенность.
Историк подсказал мне, что речь, видимо, идет о выборщиках в Думу. Были в Туркестане выборщики.
Но вот теперь передо мной ксерокопия: «Дело Туркестанского Охранного Отделения об обысках и арестах бывшего члена 2-ой Государственной Думы Абду-Кариева и его единомышленников за пропаганду против государственных идей. По описи № 40, начато 30 января 1909 года». (Вот ведь как: не против государства, а против государственных идей!)
Подтвердилось и вовсе казавшееся мне легендой. Дядя моего отца был сослан в Тулу. Напомню, что Шамиля сослали в Калугу, видели какую-то целесообразность поселения в таких местах опасных инородцев. А во время ссылки мой двоюродный дед ездил в Ясную Поляну беседовать с Львом Толстым. Это установлено документально. Верю я и в то, что туркестанский мулла вылечил травами дочь какого-то тульского начальника, кажется, полицмейстера, за что досрочно возвращен был восвояси.
Дастархан
Большинство свободных бесед о прошлом проходит за дастарханом. Слово «дастархан» многозначно, это и просто праздничная скатерть, и то, что на эту скатерть выставляют, и просто всякое угощение от души. Сидеть за дастарханом можно много часов, и горько ошибается тот, кто подумает, будто сможет поглотить все, чем угощают. Дай бог, попробовать по кусочку, по ломтику, по ягодке, по ложке. Зато все, что говорится за дастарханом, надо помнить крепко, ни слова тут не промолвят зря, все сказанное запомнит хозяин и от гостя всегда ждет того же. Вот почему главы-отступления от основного сюжета я позволяю себе обозначить этим словом – дастархан.
Моя тетя Русора-амма, уже упомянутая выше, была старше своего брата лет на двенадцать, умерла в девяносто лет и до последних дней сохранила ясную память и острый ум. Это она, слушая мои рассуждения об интеллигенции в нашем роду и интеллигентности вообще, предположила, что корень этого понятия узбекский, от «интельгян» – стремящийся, обладающий высоким стремлением. Я не стал разуверять ее. Пусть так. Это важное дополнение к латинскому истоку – разумный, понимающий.
Жаль, что Русора-амма не увидела памятника своему младшему брату, который встал теперь на одной из новых площадей Самарканда. Отец стоит в рост, высокий, стройный юношески легкий.
В двадцатые годы Самарканд был столицей республики, есть там Музей истории и культуры Узбекистана имени Акмаля Икрамова, есть дом, в котором отец жил и где решено создать его мемориальный музей, а дом в Ташкенте, в махалле Укчи, где отец родился, исчез после знаменитого землетрясения.
Дом
Я плохо помню его – только запах солнечного света в смеси с пылью, только калитку, только супу – глиняное возвышение посреди двора, только пустые помещения для скота, только балахану[1]1
Балахана – нечто среднее между чердаком, где хранят сено, и мезонином, где можно жить.
[Закрыть]… Много чего в отдельности, по частям, но мало целого, единого. Наверное, это потому, что я в нем никогда не жил.
Дом этот принадлежал моему дяде, старшему брату отца. Отец звал его почтительно Карим-коры, остальные еще более почтительно – Карим-коры-ака. Старший брат отца, старший среди пяти братьев, он отличался от всех суровостью и – пусть простит он мне эту невольную объективность – раздражительностью ко всем окружающим. Две его сестры, строгая и мудрая Русора-амма и младшая – Садыка, до самой своей смерти не одобряли покойного брата, сокрушались по поводу его характера и отношения к близким.
– Он был похож на нашего отца, – сказали мне тетки, и я едва скрыл свое удивление: узбеки редко говорят так определенно о недостатках своих родственников, тем более – родителей.
– Икрам-домла суровый был, – сказала старшая из дочерей.
– Очень, – добавила младшая.
– А отец? Мой отец?
– Он другой. Он совсем другой, все были на мать похожи. Один Карим-коры на отца.
Дом моих предков располагался в той части города, которой археологи насчитывают две тысячи лет, а по преданию, существующему в нашей семье, на этом месте мы жили лет шестьсот.
Дом этот после смерти деда и ухода оттуда моего отца принадлежал старшему брату, жили там и меньшие. Плохо помню Карим-коры, совсем не помню его улыбки, его голоса, только густые, широкие брови. Знаю, что его году в тридцать третьем укусил чрезвычайно ядовитый паучок каракурт, и тут к трудному нраву дяди добавилось плохое здоровье.
Мы с отцом и матерью иногда ездили навещать Карим-коры с подарками для жены и детей, которых у него было пятеро. Жену Карим-коры мой отец уважал и жалел, по узбекскому обычаю, называл келин-ойе, невестка-мама, в семейных конфликтах всегда становился на ее сторону.
Дом предков остался только в памяти. Весь район снесли, но первым среди многих похожих и столь же древних исчез наш. Сразу после знаменитого Ташкентского землетрясения 1966 года мой двоюродный брат Амин, сын Карим-коры, получил участок для строительства нового дома, старый же разломал окончательно, чтобы использовать столярку, дерево стропил и каркаса.
– Всей семьей ломали, – объяснил он мне, почему наш дом разрушен сильнее соседних. – Очень крепкий был.
Теперь говорят, что Акмаль Икрамов родился возле стадиона «Пахтакор». Раньше был другой ориентир – мечеть Шейхантаур, когда-то главная мечеть Ташкента.
Вообще вся наша родня селилась вблизи этой мечети. Оно и понятно, если учесть, что мы происходим от основателя этой мечети шейха Хованди Тахура, родословная которого восходит будто бы к халифу Омару, одному из основателей Арабской империи и первому редактору Корана. Относительно халифа Омара мне проверить пока не довелось, но дедова родословная – шаджара – сохранилась у родственников. С датами и именами она ведет к шейху, которого поэт Абдуррахман Джами считал своим наставником.
Все это я узнал сравнительно недавно и без какого-либо сознательного интереса. Говорил со стариками, с учеными, с родичами, с историками: вопросы возникали сами собой, и постепенно я узнал, что отец мой родился в семье, насчитывающей четырнадцать поколений интеллигенции. О дальних предках, кроме имен, дат рождения и смерти, известно крайне мало. Зато о тех, кто окружал отца в детстве, удалось кое-что узнать. Дед мой, домла Икрам, был учителем и вероучителем, образование получил в Бухаре и совершил хаджж в Мекку. Сохранился его паломнический посох, который теперь стал коротеньким, как скалка, потому что верующие отрезали от него по кусочку и делали талисманы. Один из дядьев отца, Алимхан, был весьма образован, сотрудничал в «Туркестанской газете», дружил с русским ученым Остроумовым и выступал с публичными лекциями о достижениях естественных наук. О другом дяде – члене 2-й Государственной думы – я уже рассказал.
Бесспорно, что отец многому научился от своих двух старших родичей, но были и другие его учителя, о которых я расскажу, стараясь быть как можно ближе к правде, к тому, что мне удалось узнать.
А дом, в котором родился мой отец и еще по крайней мере десяток колен семьи, я все-таки помню. Иногда отец показывал его, когда устраивал для своих приезжих из Москвы друзей экскурсии в Старый город.
Одного из гостей я запомнил больше других, потому что его приезда ждали.
Невысокий, быстрый в движениях, рыжеватый, если не сказать рыжий, он был крайне и искренне внимателен ко всему, что видел вокруг. Сначала отец обратил внимание гостя на резную тутового дерева калитку, которых тогда в Старом городе было много, объяснил значение традиционного узора, а во дворе сразу повел москвича к… уборной.
– Посмотрите, Николай Иванович, какая глубокая яма, и, заметьте, что совершенно нет запаха. Если бы мы, узбеки, нация, живущая так тесно в городах, да еще в нашем климате, не соблюдали санитарных установлений, мы бы вымерли от эпидемий.
Николая Ивановича очень уважали в нашем доме, фамилия его была Бухарин, и совсем недавно, даже работая «в стол», чтобы назвать фамилию, я должен был преодолеть какое-то весьма ощутимое внутреннее сопротивление – сопротивление страха.
Сопротивление страха влечет на замену одних слов другими, имен – псевдонимами, а фактов – аллюзиями. Но настоящая беллетристика не должна быть легче документа, а до последнего времени она строилась не столько на изобразительных средствах и метафорах, сколько на эвфемизмах, намеренном сокрытии истины.
И все-таки…
Все-таки я добросовестно решил рассказать о том, чего не знаю документально, что почувствовал, понял, чем «проникся».
Прежде всего это атмосфера дома моего деда, взаимоотношения между родственниками, уклад и быт Предыстории моего отца, как я ее себе представляю по многочисленным рассказам близких. Или вот еще – русская колониальная администрация, те люди, которым было судьбой предназначено править огромной окраиной, населенной тьмой загадочных для них «туземцев». Кто были эти люди? Чего они ждали, чего хотели в канун событий, которые для многих обернулись катастрофой?
Чтобы объяснить кратко самые основные исторические, экономические, социальные, религиозные, психологические особенности времени и среды, нет способа более емкого, чем тот, который крупнейшие писатели века прошлого без всякого самоуничижения называли беллетристикой, а себя беллетристами. Да и очерки нравов в лучших своих образцах приближались к образцам изящной словесности и сильно отличались достоверностью своей от того, что, отнюдь не являясь литературой факта, называло себя в последние годы документальной литературой.
Попытка беллетристики
Ни один узбек не вернется домой без подарков близким Даже если отлучка была недельной. Без подарков нельзя. Пусть это будет торбочка сухого урюка, горсть джиды или скромный букетик, который он разберет по цветочку для каждого и вручит со значением.
Акмаль возвращался из кишлака Пскент. Месяц с лишним не был дома и в путь отправился не утром, как настойчиво советовал хозяин, а на ночь глядя.
На дорогах шалили. Это только говорится так – шалили. Разбой, которого и прежде вокруг Ташкента хватало, теперь, во время мировой войны, стал повсеместным. Грабили купцов и простых дехкан, грабили и убивали одиноких путников, нападали группами в два-три человека и большими вооруженными шайками. Голодные грабили сытых, а порой и сытые сытых. Такая пошла жизнь.
Иброхимбай, у которого Акмаль прослужил все лето и осень, считался человеком достойным, род свой вел от святых, хозяйство имел крепкое, держал лавку, имел и трех батраков. Акмаль был один из них, но хозяин выделил его. Вот и теперь, подводя итог долгой службы, Иброхимбай расчет произвел тщательно и до копейки, а сверх всего попросил передать родителям отрез черного ситца в мелкий цветочек и целую голову сахара, обернутую в синюю с белым бумагу.
Весной, нанимая Акмаля, бай Иброхим Ходжи Алимбаев полагал, что новый работник не только для поля пригодится, не только для строительства. На эти дела и в кишлаке людей хватает. Акмаль – сын друга, почтенного ташкентского муллы Икрама, почти родственник: грамотный, умеющий вести торговые книги, несмотря на молодость, знаток Корана и других священных книг.
Бог не дал баю Иброхиму сына, способного взять на себя все дела. Именно с мольбой о сыне ходил пскентский мулла в Мекку и Медину, именно в хаджже к священной Каабе познакомился и сдружился с муллой Икрамом. Теперь мулла Иброхим мечтал породниться с ним. Ни для кого в Пскенте это не было секретом. «Хочет женить Акмаля на своей Ханифе». Об этом говорили вслух.
Еще во время долгого пешего паломничества через несколько стран Востока мулла Иброхим проникся особым уважением к мулле Икраму. Для людей практической сметки часто бывает притягательным все, что выходит за пределы их собственных соображений. Большинство паломников в той небольшой группе шло к святым камням в надежде обрести нечто конкретное для себя: здоровье, уважение, удачу в торговых делах, более солидное положение среди богословов – улемов. Икрам шел в хаджж и молился не о конкретном, не о земном, он просил просветления и стойкости в вере.
Вот еще весной предложил Иброхимбай новому работнику самостоятельно выезжать с товарами на базары. Семь базаров в неделю проходили в округе. Кто бы отказался быть доверенным приказчиком?
Акмаль отказался. Над торговыми книгами он трудился по вечерам и с интересом, тонкости бухгалтерии понимал, сложные проценты считал в уме.
Бай Иброхим диву давался, как Акмаль ловко составляет счета владельцам двух хлопкоочистительных заводов – татарину Давыдову и поляку Тарсиновичу. Толково он брал товары в кредит. Стоять же за прилавком не хотел.
– Тут, мулла-ака, не ум нужно иметь. Тут другое надобно, чего у меня нет.
Высокого полета парень, думал о будущем зяте пскентский купец. Все увидит и отрежет, что и не заметишь, обидеться не успеешь.
Записав в книгу расходов стоимость ситца и сахарной головы, хозяин ни о чем не пожалел. Наступило новое время, видимо, это время таких непонятных.
С котомкой, переброшенной через плечо, Акмаль шел по начинающей твердеть холодной грязи. Ничто не могло испортить его радостного настроения. Даже значение щедрых подарков не омрачало. Пусть! Жениться он не собирается. Ни на ком. На Ханифе тем более. Голова сахара – отличный подарок. И ситец прекрасный. Мать спрячет его в сундуке и тут же очень скоро – Акмаль знал это – Зохиде подарит, первой и единственной своей невестке, жене старшего брата Карима.
Кенойе, так звал ее Акмаль, была любимицей матери. Тихая, скромная, худенькая, как тростинка, в сложной системе родства она приходилась сыновьям муллы Икрама двоюродной сестрой.
Всем Акмаль нес подарки. Младшим братьям крохотные ножи – пчаки, отцу – несколько аршин английской кисеи на чалму, матери – конфеты и два фунта фисташек. Все это вместе с подарками бая Иброхима составляло поистине достойный по случаю возвращения дар блудного сына.
Притча о блудном сыне занимала Акмаля. Варианты ее в приложении к конкретной ситуации могли быть разными. Не хотелось думать, что все будет по-старому: не зря же ушел он из дома, не зря еще раньше пробовал себя в самой тяжелой работе.
Шел батрак в азиатских остроносых галошах на босу ногу, в дешевом халате и выгоревшей тюбетейке, шел по-летнему одетый, но не мерз. За пазухой половина лепешки, на спине торба. Шел батрак и думал обо всем сразу: о восстаниях, вернее, бунтах, которые небывало всколыхнули в лето и осень 1916-го, если по-европейски считать, целые области Туркестана, о казнях сотен людей, о ценах, взлетевших невероятно, о том, как на глазах стала разваливаться и слабеть система, казавшаяся незыблемо твердой, система такая вроде бы совершенная в своей всепроникающей продажности и беспринципности. Еще он думал о жестком разделении городов покоренного края на две части – азиатскую и европейскую, между которыми самая настоящая пропасть. Лишь тот, кто никогда не бывал в горах, не знает, что пропасти начинаются с самых безобидных расщелин и оврагов.
Шел батрак Акмаль и вдруг на полдороге понял, что все происходящее необратимо, что нет тут остановки, никто не затормозит все убыстряющегося движения, никто не сможет повернуть вспять. Еще он понял, что Россия проиграет войну, проиграет – вот главное. Белый царь – ак подшо, всегда побеждавший своих врагов, так постоянно твердили русские газеты, белый царь, собравший под свою руку самые разные народы, теперь доживает последние дни.
Белый царь – ак подшо. Акмалю почему-то удобнее было называть царя Николая словами, распространенными среди простых узбеков.
Ак подшо Николай II уйдет навсегда, сгинет, несмотря на то что весь мир, казалось бы, для него свой: Англия и Франция с ним заодно и даже враг – германский царь Вильгельм – ему родственник. Ак подшо, белый царь, сгинет и утянет за собой сотни тысяч своих слуг, всех этих генералов с усами и в эполетах.
Еще перед войной Акмаль стал читать русские газеты Тогда случился очень крупный разговор с отцом. Зачем вспоминать это? Отец – это отец. Строгость его и суровость давно не удивляли Акмаля. Может быть, именно благодаря отцу сын понимал теперь неизбежность крушения старого мира. Может быть, отец первым среди родни ощутил это и потому так неистово противостоял всему новому, что входило в жизнь, так истово хватался за все устоявшееся, так старательно хотел огородить свой дом и своих детей.
Акмаль перекинул мешок с подарками на другое плечо. Пятифунтовая коническая голова сахара ощутимо ударила по лопатке. А насчет женитьбы на дочери Иброхимбая он и думать не станет.
О крушении империи начальник канцелярии Туркестанского генерал-губернаторства Алексей Николаевич Ерофеев не помышлял. Империя казалась ему крепостью во веки веков. Недостатков за ней он знал множество, много больше иных либеральных критиканов, но в отличие от них генерал верил в возможность все исправить и все наладить. Было бы только время.
Это как в шахматах, когда на необходимое количество ходов остается все меньше минут. Ходы нужно делать точно, а времени нет, только успевай толкать пешки…
Революционеры хотят решить все российские проблемы сверху, а говорят – будто снизу. Бомбы метали, чтобы царей заставить все менять, чтобы парламент, чтобы свобода, равенство, братство. Не для России это. Каждое государство – организм особенный, неповторимый. Что русскому – здорово, то немцу – смерть, недаром говорится. Взять хотя бы размеры, размах. Россия – это ведь не Тульская плюс Вологодская да Воронежская губернии, это ведь и самоеды с чукчами, малороссы с белорусами, поляки с грузинами, сарты всякие, киргизы, якуты. Это не одна земля, не один уклад, как во Франции какой-либо или же в Англии.
После ужасающего по своей неожиданности разгрома великой нашей державы в войне с крохотной островной и недавно еще полудикой Японией все стали искать причины: революционеры, жиды, интенданты… Но ведь причина поражения именно в том, что не каждый на своем месте хотел, не каждый умел честно исполнять долг, думал он. Вот и тут, в Туркестане, большинство бед от собственно туземной администрации, от волостных судей. Ну и наши россияне хороши. Соблазны больно велики, но не понять, кто кому уроки дает.
Сводки из действующей армии Алексей Николаевич читал всегда с одним и тем же выражением на лице – одна бровь чуть выше другой, губы трубочкой.
Если бы наука история служила только в поучение, ее бы так не ценили. Огромное число людей, особенно из власть имущих, любят историю не за горькие уроки – за ее утешительность. Взять хотя бы войну с Наполеоном. Чему она учит? А тому в первую очередь, что и падение Москвы не означало ничего окончательного.
Статистики выкладывали перед ним тревожные таблицы, сообщали и о том, что в Туркестан вместо необходимых 7000 пудов хлеба завезена лишь четвертая часть, что спекулянты торжествуют, а цены на муку и рис подскочили за год вдвое, на сахар и сало втрое. Но разве это существенно? Когда начались бунты в связи с реквизицией, полковник Лелютин из Туркестанского охранного отделения явился среди ночи. Любят жандармы власть пугать, цену себе набивают.
В конце концов все обошлось. Войска действовали умело, грамотно, по плану. Мятежные кишлаки сровняли с землей, выжгли посевы и сады, стреляли всех подряд. Но и законность была соблюдена: к смертной казни – всего 347 человек, на каторгу – 525.
Главной заботой теперь казалось другое – волнения среди русских. Началось с бабьих бунтов. Отвратительные эксцессы самой темной, неуправляемой части толпы – женщин. Озверелые от голода, они громили лавки, камнями забрасывали полицейских. Туземцы в этом почти не участвовали. Почти. Пока удавалось сделать так, чтобы две волны недовольства, волна туземная и русская, не превратились в девятый вал.
Перечитывая подготовленную для отправки почту, Алексей Николаевич поймал себя на мысли – в который раз поймал себя на этой мысли и в который раз не задержался на ней, – что сообщает он только успокоительные вести, только то, что по сути своей никакой особой реакции от читателей и не требует. Он взял из шкафа папку с копиями телеграмм, отыскал ту, что отправил в разгар восстания, когда устроили в Ташкенте военный парад для демонстрации силы русского оружия.
«Сего числа после парада почетные туземцы города Ташкента и туземцы – гласные ташкентской городской Думы обратились ко мне с письменной и словесной просьбой, что они, потрясенные и подавленные явным неповиновением некоторой части ташкентских горожан высочайшему повелению о привлечении туземного населения к тыловым работам, просят верить их глубокому возмущению дерзостным преступлением безумных ослушников и искреннему желанию искупить их великую вину…»
Генерал покачал головой. Тут не между строк можно прочесть, тут слова ясные: «потрясенные и подавленные явным неповиновением» и еще «дерзостные преступления безумных ослушников». Ясно сказано!
Ноябрь шестнадцатого года был сырым, ночью температура опускалась к нулю. Вот и сейчас в кабинете генерала ощущалась типично среднеазиатская холодная промозглость.
Алексей Николаевич помедлил, размышляя, позвать ли кого, чтобы растопили камин, самому ли это сделать. Он оглянулся: за бронзовой решеткой под высокими синего кафеля сводами толково лежали сухие лучинки, кривые обломки плетей саксаула, тяжелые полешки старых фруктовых деревьев.
Генерал, чуть кряхтя, опустился на корточки, чиркнул спичкой. Приятно видеть, как разгорается дерево, как послушен огонь человеку. И покряхтывать тоже приятно, не старческое это кряхтенье, а особое, вроде геканья, которое так необходимо при колке дров.
Здесь холодно, а каково полуголым бедолагам у Белого моря, каково им за Полярным кругом? Плохо, очень плохо. Но ведь надо. Необходимо. Некому больше строить важную железную дорогу. Велика Россия! Велика и потому преодолеет любую хворь.
Алексей Николаевич встал от жарко пылавшего камина, подошел к столу, на листке текущих дел сделал еще одну запись: «Усилить пропаганду патриотизма во всех изданиях русских и туземных. В церквах и мечетях».
Генерал подошел к окну, выходящему на просторную террасу. В летние дни она так спасала от зноя и слепящего света, теперь казалась угрюмой, пустой. Нелепо стояла белая плетеная мебель: стулья, столы и кресло-качалка. За круглыми массивными колоннами начинался сад. Он был тосклив в этот утренний холодный час. Последние листья казались черными.
Я потому позволил себе описание генерала, начальствующего в Туркестане, его дома, камина и сада, что располагаю не только документами, свидетельствующими о событиях шестнадцатого года и о ходе размышлений крупного колониального администратора. Дело еще в том, что мне слишком знаком этот дом, этот сад, эта мебель. В 1936 году по прямому приказу Сталина туда была переселена семья первого секретаря ЦК КП(б) Узбекистана.
До 1936-го мы жили в скромном доме на улице Уездной, где прежде жил, кажется, какой-то землемер. Пять комнат на семь человек семьи и домработницу, причем одна из комнат была для приезжающих гостей, еще одна – служебным кабинетом. Их много было, одинаковых домов на Уездной. И еще много таких же и лучше на улицах, параллельных и перпендикулярных нашей, – колониальный Ташкент, уютный, зеленый, с журчащими арыками. Он отделялся от Старого, азиатского, города военной крепостью, построенной по всем правилам фортификации XIX века после завоевания Ташкента. Рашидов потом построил там новое здание ЦК партии, а за ним – резиденции и дома для начальства.
Наше насильственное переселение в 1936 году запомнилось ярко. И писать об этом надо, ибо никто, кажется, не отметил, как, стерев всякую память о партмаксимуме, Сталин стал покупать, подкупать, разлагать своих сподвижников, руководителей партии в центре и на местах. Чем больше крови проливал он, тем важнее было создавать окружение, живущее не так, как народ, а так, чтобы этому окружению завидовали, чтобы рвались в него за благами, за особняками, дачами с поварами…
Помню, как всей семьей мы поехали осматривать дом, который сам Сталин предназначил Икрамову.
Тяжелые, медью окованные двери, из прихожей три ступеньки вверх, а над вторыми дверьми – кариатиды. Столовая с двумя коринфскими колоннами, кабинет с гнутой мебелью, обтянутой голубым шелком да еще с фарфоровыми медальонами на спинках.
Отец был предельно резок с тайно ухмыляющимся управделами. Тогда я впервые услышал слова «кариатиды» и «гризетка».
– Я ведь не гризетка, чтобы была такая мебель. И потом, эти кариатиды… Их же простые узбеки пугаться будут. С черного хода, что ли, их приглашать?
Мебель сменили, кариатиды остались. Ровно год мы прожили в этом доме. Там уже появилась специальная повариха, а в «черном» дворе – комнаты для дворника и для дежурных комиссаров, как называли тогда телохранителей в больших чинах ГУГБ НКВД СССР, подчиненных только Москве.
Исследователи найдут со временем документы о том, как росли ассигнования на быт партийных и государственных руководителей. Найдутся и документы об усилении охраны, которая обосновывалась, конечно же, убийством Кирова, но по сути была конвоем.
Подозреваю, что Серго Орджоникидзе убил кто-то из его «комиссаров». Кто же еще? А главный комиссар моего отца Фролов еще недавно жил-был в Ташкенте. Почему я не захотел встретиться с ним? Отец относился к нему добродушно, но с недоверием, шутил словами из анекдота про то, как послал Иисус Христос учеников своих в Россию, чтобы узнать о происходящем. Один телеграфировал: «Сижу в Чека, пока. Лука», а другой: «Жив-здоров! Комиссар Фролов».
Но не в этом главное, что хочу сказать. Главное в том, когда Сталин начал превращение своей администрации в систему имперскую, такую, чтоб ни по сути, ни по форме не отличалась бы от царской. И коррупция тогда стала зарождаться в качестве неотъемлемого права. Я знал Рашидова, знал о размахе коррупции в Узбекистане, о связи Рашидова с Брежневым, Щелоковым, Чурбановым и выводил все это из режима личной власти, который установил в республике следующий за нами жилец генеральского дома У. Юсупов.
Недавно из письма в редакцию «Литературной газеты» узнал, что Усман Юсупов имел в 1944 году собственную подпольную артель, производящую вино, сбываемое за наличные в городах индустриального Урала. На эти деньги еще в то время У. Юсупов подкупал самых высоких покровителей из ЦК, из ближайшего окружения Сталина. Автор письма сообщил, что был в ту пору инспектором ЦК ВКП(б), а ныне персональный пенсионер союзного значения и живет в Доме на набережной. Это Андреев Петр Федорович, который за дотошность свою вскоре по личному указанию Г. М. Маленкова был не только изгнан из аппарата ЦК, но даже исключен из партии. Восстановили его честь только после XX съезда.
Я познакомился с Петром Федоровичем, с его женой и взрослыми детьми. Он подробно рассказал, как обнаружил винодельческую подпольную артель, огромное животноводческое хозяйство, табун текинских скакунов, как дал шифровку Маленкову и получил ответ: «Проверку немедленно прекратить». Потом Петр Федорович рассказал, как вскрыл взяточничество и хищения в самом ЦК, в Управлении делами и комбинате питания. Он покусился на святая святых, и не арестовали его лишь потому, как полагают в семье, что Берия сохранил Петра Федоровича в качестве свидетеля, впрок на будущие «компроматы» против соперников. Член партии с 1920 года П. Ф. Андреев до самой войны работал на крупных должностях в торговле и финансах. На фронте был очень тяжело контужен и после выздоровления взят в ЦК на контрольно-финансовую работу.
Он рассказывал об этом на мой магнитофон, называл крупные имена, а я думал, что отсрочка с окончательным разоблачением Сталина и его банды была совершенно необходимой не только тем, кто убивал, но и тем, кто воровал Преступления, им вскрытые, как и его персональное дело, – за семью печатями, но жив он и в свои 87 лет отлично помнит даты, цифры, имена. Помнит он винодельческую артель, ее счета, помнит дачу, помнит и дом на улице Гоголя.
Бедный Гоголь, великий Гоголь! Как хорошо, что улица эта носит его имя! Не знамение, не напоминание – просто история.
…Такая вот судьба жильцов дома, где когда-то жил царский генерал, потом мы, потом У. Юсупов, потом была столовая ЦК, потом библиотека сельхозинститута. Теперь там консульство республики Афганистан.
Акмаль шагал по городу, по его узким, произвольно искривленным улочкам с короткими тупичками, с низенькими воротцами, крохотными, утопленными в землю калитками. За дувалами началась жизнь, вились слабые горьковатые дымы, где-то заблеяла овца, где-то протяжно мычала корова. На углу у базарчика пожилой узбек снимал с пегого ишака вязанки хвороста, привезенного на продажу. Ишачок был маленький, молоденький. Почувствовав облегчение, он вдруг вскинул голову и завопил. Вопль был торжествующий и беспричинный. Вопль молодости. Хозяин пнул свою громогласную скотину ногой.
Зря он дерется, подумал Акмаль. На такой веселый крик обязательно кто-то выглянет.
Только взявшись за черное кованое кольцо резной калитки родного дома, блудный сын муллы Икрама понял, как он устал и как голоден. Половина лепешки так и лежала за пазухой, ее сухие края кололи кожу.
Икрам-домла слышал радостные возгласы и суету во дворе, потом, в доме, долетел до него горьковатый запах дыма, потянуло вкусным, машхурдой – супом из мелкого-мелкого черного гороха. Маш – называется этот горох – самый дешевый тогда продукт, пища бедняков. Домочадцы говорили тихо, почти шепотом, лишь голос Акмаля выделялся звонкостью. Это мешало войти в то состояние, которого требовало общение с богом. Губы сами произносили длинные и великолепные в своей устойчивости стихи, худое тело легко гнулось в поклонах. Губы и тело обращались к Аллаху, но внутри бились мирские чувства и соображения. Вернулся сын. Самый любимый, самый сложный, самый упрямый. До сих пор не удалось сделать его своим подобием. Тревожные мысли мешали молиться о главном, о здоровье своей жены Таджинисо, о здоровье, которое прежде никогда его не занимало, о котором и не заботился. Брат Алимхан заходил, предлагал пригласить русского доктора. У Алимхана много знакомых русских, он на них надеется. И Абдувахид вчера поддержал Алимхана. Пусть, мол, придет русский доктор, нигде не сказано, что ислам запрещает получать помощь от неверных. Икрам-домла не возразил им, промолчал.