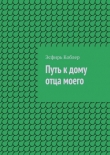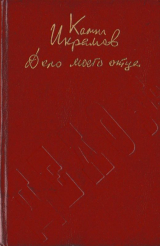
Текст книги "Дело моего отца (Роман-хроника)"
Автор книги: Камил Икрамов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Отец так мрачно посмотрел и сказал вдруг мне: «Зинушка, вы такая хорошая, вы даже не знаете, что все это значит!»
Зинаида Дмитриевна взволнована, и слова отца передает точно так же, как и в прошлый раз, подчеркивая: «что все это значит».
– Это тридцать третий? – спрашиваю я.
– Это я из аспирантуры приезжала на практику Тридцать первый исключен.
– А тридцать второй?
– В тридцать втором тоже было. Это с тридцатого началось, даже с двадцать девятого, но не там. Все-таки тридцать третий. Потому что о казахах разговоров много было. И то, что всюду ведь на станциях они были. Всюду по дороге из Москвы в Ташкент, это было страшное дело, эти несчастные, оборванные дети умоляли и плакали, просили… И вот кажется, тут-то вот был разговор об ужасах в Казахстане Может быть, это была поездка Николая Ивановича, потому что он приехал совершенно убитый… Он роздал все, что у него было, все деньги, говорил: «Мы голодные ехали. Невозможно было смотреть…» Видно, речь на процессе шла не об отцовской поездке, а о поездке Николая Ивановича. Потому что все дороги, все станции были заполнены умирающими, когда проезжаешь Оренбург. Все кругом были несчастные ребятки, валялись на станции и вообще всюду.
– Это тридцать третий, – говорю я.
– Это он… Николай Иванович про поездку рассказывал Марии Федоровне Андреевой.
– Кто это?
– Ну Мария Федоровна. Жена Горького. Бывшая.
Как далеко для нас все то, что было для них совсем близким, обыденным окружением. «Ну Мария Федоровна. Жена Горького. Бывшая». Для нас далеко, для наших детей, которые, дай бог, смогут прочесть мою книгу, это и вовсе иная эпоха… Эпохи разные, а жизнь единая, связанная непрерывной цепью причин и следствий. Очень опасно, что современные люди так мало знают о неизбежности и многообразии возмездия, когда бездуховность потомков лишь первый симптом болезни, итог которой впереди.
Последние годы Зинаида Дмитриевна доживала в роскошном пансионате Академии наук. В лес и поле выходил ее балкон, два телефона стояли на тумбочке: один – городской, другой – прямой к медсестре. Я приходил к ней и видел, как слабеет память. Но ни она, ни я не забывали, в каком году и где, в 1930, или в 1932, или в 1933, был тот голод, те тысячи смертей, те детские трупы с птичьими лапками вместо ног, которые видели люди моего поколения накануне XVII съезда. Было это и в Казахстане, и в Узбекистане, и на Украине, и на Кубани.
Зинаида Дмитриевна – специалист по истории Средней Азии начала нашего века. Как всякий настоящий специалист, она досконально знает только «свой период». В 1937 году она была арестована и пробыла в нетях восемнадцать лет. Потом она переквалифицировалась, как редактор выпускала книги по истории средних веков и знала этот период. А то, что было в тридцатых годах?
Это живо. Это не умерло. Никуда от этого не денешься. Люди помнят и голод, и тысячи трупов на дорогах, на улицах городов, мертвые села и деревни. Люди знают, что Сталин отказался купить хлеб за границей. Это история! Она запечатлена в документах. Даже в собрании сочинений Сталина есть свидетельство того, как и почему он отказался покупать хлеб за границей в те самые годы.
На пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 года Сталин выступил с критикой «правого уклона в ВКП(б)», с опровержением обвинений, выдвинутых против него Бухариным Рыковым и Томским 9 февраля 1929 года.
Обвинений против Сталина было три: а) в политике военно-феодальной эксплуатации крестьянства, б) в политике насаждения бюрократизма; в) в политике разложения Коминтерна.
Каждого, кто хотел бы узнать об этом подробнее, я отсылаю к двенадцатому тому сочинений И. Сталина, но кое-что начиная со страницы 92, следует привести здесь.
«Наконец, несколько слов об импорте хлеба и валютных резервах. Я уже говорил, что Рыков и его ближайшие друзья несколько раз ставили вопрос об импорте хлеба из-за границы. Рыков говорил сначала о необходимости ввоза миллионов 80—100 пудов хлеба. Это составит около 200 млн. руб. валюты. Потом он поставил вопрос о ввозе 50 млн. пудов, т. е. на 100 млн. руб. валюты. Мы это дело отвергли, решив что лучше нажимать на кулака и выжать у него хлебные излишки, которых у него немало, чем тратить валюту, отложенную для того, чтобы ввозить оборудование для нашей промышленности». И еще: «…На этом основании мы решили отказаться от предложения разных там благотворителей, вроде Нансена, о ввозе хлеба в СССР в кредит на 1 миллион долларов. На этом же основании дали мы отрицательный ответ всем этим разведчикам капиталистического мира в Париже, в Америке, в Чехословакии, предлагавшим нам небольшое количество хлеба в кредит».
Это говорил сам Сталин, и включено это в том, вышедший за четыре года до его смерти, в 1949 году Кстати, в томе есть сноска, что в речи, которую я привожу, восстановлено более 30 страниц текста, в свое время не опубликованных в печати.
Почему мы молчим об этом «гордом и идейном» отказе покупать хлеб, когда миллионы людей умирали с голоду? Зря молчим, потому что каждая нынешняя операция по закупке пшеницы, кукурузы или сои за границей дает основания для иронических ухмылок наших недругов и невежественных критиканов.
Кажется, на том же пленуме, где Сталин критиковал своих критиков (к сожалению, я сейчас не имею возможности это уточнить), состоялся знаменитый диалог с моим отцом.
Икрамов говорил о том, что поскольку республики Средней Азии, и в частности Узбекистан, обязуются сеять в основном хлопок, все посевные площади идут под хлопок как сырье для промышленности, то снабжение этих районов продовольствием должно отныне планироваться иначе. Надо снабжать хлопкосеющие регионы так, как снабжаются промышленные. Сталин перебил его:
– Но мы же вам послали эшелон с хлебом.
– Я говорю сейчас о системе планирования, о том, что поскольку мы лишены возможности сеять в достаточном количестве хлеб, то…
– Но мы же вам послали эшелон с хлебом.
– Товарищ Сталин! Эшелон с хлебом до нас не дошел. Его расформировали в Самаре. Я говорю об изменении системы снабжения.
– Но мы же вам послали эшелон с хлебом, – в третий раз перебивает Икрамова Сталин.
И тут я прочитал фразу, которая поразила меня.
– Товарищ Сталин, в конце концов, вы дадите мне кончить или нет?
Думаю, что это не единственное из выступлений отца, которые погубили его.
Я опять пишу о Сталине.
Вроде был у нас всех такой молчаливый уговор не поминать это имя ни добрым словом, ни злым. Вроде был уговор.
Наши враги и те согласились. Зачем трогать Сталина, лучше все наши беды и все преступления Сталина адресовать Ленину, бить под корень.
Вроде был уговор, но нарушать его стали только в одну сторону Дорого, ох дорого будет нам стоить в этом случае применение древнего латинского изречения на новый лад: «О Сталине либо хорошо, либо – ничего».
Чтобы защитить Идею и людей, отдавших ей жизнь, есть только один способ – говорить правду.
Мой отец был настоящим честным коммунистом, я обязан рассказывать о нем честно.
Я не верю ни одному слову на процессе, но хочу верить, что мой отец не мог оставаться равнодушным к сознательному и равнодушному убийству голодом миллионов людей Я хочу верить, что он обсуждал с Бухариным то, что волновало его, и даже, возможно, собирался выступить на съезде, который впоследствии вошел в историю под названием «съезда победителей».
Правда, к 1934 году положение с хлебом в стране стало улучшаться и необходимость решительных мер вроде бы отпала. Но сталинские методы построения всеобщего благоденствия должны были глубоко затронуть каждого честного коммуниста.
Среди людей, знавших моего отца, принято считать, что он любил Сталина, верил ему. Хочется думать, что постепенно отец прозревал. Об этом я еще попытаюсь рассказать. Жаль только, что не прозрел к началу тридцатых годов.
А вот и мое собственное достаточно четкое свидетельство умонастроения отца.
Зима. Выходной день. Мы всей семьей – отец, мать, младший брат отца дядя Юсуп, два моих брата, родной и двоюродный, завтракаем. Солнце светит, белая скатерть, а не клеенка, перед каждым яйцо всмятку, масло в масленке посреди стола.
Все вместе за столом, скатерть, солнце.
Окна и дверь на террасу закрыты, и приятно, что в доме тепло.
Мы редко собирались за столом все вместе, особенно по утрам. Мы завтракаем, а в столовую входит военный в длинной кавалерийской шинели, козыряет, потом вручает отцу пакет с тяжелыми сургучными печатями.
Да, это зима, потому что фельдъегерь в шинели. И это не тридцать третий год, потому что тогда не было яиц, масло не стояло в масленке посреди стола. А я не путаю, не объединяю два разных воспоминания, как бывает иногда.
Отец читает бумагу, мать подслеповато сбоку заглядывает в нее. Отец отклоняется.
– Потом, – говорит он, встает из-за стола и начинает ходить по столовой взад и вперед.
Он хмур и явно взволнован, мы стараемся не смотреть на него.
– Насчет Кирова, – после долгого молчания говорит он матери. – Не понимаю, кому это было надо? Кому это надо?
Как это – «кому надо», думаю я, и удивление мое помню до сих пор. «Как это – кому надо?» Я-то знаю, я-то понимаю, что Кирова убили враги народа. Это уже всем известно, всей улице, всему детскому саду и дворнику Спиридону, милиционерам Скибе и Костюхину, а отец все ходит и ходит по столовой.
Как странно: я понимаю, кому это было надо, а мой папа не понимает.
Как странно, думал я тогда, как странно, думаю я теперь. Ведь самое главное было выражено ясно: отец не верил официальной версии.
Не знаю, сказал ли он своей жене больше, чем вырвалось у него при всех? Если сказал – то какими словами? Очень я сомневаюсь, что инерция мысли, инерция идей и сознания была главным фактором, мешающим отцу стать поперек пути той страшной колеснице, в которой он был одновременно и лошадью и седоком. Слова могли звучать разные, но они лишь маскировали, глушили, анестезировали суть.
Об этом понимании сути происшедшего свидетельствуют, в частности, два устных рассказа Н. И. Бухарина, относящиеся к тридцать третьему году.
Поезд Ташкент – Москва, два интеллигента в международном вагоне, долгие путевые разговоры вообще, рассказы о себе и среди них такие[7]7
Есть уверенность, что оба эти рассказа записаны. Собеседником Николая Ивановича был ташкентский врач, впоследствии знаменитый академик медицины И. А. Кассирский. Теперь я могу назвать этого собеседника, надеюсь также, что свидетельства ученого сохранились и увидят свет, поэтому я не боюсь полностью довериться памяти и не уточнять детали, не подвергать чужой рассказ собственноручной реконструкции Расхождения будут наверняка, но я их себе прощаю.
[Закрыть].
«В ночь разгона Учредительного собрания Владимир Ильич позвал меня к себе. У меня в кармане пальто была бутылка хорошего вина, и мы (следовало перечисление) долго сидели за столом. Под утро Ильич попросил повторить какую-то часть рассказа о том, как происходил разгон Учредилки, и вдруг рассмеялся. Смеялся он долго, повторял про себя слова рассказчика и все смеялся, смеялся. Весело, заразительно, до слез. Хохотал.
Мы не сразу поняли, что это истерика. В ту ночь мы боялись, что мы его потеряем».
Кстати, о похожей нервной реакции глухо упоминает Н. К. Крупская, когда рассказывает о том, как вместе с Владимиром Ильичем они посетили бывший особняк Морозова в Трехсвятительском переулке вечером 7 июля 1918 года после разгрома находившегося там штаба левых эсеров.
Вдова Николая Ивановича Анна Михайловна об этом факте не знает, так она сказала мне. Более того, Анна Михайловна уверена, что Николай Иванович все последние годы был настроен не так мрачно.
Осторожность и недоверчивость в наши дни никому нельзя поставить в укор. Анне Михайловне, чудом вернувшейся из небытия, недоверчивость к устным рассказам о муже простительна.
А вот второй рассказ Н. И. Бухарина в том же купе по дороге из Ташкента, где он много общался с Акмалем Икрамовым. (Может быть, и отец знал эту байку от Николая Ивановича.)
«Было решено, что я должен встретиться с академиком Павловым, дабы как-то распропагандировать его, сделать более лояльным по отношению к нам. В Ленинграде я позвонил Ивану Петровичу и попросил о встрече.
Павлов сказал, что времени для беседы со мной у него нет, но если я настаиваю, то он мог бы уделить мне внимание во время его пешего возвращения с работы домой. Для этого я должен ждать его в такое-то время в вестибюле института.
Я ждал его, как условились. Он вышел одетый, с тростью, я представился, и мы пошли. Я сказал, что руководители нашей партии очень огорчены нежеланием Ивана Петровича участвовать в общественной жизни страны, огорчительно и то, что он не проявляет интереса ко всем тем великим свершениям…
– Интереса? – перебил Иван Петрович. – Могу проявить интерес. Интересно, например, с какой это стати вы – академик?
Я отвечал ему в том смысле, что марксистская политическая экономия – наука сравнительно молодая, специалистов мало, и неудивительно, что в такой ситуации я был избран. Чтобы доказать ему, что я не так уж плох, я стал говорить об античной философии, о Канте и Гегеле – о том, что могло показать ему мое образование, то, что он был в состоянии оценить на основе собственного образования.
Иван Петрович не перебивал меня, слушал хмуро. Тогда я ввернул, что занимался приватно германской диалектологией и фонетикой, продемонстрировал свои знания в этой области, рассказал, что и к биологии когда-то склонялся, занимался энтомологией и помню до сих пор триста названий бабочек по-латыни.
Вот тут только Иван Петрович, кажется, впервые глянул на меня с интересом.
(Бухарин пояснил своему соседу по купе, что в детстве действительно увлекался бабочками, на спор с гимназическими приятелями за один день выучил триста названий, которые почему-то запомнил навсегда.)
Павлов не остановил меня, дослушал все триста названий, а потом сказал:
– А ведь я, батенька, признаться, черного шара вам кинул на выборах.
Лед тронулся. Павлов уже с интересом, задавая вопросы по существу, стал слушать мой рассказ о будущем России, о новом обществе, которое будет основано на законах, выведенных Марксом и Энгельсом, о плановом хозяйстве, о новой культуре, о неуклонном повышении уровня жизни трудящихся.
Павлов слушал, слушал, потом остановился в молчании, молча же вдруг отошел на мостовую и издали, тыча в меня тростью, прокричал:
– А что, если все будет наоборот?!»
Так мне запомнились в пересказе две истории, которые один русский интеллигент рассказал другому. Даже если говорить лишь о подсознательном ощущении катастрофы, то все равно легко представить себе, что в истории с Учредительным собранием чувствуется тот самый Рубикон, который обратно не перейти, а в заключительном крике И. П. Павлова, повторенном Н. И. Бухариным, звучит такое сомнение, которое похоже на пророчество.
Не колесница – поезд истории с такой скоростью влек их по саду жизни, что они, пытаясь ухватиться за ветки, только царапали себе руки.
…Поезд истории. Сад жизни. Наверное, это очень уж красиво. Но мне это именно так снится: летит поезд, в котором мы все, как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре, но без надежды спастись. Летит поезд, а вокруг жизнь, сады цветут. Мы смотрим из окон, и проводник не может сделать больше, чем пассажир, а машинист и подавно ничего не может. Летит вперед наш паровоз, как он летел полвека назад, только куда быстрее! Скорости возросли, состав стал длиннее, пассажиров больше.
Думаю, что в разные времена у разных людей был свой Рубикон, после которого поезд уже невозможно остановить.
Характерно, что Бухарин рассказывал это сразу же после сплошной коллективизации и ликвидации кулачества.
Неужто случайному попутчику рассказывал, а моему отцу – нет?
Впрочем, насколько я знаю, коллективизация и раскулачивание в Узбекистане носили сравнительно умеренный характер. А может быть, я и не знаю всего, утешаю себя.
Я живу в Москве. Есть версия, что именно здесь я родился во время какого-то съезда или конференции. Моя мать должна была выступить как один из авторов земельноводной реформы в Узбекистане. Отец не мог приехать из Самарканда, в республике был разгар хлопкоуборочной кампании. Другие говорят, что родился я в Самарканде, но мать сразу увезла меня к своим родителям.
Я люблю Москву летом, в жару, когда на улице Горького горят мусорные урны, я люблю Москву зимой, когда у нас в Черемушках гололед и ветер насквозь продувает гребенки домов, я люблю Москву праздничную, но еще больше люблю будничную.
Мне было четырнадцать лет, когда на Москву упали фашистские бомбы. Я тушил немецкие зажигалки, падавшие в Черниговский переулок. (Я погасил четырнадцать зажигалок. Три из них угрожали пожаром, а остальные упали в снег на улице. Но я таскал их к ящикам с песком и закапывал саперной лопаткой.) 17 октября 1941 года с крыши нашего дома я видел лицо немецкого летчика, сбрасывавшего осколочные бомбы на очередь за картошкой, стоящую на набережной у Малого Москворецкого моста. Кажется, этот, а может быть другой, немецкий летчик одновременно сбрасывал листовки «Черчилль о советском режиме». Листовки летели над Москвой-рекой, над Василием Блаженным и над Красной площадью, где у Кремлевской стены среди елок стоял фанерный макет двухэтажного дома, для маскировки нахлобученный на Мавзолей.
В те октябрьские дни сорок первого года, когда, по слухам, немецкие танки прорвались не то в Кунцево, не то в Химки, я твердо знал, что умру на баррикаде. Мне казалось, что я буду защищать ту, что была построена на Пятницкой, возле Первой образцовой типографии.
В сорок третьем меня арестовали в первый раз.
Прошло много лет, прежде чем я понял и связал воедино два события, происшедшие в одну неделю. Шестого ноября 1943 года наша армия после тяжелых боев с огромными потерями взяла город Киев. В ночь с двенадцатого на тринадцатое ноября органы государственной безопасности взяли меня, ученика ремесленного училища № 51, еще не получившего паспорта, но уже принятого в комсомол первичной организацией.
Конечно, трудно связать эти два факта связью логической, но связь временная налицо. Что за ней? Ведь это надо же – одновременно освободить Киев и арестовать меня!
Нет, это не была ошибка, ведь повезли меня в самое главное здание, где работал в тот момент сам Берия Л. П.
Стыдно признаться на старости лет, что при медосмотре во внутренней тюрьме у меня обнаружили вшей. Дома у нас с начала войны не работала ванная, а душ в ремесленном был такой холодный, что в него никогда никого не удавалось загнать.
Итак, вшивый ученик ремесленного училища. Ведь не забыли про меня, родословную мою чтили. Отец и сын!
Не я избрал сей сюжет, его мне навязали силой. И притом – какой силой!
Следователь Мельников требовал, чтобы я рассказал о своих антисоветских деяниях, убеждал меня, что я озлоблен на Советскую власть. У него была такая работа. Но, кроме того, он, вероятно, был убежден, что я действительно озлоблен. Не помню, сколько суток мне не давали спать, помню только, когда Мельников под утро снимал трубку и говорил: «563А, возьмите арестованного», – я был очень благодарен ему.
Однажды на допросе у прокурора МГБ Дорона я увидел в окно заснеженную площадь Дзержинского и трамвай, идущий к Театральному проезду. Я был счастлив, что увидел Москву.
Мне дали пять лет исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую агитацию формально, но по существу как сыну врага народа. В «постановлении об избрании меры пресечения» эти слова и фамилия были подчеркнуты тем же красным карандашом, которым ниже подписался Кобулов, заместитель Берии, расстрелянный одновременно с ним.
Вообще я счастливый человек. Это не позерство. Я вновь хожу по Москве, езжу в метро и трамваях, захожу к старым знакомым, не боюсь новых арестов, кажется, все-таки не боюсь. Но главное – сбылось то, о чем я уже перестал мечтать.
В первый раз я почувствовал себя счастливым в тот день, когда умер Сталин. Нет, и к тому времени следователь Мельников не мог бы упрекнуть меня в злорадстве и озлоблении. Я точно знаю – главным чувством было удивление. Он умер, а я еще нет. Казалось, что он вечен. Сама возможность перемен, само течение времени вызывали ощущение счастья. Еще раз повторяю: я не ждал перемен к лучшему, думал о худшем, но сама возможность перемен была открытием, прозрением. Тогда, кажется, я понял впервые, что жизнь длинна.
Чеченцы, с которыми мне пришлось быть в ссылке, говорили: «Чтобы быть счастливым, нужно потерять счастье, а потом найти любую его половину».
Озлобленность кажется мне очень редким и незначительным в общественном плане человеческим чувством. Люди смотрят вперед. Если впереди есть надежда, жизнь увлекает, старое не тревожит. А ведь личная жизнь у каждого складывается неповторимо. Что значит «повезло» или «не повезло»? Вся юность и молодость моя прошли в лагерях, тюрьмах, этапах и ссылках. Но из тридцати трех работяг первой моей лагерной бригады в живых через два месяца осталось восемь. Значит, мне повезло. Из тех пяти ребят, что вместе со мной сидели на крыше дома в Черниговском переулке и ловили зажигалки, остались двое, я и Коля Байков. Я дружил с теми, кто старше меня. Трое погибли на фронте. Особенно жалко Шурку Назарова и Сережу Байкова.
А я жив, хожу по своему родному городу, сплю не в бараке, а в отдельной квартире, книжки пишу. Сегодня пойду смотреть фильм Стенли Крамера «Корабль дураков». Просмотр для писателей.
Время от времени мне задают вопрос: «А вы когда-нибудь думали об отмщении тем, кто пытал вашего отца, вас, кто доносил на вас?» И еще: «Среди ваших знакомых, среди людей вашей судьбы были люди, которые отомстили или хотели отомстить?» Совсем недавно спросил меня об этом молодой человек, для которого только открываются бездны нашего прошлого. Он с недоверием и удивлением слушал мой поневоле пространный ответ о том, как это может быть, что ни мне самому, никому из моих близких знакомых с похожей судьбой и никому из знакомых моих знакомых мысль о мести, видимо, никогда сколько-нибудь реально в голову не приходила.
Хорошо это или плохо? Для меня лично – это хорошо, а для общества? Думаю, что и для общества в целом никакая личная месть пользы не принесет. Никакой граф Монте-Кристо не поможет исправлению нравов. Наказание настигнет преступников само по себе по тому знаменитому эпиграфу, который так часто ставит в тупик литературоведов: «Мне отмщение, и Аз воздам».
Мой первый следователь капитан Мельников в Москве на Лубянке в сорок третьем был жалкой и подлой мразью. Он носил общевойсковые погоны. Такие же погоны были у тех командиров рот и батальонов, что в те самые дни погибли при форсировании Днепра и взятии Киева. Другие армейские капитаны умирали в медсанбатах и госпиталях от Белого моря до Черного, а мой – курил ленд-лизовские американские сигареты, и бутерброды у него были с сильно пахнущей ленд-лизовской колбасой из консервных банок. Как он мог в течение месяца лишать сна шестнадцатилетнего парня? Как он мог запретить передачи и дополнительное питание, выписанное мне тюремным врачом? Сто граммов хлеба и винегрет к обеденной баланде назначил мне тюремный врач безо всякой моей просьбы, а Мельников наложил вето. Написать это я должен, это вся моя месть, если не считать того, что я уже сделал: в моем историческом романе «Пехотный капитан» есть жандарм, которого в ходе повествования убивают за карточным столом, а жене его отказывают в пенсии. Действие романа происходит в начале прошлого века, и я не специально мстил, а просто дал отвратительному типу неприятную мне фамилию.
Совсем другим был мой второй следователь майор С. в МГБ города Калинина.
Правда, и задача перед ним стояла куда более простая. Ему надо было доказать только, что я сын Акмаля Икрамова, от чего я не отказывался, и еще то, что я уже однажды был за это осужден Особым совещанием, то есть по своему преступному прошлому составляю огромную опасность для нашего могучего государства.
Майор С. в начале следствия пер на меня по всем правилам, орал, грозил карцером, но сна почти не лишал, передачи разрешил довольно скоро, а потом только делал вид, что прет, что грозит. Он был сачок, говоря современным языком, и возможно, что объяснялось это тем обстоятельством, что особых надежд на карьеру он в пятьдесят первом году иметь не мог. Почему? Да потому, подозреваю, что майор был евреем, а годы те лицам этой национальности не благоприятствовали.
Прости, майор! Может, ты и не был евреем, а просто был сачок и неплохой малый. Упомянуть тебя, майор, я должен для полноты картины. Ты уже давно в отставке, я не поврежу тебе своим рассказом, если ты жив. В отставке, если жив, и начальник следственного отделения полковник В. Относительно майора С. я могу ошибаться, внешне он на еврея не походил, а вот насчет национальности полковника я не сомневаюсь, и дни его в аппарате госбезопасности были сочтены.
Может быть, я рассказываю о том, что нехарактерно для следствия вообще, но, повторяю, так было.
Вся вторая половина следствия, когда родословная моя была записана и биография зафиксирована, выглядела так.
Из сырого и темного подвала меня вели на допрос по широким и светлым лестницам, по паркету и ковровым дорожкам в кабинет с большими чистыми окнами без решеток. Я садился в угол на канцелярский стул, и майор С. вопрошал:
– Ну, что новенького?
Он имел в виду одно: какие новые анекдоты я слышал в камере. Политических анекдотов я, естественно, ему не рассказывал, но он их не ждал.
– Да что у нас может быть нового, если новеньких к нам не кидают. Вы же знаете, гражданин майор. А у вас есть что-нибудь?
Он рассказывал мне какой-нибудь анекдот тоже, естественно, далекий от политики и чаще всего про баб и пьянку. Тогда и я вспоминал что-нибудь соответствующее. Нормальный разговор двух простоватых приятелей, которые вполне могли говорить об этом по дороге в пивную. Иногда он рассказывал не только анекдоты, но сообщал новости о событиях на воле. Например, о том, как проходит матч Ботвинник – Бронштейн. Это, конечно, было нарушением порядка, но он шел еще дальше: доставал из портфеля газету, а из правой тумбы письменного стола шахматную доску, тайком взглядывая на запись партии, расставлял на доске фигуры, и мы разыгрывали варианты, пытаясь угадать, как поступят гроссмейстеры.
Под самый конец допроса, когда меня уже надо было отправлять обратно в подвал, он усаживался поудобнее, расставлял локти и начинал писать, на меня не глядя. Он долго, очень долго и молча скрипел пером, а потом распрямлялся и начинал читать примерно следующий текст:
– «Вопрос. На прошлом допросе вы голословно отрицали свое участие в антисоветской деятельности. Между тем следствие располагает неопровержимыми данными о том, что вы, продолжая свою контрреволюционную деятельность, занимались антисоветской агитацией. Признаете ли вы себя виновным?
Ответ. Нет, не признаю.
Вопрос. Если вы будете упорствовать, то вам будет хуже. До каких пор вы будете лгать, изворачиваться, обманывать следственные органы?
Ответ. Я никогда антисоветской деятельностью не занимался.
Вопрос. Это гнусная ложь! Последний раз предупреждаю вас: если вы не будете говорить правду, я буду вынужден прибегнуть к наказанию карцером.
Ответ. Я никакой антисоветской деятельностью на занимался».
Так он исписывал обычно две-три страницы, а я с удовольствием ставил под ними свою фамилию, удостоверяя, что все с моих слов записано верно.
Однажды я рассказал ему анекдот, построенный на несоответствии высокого стиля общения между академиками со словами самого низкого рода, которые явились решающим аргументом в вопросе о приоритете на некое очень древнее изобретение.
Посмеялись. Потом майор С. с укором сказал знаменательные слова:
– Вот ты мне рассказал анекдот. Анекдот вроде неплохой, он не ловится, но характеризует. А я тебе расскажу анекдот, который не ловится и не характеризует.
Вообще серьезных нарушений режима он не допускал. Узнать у него, например, было ли очередное снижение цен, не удавалось никак. Это – новость политическая.
Его кабинет находился в запроходной, как пишут в жилищных документах, комнате. Если он слышал, что дальнюю дверь открывают, он тут же аккуратно, чтобы не повалить фигуры, ставил доску в средний ящик стола, а я без команды отскакивал в угол на свой стул, руки на коленях.
Дверь широко распахивалась, и входил полковник В. Я с погонами видел его, пожалуй, только раз. Погоны были полковничьи, а форма – морская, из чего я тогда заключил, что он капитан первого ранга. Обычно же он появлялся в штатском и всегда в одном и том же движении: голова чуть в сторону, правая рука ищет пуговицы на ширинке. Видимо, где-то рядом был туалет, и полковник заходил к нам по дороге оттуда.
Пуговицы ему давались с трудом, а мой следователь вытягивался и докладывал, что на допросе такой-то.
– Ну? – спрашивал В., так и не поймав последней пуговицы. – Упорствует, сволочь?
– Упорствует, товарищ полковник.
– Да… – тянул тот. – Он думает, что прошло то время когда.
Далее шли крепкие выражения, порой довольно интересные, которых я ни от кого более не слышал.
– Надо ему напомнить, майор!
– Так точно! – радовался подсказке следователь. – Я ему покажу, контре. А для начала в карцер, в холодную на хлеб и воду!
– Давно пора! Его вообще-то расстрелять надо, яблоко от яблони далеко не падает.
Поймав последнюю пуговицу и сразу же после гневной тирады зевнув, полковник выходил вон. Когда закрывалась за ним дальняя дверь, следователь доставал шахматы.
Смотри, значит, если конь Ж4, то ладья идет на Б1. А если он пойдет слоном…
Про отца моего они говорили и спрашивали мало и не ругали его, а только констатировали: сын врага народа Икрамова.
Описав свое второе следствие, я вовсе не претендую на некое обобщение, не хочу сказать, что в пятьдесят первом году начался кризис сталинской карательной системы и все было совсем не так, как прежде. Я знаю, что в те же дни кого-то страшно пытали и били, зверски били и страшно пытали. Может быть, это было в соседнем кабинете или в том же самом, где только что был я. И кто знает, как вели себя майор С. и полковник В., когда по службе им это было надо.
Нет, я не хочу никому мстить, даже суда над этими людьми не хочу, ибо не верю в справедливость мести и в пользу суда. А что, если и в самом деле тридцать седьмой – это месть за тридцатый, сорок девятый расплата за тридцать седьмой? Может, мы остановимся, наконец?
Не хочу мести, не хочу суда. Хочу, чтобы люди знали и помнили, как все это было. Хочу, чтобы дети и внуки палачей не становились палачами или жертвами палачей.
А вот эти сытые, вальяжные невежды и подлецы, которые очень долго лгали на моего отца? Как с ними быть?
А все так же. Пусть люди знают правду.
Для этого я и пишу.
Неужто никому не нужны гарантии, что весь тот ужас не повторится?
Я живу в Москве, но я узбек. Не только по паспорту. Отец, обвиненный в национализме, не позаботился обучить меня родному языку. В доме говорили по-русски. Я никуда не хочу уезжать из Москвы, но всегда говорю: «У нас в Узбекистане». Я всегда спрашиваю, как там с хлопком, началось ли раскрытие коробочек, как идет уборка и сколько процентов будет к празднику.