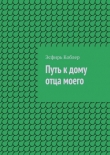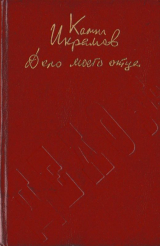
Текст книги "Дело моего отца (Роман-хроника)"
Автор книги: Камил Икрамов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Между строк
Нет, я не стану рассказывать о пытках, которым подвергали моих знакомых. Я не стану высказывать предположений о том, как пытали моего отца. Я не знаю, в какой тюрьме сидел отец, кто и где допрашивал его, где его расстреляли, где похоронили. Говорят, что на Лубянке был свой крематорий, труба которого выходила в трубу игрушечной фабрики. Ложь, конечно, досужая выдумка. А вдруг – правда?
Я буду и дальше говорить – «говорят». «Говорят» – почти единственный источник информации. Да и ссылаться на говорящего в данных обстоятельствах не всегда удобно.
В Ташкенте есть теперь район, есть улица Икрамова, есть колхозы, совхозы, учебные заведения, названные в память о нем…
А могила неизвестна.
О последних днях матери я знаю несколько больше.
В декабре 1957 года я получил письмо от своего ровесника, узбекского инженера. В письме рассказ о событиях двадцатилетней к тому времени давности.
«Дорогой Камиль!
Ваше письмо подоспело очень кстати. У меня как раз гостит моя мать – Крымова Асия Хасановна. Сидим мы с ней сейчас за столом и вспоминаем те ужасные годы…
У меня в тридцать седьмом году арестовали отца и мать. Было мне тогда десять лет.
Мать встретилась с Евгенией Львовной в камере № 67 тюрьмы НКВД 12 ноября 1937 года, куда Евгению Львовну перевели из одиночного заключения после шестидесятитрех дневного непрерывного допроса. На допросе она себя виновной не признала и ничего не подписала… Пробыли они вместе до 10 января 1938 года, когда мать перевели в Таштюрьму В течение 38 года мать неоднократно получала приветы от Евгении Львовны через людей, переведенных из тюрьмы НКВД в Таштюрьму. Затем сведения об Евгении Львовне прекратились…»
Я встретился с Асией Хасановной в красивом доме, в хорошей квартире. Говорили мы долго, я не вел записей и помню только, что на вопрос, как мать относилась в то время к Сталину, Асия Хасановна ответила:
– Однажды ночью мать сказала вдруг: «Сталин знает обо всем. Теперь я поняла».
Один из бывших работников Наркомзема Узбекистана, казах Батырбеков, встретил мать в коридоре тюрьмы, когда конвоиры по оплошности не сумели развести их. Такие встречи не допускались. Специальная техника разработана.
Мать сказала:
– Держись, казак!
Батырбеков рассказал это мне, когда я встретился с ним в ссылке.
Вот и все, что я знаю достоверного о матери.
А об отце я не знал почти ничего. Только процесс.
Итак, стенограмма. Страница 324.
Икрамов. …Теперь разрешите сказать, что сделала наша националистическая контрреволюционная организация в осуществление своего плана, своей программы. После того как Бухарин упрекнул меня в недостаточной активности, я сам совершил непосредственно вредительский акт. В 1935 году мы – я и Любимов[8]8
И. Е. Любимов – нарком легкой промышленности СССР.
[Закрыть] и Файзулла Ходжаев – совместно дали директиву за подписью Любимова и Икрамова (подписи Файзуллы, кажется, не было): принять хлопок повышенной влажности против установленного правительством Союза стандарта, в результате чего 14 тысяч тонн хлопка пропало, из них 2600 тонн пошло на ватную фабрику, а остальное количество – на низкие сорта. Убытки составили несколько миллионов рублей.
Вышинский. Это сознательно было вами сделано?
Икрамов. Конечно. Если бы это были случайные вещи, я бы о них здесь не говорил. По каракулю было вредительство. Мы не сами его непосредственно сделали, но через членов нашей организации – было снижение сортности. Было осуществлено вредительство и в коммунальном хозяйстве Ташкента и Бухары… Вот факт вредительства в области строительства. Ташкент делится на две части: старый город и новый город. В старой части канализации нет, огромные пространства занимают земли, на которых нельзя строить дома. Кроме того, имеется много поглощающих ям. Новое здание Наркомпочтеля начали строить, причем ввиду наличия девятнадцати поглощающих ям надо было начинать закладывать фундамент с 30–40 метров.
Вероятно, здесь не нужны комментарии, ибо каждый видит всю нелепость показаний о вредительстве первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана. Но я часто вспоминаю об этих показаниях, проезжая по самой красивой улице Ташкента, улице Алишера Навои[9]9
Улица Навои оказалась недалеко от эпицентра землетрясения 1966 года, и я вынужден внести уточнение. Некоторые дома на этой улице частично пострадали. Но Центральный телеграф стоит и работает.
[Закрыть], заходя на Центральный телеграф, который помещается в том самом здании, о котором идет речь. Рядом с этим домом стоят десятки новых зданий. В каждую юбилейную дату газеты Узбекистана подчеркивают то, что почти не остается понятия «Старый город». Новый город строится там, где, по словам моего отца, «нельзя строить дома» Поглощающие ямы не мешают.
Дальше я цитирую стенограмму без пропусков до конца допроса.
Икрамов. …Такое же крупное вредительство, на которое мы закрывали глаза, имело место по линии строительства Наркомлегпрома, на хлопковых заводах и шелковых фабриках. Цифры я сейчас не помню, огромные средства вложены в строительство, переходящее из года в год. Кажется, строительство Наркомлегпрома по шелковой промышленности было запроектировано на 300 миллионов рублей. Из них 80 миллионов вложено в строительство, а остальное из года в год идет как переходящее строительство. В Намангане начали строить шелкомотальную фабрику. Полтора-два миллиона израсходовали, а в середине года говорят, что нужно консервировать. Я очень удивился, так как не знал техники этого дела. Говорят, что для консервации потребуется полмиллиона рублей, и действительно Наркомлегпром отпустил для консервации полмиллиона рублей. На строительство хлопкоочистительного завода в Бухаре затрачено 5 миллионов рублей. Завод готов, но не может работать, хотя и машины привезены Почему? Потому что нет прессов.
Вышинский. Сколько стоит пресс?
Икрамов. Наверно, 100–200 тысяч. Даже дома построены для рабочих и служащих, а завод стоит и используется сейчас под амбар.
Вышинский. Кто отвечает за это?
Икрамов. За это отвечает, в частности, Наркомлегпром. Но и я как человек, закрывавший на это глаза, конечно, тоже отвечаю.
Вышинский. Вы прикрывали это?
Икрамов. Конечно, я делал вид, что не вижу. Такие же самые дела по хлопковым амбарам. Это относительно вредительства. Теперь относительно повстанчества. Файзулла в своем показании об этом говорил.
Вышинский. Что вы сделали для организации повстанческих отрядов?
Икрамов. Мы дали им такую директиву. Что конкретно сделано, мне неизвестно. Но Балтабаев[10]10
Балтабаев – первый секретарь Ташкентского горкома, секретарь ЦК КП(б) Узбекистана до 1937 года, умерший в тюрьме после неудачного покушения на самоубийство. Отец это знал.
[Закрыть] говорил, что Алмазов заявлял ему, что он уже приступил к этому делу в Маргеланском районе, что у него уже кое-какие кадры есть.
Вышинский. Значит, готовили эти кадры?
Икрамов. Потом, кажется, Файзулла мне говорил, что в Бухаре тоже готовится это дело. Вот относительно моих преступлений перед Советской властью. Если можно подытожить, я сформулирую мои преступления. Это – измена социалистической родине, измена советскому народу, в первую очередь узбекскому народу, который меня вскормил, взрастил.
Председательствующий (к прокурору). У вас есть вопросы к подсудимому Икрамову?
Вышинский. Нет.
Председательствующий. Объявляю перерыв на полчаса.
Дастархан
Это было в мае 1955 года, еще до того, как я пошел в Историческую библиотеку читать стенограммы процесса.
Первый месяц моей свободной жизни. Я хотел наслаждаться свободой больше и больше. Я не знал, что нельзя быть более счастливым, если ты счастлив. Это несчастью предела нет.
Мой старший друг, инженер-самоучка, известный мотоциклетный механик и тренер Матвей Григорьевич Гинцбург, приютил меня в своих двух комнатках в полусгнившем деревянном флигеле на Большой Серпуховской улице. Когда-то мальчишкой-ремесленником я приходил к нему в этот флигель перенимать поразительный опыт автомеханика. Я звал его дядей Митей. Дядей Митей звали его и многие спортсмены-мотоциклисты, которых он тренировал, готовил их машины к рекордам.
Те уроки автодела запомнились на всю жизнь. Я уже писал, что в лагере я остался жив отчасти потому, что прошел там трудные испытания на звание автослесаря и попал в бригаду ремонтников. О Матвее Григорьевиче Гинцбурге я писал однажды в журнале «Здоровье», потому что это, кажется, единственный в мире человек, после перелома позвоночника и постигшего его с девятнадцати лет на всю жизнь паралича нижней половины тела и ног, смогший стать крупнейшим специалистом в избранной им области техники, до сорока лет зарабатывать себе на жизнь слесарным трудом, потом написать несколько великолепных книг о мотоциклах, а попутно заниматься спортом, выступать вместе с Яроном в оперетте и быть бойцом истребительного батальона во время Великой Отечественной войны.
Неудивительно, что для меня он был не только учителем автодела. Он никогда не разговаривал о постороннем во время работы. Но, вытерев руки, он разламывал добытый трудом кусок военного хлеба, протягивал мне мою честно заработанную долю и начинал философствовать. По складу ума он был парадоксалист-скептик. Шопенгауэр, Ницше, Ренар, Стерн и Анатоль Франс. Он со смехом цитировал их, а я слушал открыв рот.
Старшие друзья по лагерю, любившие меня, и не подозревали, какую тренировку моему мозгу давал прежде них Матвей Григорьевич. Это он заставил меня прочесть «Боги жаждут», книгу, перевернувшую мои подростковые представления о жизни и истории. Тогда, году в сорок первом, я отождествлял своего отца с Эваристом Гамленом, а сам возмечтал быть похожим на Бротто-дез Илетта.
Вот и сейчас, собираясь рассказать совсем другую историю, я вспомнил Эвариста Гамлена и опять стал сравнивать его с моим отцом.
Нет, нет, все иначе. И теперь я чаще вспоминаю слова Энгельса: «Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, – что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории…» Я понимаю и другое: даже убедившись, что детище обмануло надежды, что ребенок проявляет людоедские наклонности, что он вполне готов сожрать и своих родителей, все равно нельзя отбежать в сторону. (Кстати, часто говорят, что революции поедают своих детей. Не вернее ли говорить о том, что революции поедают своих родителей?) Даже в этом случае разве можно отскочить в сторону, умыть руки, не захотеть повлиять, помочь, помешать, понимая всю степень своей личной ответственности за сделанное?
Я сужу отца.
И все-таки я знаю точно – он был лучше, чем я, много лучше.
Было бы странно, если бы отец мог рассчитать все те повороты истории, которые происходили в России, начиная, скажем, хотя бы с 1921 года, и которые весьма своеобразно преломлялись на периферии. Предусмотреть это не мог никто, тем более молодой узбекский революционер, озабоченный прежде всего делами своего народа.
Эту главу я писал в 1966 году в больнице города Намангана, города, где мой отец в 1919 году организовал первые советские школы и первые партячейки. Вернемся, однако, к 1955-му.
Я сидел на оранжевом дерматиновом диванчике в квартире дяди Мити и слушал его парадоксы.
Зазвонил телефон. С первой минуты стало ясно, что ошиблись номером, но Матвей Григорьевич отчаянно флиртовал с незнакомкой, галантно высказывался о ее голосе и назначил свидание на станции метро, где он сам никогда не был, потому что лишился ног за пять лет до пуска первой линии московской подземки.
– Я худой брюнет в толстых очках и зеленом костюме, – говорил он, поглядывая на меня. – Ботинки я чищу редко… Хорошо. В левой руке я буду держать газету… Камка, – сказал он мне, положив трубку, – в пятницу в шесть часов, метро «Красные ворота», в левой руке держи газету. У нее очень приятный голос.
…Я сразу увидел ее, потому что опоздал минут на десять и она нетерпеливо и тревожно ходила по вестибюлю. Лет двадцати шести – двадцати восьми, в очках, в добротном летнем пальто. У меня не было условленной газеты, и я придумал, как выйти из положения.
– Вы не знаете, где здесь газетный киоск? Дело в том, что мне нужно купить газету, чтобы взять ее в левую руку.
Сочинив такую шикарную фразу, я не мог не произнести ее и подошел к женщине в очках. У нее было ватное лицо и жалостливое выражение светло-карих глаз за большими, не по лицу, очками.
– Ах, это вы!
У меня было всего пять рублей, ровно столько, сколько стоит один билет в кино. Поэтому я пригласил даму в Парк культуры и отдыха имени Горького. Рубль на метро туда, рубль на метро обратно, полтинник мне на дорогу, два пятьдесят на развлечения.
В парке мы ели эскимо, пили газированную воду и на Массовом поле слушали ансамбль цыган. Они пели песни о родине, о партии и цыганскую песню о Сталине. Это была последняя песня о Сталине, которую я слышал в публичном исполнении. (Потом пришлось бояться, что скоро эти песни услышу опять.)
Моя дама послушно ходила за мной и не противилась, когда я пытался увлечь ее в аллеи Нескучного сада, где, по моим довоенным воспоминаниям, должно быть темно и безлюдно. Но все изменилось с тех пор. Там было светло и людно, а возле каждой затененной скамеечки стояло по милиционеру. Нельзя сказать, чтобы я был этим огорчен, ибо она была моих лет, следовательно, стара, и тоже в очках. Я боялся, что наши очки стукнутся, когда я захочу ее поцеловать. Я проводил ее до дома, она сбегала к себе на третий этаж за «Беломором». Мы стояли во дворе и курили.
– Поцелуй меня, – сказал я ей от скуки.
– Какой вы странный, – сказала она. – Вы, наверно, очень хороший человек… Знаете, я хочу пригласить вас пойти со мной тридцатого. Вы свободны тридцатого?
Я не знал, свободен ли я тридцатого, и потому задумался. А она продолжала:
– Будет два года со дня смерти моего мужа Я хочу позвать вас на кладбище, на его могилку.
Я растерялся. В то время я еще не собирался становиться писателем, даже не мечтал об этом, но почему-то боялся плагиата. Я четко помнил, что похожая ситуация описана Мопассаном, испытал чувство неловкости и, чтобы не отвечать «нет», спросил:
– А вы были замужем?
– Да, – сказала она. – Мы очень дружно жили.
– Что же с ним случилось? – спросил я, опять уводя разговор в сторону. – Отчего он умер?
– Видите ли, он покончил самоубийством, – сказала она, и я понял, что она готова рассказывать мне всю свою жизнь. – Он был очень тяжелый человек, нервный., тяжелый человек. Но он меня очень любил. Он меня очень любил… Конечно, с ним было нелегко. Однажды… у нас была такая собачка, тойтерьер, может быть, знаете? И вот эта собачка нагадила у нас в спальне. И он взял и прямо в спальне ее повесил…
– Да… – сказал я. – А где он работал?
– Он был адъютантом Лаврентия Павловича Берия, – не без гордости сказала она.
Так я узнал, что один из адъютантов Берии покончил с собой 30 мая 1953 года, за несколько недель до ареста своего шефа. Говорят, в 1953 году на станции метро «Дзержинская» и в общественной уборной на площади было несколько самоубийств. Так ли это, я не знаю.
Мою случайную знакомую я больше не видел. Моего телефона она не знала, а сам я ей не звонил.
Сейчас, готовя рукопись к набору (неужто будет книга!), я еще раз думаю о том, что я не строил этот сюжет, что факты сами сбегались ко мне, когда я вовсе и не хотел их искать.
Попытка литературоведения
С тех пор как я вернулся в нормальную жизнь, волнует меня и удивляет странное отношение общества к литературе. Может быть, так во всем мире?
Качает нас из стороны в сторону, и будто не было в стране великой письменности, и та, что доходит до нас, существует в каком-то очень далеком от собственного смысла качестве.
Волнуюсь, сомневаюсь, корю свою необразованность и вновь сомневаюсь. Недавно прочел случайно школьное сочинение восьмиклассницы. Девочка умная, но когда писала про «Героя нашего времени», то в учебник не заглянула, а на уроке, когда проходили роман Лермонтова, видимо, не была. Читал я это школьное сочинение и удивлялся свободе мышления, когда экзамен далеко. Выходит по этому сочинению, что Печорин отнюдь не альтер эго автора, а совсем наоборот Выходит, что автор первых двух глав и автор «журнала Печорина» антиподы, и первый, бесспорно, когда-нибудь будет убит вторым.
Вопрос там есть: почему это Григорий Александрович Печорин зовется в обществе Жоржем? Уж не про Дантеса ли думал Лермонтов, он ведь много думал о Дантесе.
И вот я, человек с высшим филологическим образованием, полученным в весьма зрелые годы, сажусь перечитывать «Героя нашего времени» и вижу, что восьмиклассница права, а поскольку этого не может быть, потому что не может быть никогда, я выкладываю на стол почти все, что написано про «Героя нашего времени» за сто сорок лет, и только в одной книге нахожу точку зрения, схожую по мысли со школьным сочинением дочери. Естественно, что не литературоведу принадлежит эта точка зрения, а полному дилетанту, офицеру в отставке, отставнику, как говорим мы теперь. Отставник писал, что ни в характере, ни в обстоятельствах жизни ничего нет общего между Печориным и Лермонтовым и не вина писателя, что многим вместо сатиры угодно было видеть апологию. Современные нам литературоведы свидетельство отставника считают примитивным. Оно и понятно! Где ему разобраться, если он не читал учебника для восьмого класса. Он не читал и восьмиклассница не читала – отсюда примитив.
Зачем я пишу про это в книге об отце? А я не могу не писать, потому что осознание прошлого не кончается тридцать седьмым, тридцатым или семнадцатым годом. И если почти полтора столетия самое знаменитое произведение самого знаменитого поэта России трактуется вопреки тексту, то о какой правде истории можно говорить?
Скажу только, что отставник, которого я упомянул, Аким Павлович Шан-Гирей, самый близкий родственник поэта, его младший (хотя и троюродный) брат и спутник всей его жизни. Лермонтов часто диктовал Шан-Гирею свои произведения, перечитывал с ним и обсуждал написанное.
Качество, в каком существует классика, не может не влиять на продолжение истории, и никакая политическая конъюнктура не должна мешать познанию истины.
Достоевский был какое-то время не в чести, значит, сегодня он должен быть на недосягаемом пьедестале, и его одинаково цитируют Н. Крымова, И. Глазунов, М. Гус и Ю. Карякин.
А что творится с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым? И ведь если не пробиться человеку с собственным мнением по литературным проблемам, то где же до истории. Начнем, однако, с литературы. С литературы, в которой тема преступления, наказания и искупления может помочь читателю разобраться во всем остальном, что есть в судьбе моего отца.
Пример классический. Антихристова печать
В апреле 1880 года к издателю некоей русской газеты явился господин с кокардой и предложил для печатания свою повесть. «Сюжет не новый, – объяснил он. – Любовь, убийство, но все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах».
Когда господин с кокардой пришел за ответом, издатель объявил, что повесть или, скорее, роман, предложенный им, искажает фабулу преступления: главный преступник не тот вовсе, кого назвал писатель, а определенно он сам, вся же эта путаница отнюдь не результат заблуждений автора и не следственная ошибка, а фальсификация, учиненная совершенно сознательно. Бессознательно вышло только одно: действительность, деформированная в произведении, своими сломанными ребрами проступила сквозь искажения и поведала, как было дело.
Я убедился в этом, когда стал перечитывать произведение знаменитое и бесспорно замечательное: «Записки из Мертвого дома» в 4 томе Полного собрания сочинений Достоевского, снабженном обстоятельным комментарием и справочным аппаратом.
Не исключено, что когда-нибудь исследователи проведут сопоставления между этой книгой и теми, которые построены на сходном материале, но появились позже, будут, возможно, прослежены влияния, явная или скрытая полемика или же полное отсутствие литературной преемственности.
Для меня, например, сомнения в верности «Записок» возникли с главы «Первые впечатления». Автор рассказывает о старовере, которому каторжники давали «сохранить деньги с полною безопасностью».
«Это был старичок лет шестидесяти, маленький, седенький. Он резко поразил меня с первого взгляда. Он так не похож был на других арестантов: что-то до того спокойное и тихое было в его взгляде, что, помню, я с каким-то особенным удовольствием смотрел на его ясные, светлые глаза, окруженные мелкими лучистыми морщинками. Часто говорил я с ним и редко встречал такое доброе, благодушное существо в моей жизни».
«Характера был в высшей степени сообщительного. Он был весел, часто смеялся – не тем грубым, циническим смехом, каким смеялись каторжные, а ясным, тихим смехом, в котором много было детского простодушия и который как-то особенно шел к сединам. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека, и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший. Во всем остроге старик приобрел всеобщее уважение, которым нисколько не тщеславился. Арестанты называли его дедушкой и никогда не обижали его». И далее: «…несмотря на видимую твердость, с которою он переживал свою каторгу, в нем таилась глубокая, неизлечимая грусть, которую он старался скрывать от всех. Я жил с ним в одной казарме. Однажды, часу в третьем ночи, я проснулся и услышал тихий, сдержанный плач. Старик сидел на печи… и молился по своей рукописной книге. Он плакал, и я слышал, как он говорил по временам: „Господи, не оставь меня! Господи, укрепи меня! Детушки мои малые, детушки мои милые, никогда-то нам не свидаться!“».
Портрет показался мне убедительным, я сразу поверил тому, что был такой человек, именно такой. Одно только смутило меня, когда я в первый раз читал «Записки из Мертвого дома», смущало долго и потом: преступление, за которое старик попал в узилище, не вязалось с его обликом. В это я поверить не мог.
«Прислали его за чрезвычайно важное преступление. Между стародубовскими старообрядцами стали появляться обращенные. Правительство сильно поощряло их и стало употреблять все усилия для дальнейшего обращения и других несогласных. Старик, вместе с другими фанатиками, решился „стоять за веру“, как он выражался. Началась строиться единоверческая[11]11
Единоверие – вид насильственного воссоединения русских старообрядцев с официальной церковью, по которому за старообрядцами сохраняется право совершать богослужение по старопечатным книгам при условии подчинения православной церкви и принятия священнослужителей от православных архиереев. – Прим. автора.
[Закрыть] церковь, и они сожгли ее. Как один из зачинщиков старик сослан был в каторжную работу».
Вначале образ старообрядца, нарисованный классиком, вступил в противоречие с информацией о его преступлении, потом это как-то стушевалось соображением, что бездны души Достоевскому известны лучше всех на свете. Но запомнилось: такой вот старичок, а ужасный фанатик. Ведь он совершил преступление, которое в деревянной России считалось более тяжким, нежели убийство. Поджог. Не просто поджог – поджог церкви!
Второе читательское сомнение возникло вскоре после первого и как-то «срифмовалось» с ним. Это о Газине.
Я вынужден прибегнуть к цитате:
«Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его… Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною. Он был татарин; ужасно силен, сильнее всех в остроге; росту выше среднего, сложения геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной головой…»
Далее сообщается, что Газин был подпольным целовальником, успешно торговал в остроге вином, а когда напивался сам, то задирал людей самыми злыми насмешками, «рассчитанными и как будто давно заготовленными; наконец, охмелев совершенно, он приходил в страшную ярость, схватывал нож и бросался на людей. Арестанты, зная его ужасную силу, разбегались от него и прятались; он бросался на всякого встречного». Писатель, хотя и со словами сомнения, сообщает, будто Газин на свободе любил резать маленьких детей: «единственно из удовольствия: заведет ребенка куда-нибудь в удобное место; сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением».
Сомнения в достоверности слухов о Газине отходят на второй план перед ужасной картиной детских мучений, к которым у Достоевского, как известно, всегда было обостренное отношение. У меня же возникла чисто читательская, ничем не подкрепленная уверенность, что характер Газина, как он нарисован в книге, находится в трудно выразимом противоречии с теми «вводными», которыми писатель оснастил картину. Не верилось почему-то, но ведь и проверить нельзя!
Бездны человеческой души, как и бездны на поверхности земной, всегда предполагают и какой-то связанный с ними общий рельеф. В противном случае бездны эти кажутся созданными искусственно.
Легко представить чувство, с которым я узнал, что мои недоумения по поводу тихого старика-фанатика и буйного Газина, который с наслаждением резал детей, обоснованны.
Не только я, рядовой читатель, но и сам автор «Записок из Мертвого дома» вряд ли мог предположить, что историки найдут «Статейные списки об арестантах омской крепости», в которых есть имена узников, содержащихся вместе с Достоевским, сведения об особых приметах, происхождении, «за что осужден, по чьему решению, какое получил наказание и на какой срок прислан, какого вероисповедания, грамотен ли, женат или холост и какого поведения».
Поразившим Достоевского с первого взгляда стариком-старообрядцем был раскольник Егор Воронов, 56 лет из Черниговской губернии. В «Статейных списках» отмечено, что осудили старика по высочайшему повелению на бессрочное время «за неисполнение данного его величеству обещания присоединиться к единоверцам (в данном случае к ренегатам. – К. И.) и небытие на священнодействии при бывшей закладке в посаде добрянской новой церкви».
Одно дело – поджог церкви, совсем другое – отказ присутствовать при ее закладке. Согласитесь, что фактическое «преступление» старика ближе к облику, воссозданному писателем… Крайне огорчительно сознавать, что злодеяние, приписанное старообрядцу Достоевским, полностью соответствует тому, как и в чем государство и церковь облыжно обвиняли всех русских религиозных протестантов.
(Не следует думать, будто судопроизводство по отношению к инаковерцам в тогдашней России было более гуманным и справедливым, нежели оно было таковым на самом деле По делам о старообрядцах, например, самые суровые приговоры выносились в столице от «высочайшего имени» по представлению с мест заочно. Для осуждения раскольника на каторжные работы было достаточно доноса православного протоиерея.)
А далее выясняется, что страшный Газин, тот, который из сладострастия мучил и убивал детишек, фигурирует под подлинной фамилией, зовут его Феидуллой, ему 37 лет, служил он в Сибирском линейном батальоне № 3 и осужден «за частовременные отлучки из казармы, пьянство и кражи».
С благодарностью к авторам примечаний, включившим эти сведения в состав тома, должен заметить, что ими верно обозначена и сквозная тенденция (в упомянутых мной и в других случаях) трансформации действительности: писатель часто усугублял подлинные преступления сокаторжников, приписывал им то, что они не совершали. Комментаторы полагают, что делалось это «по цензурным соображениям, чтобы ослабить впечатление от суровости царского суда». Предположение не кажется бесспорным. Во-первых, оно менее всего извинительно для автора, отбывшего каторгу, а во-вторых, цензура, о которой Достоевский знал не менее нас, упрекнула его за противоположное. Власти довольно обоснованно предположили, что публика может получить превратное представление о чрезмерной слабости наказаний за тяжкие уголовные преступления, – а это, в свою очередь, может повести к росту преступности.
Не оставляя вовсе в стороне вопрос о тенденции изменений фактической основы, следует еще помнить, что между событиями, описанными в «Мертвом доме», и публикацией прошло всего семь лет. Ф. М. Достоевский мог быть совершенно уверен, что забулдыга Феидулла Газин и его приятели ни на каторге, ни после освобождения не станут читать литературные журналы, а потому не смогут обидеться или же отомстить за напраслину. Новопечатные книги не взял бы в руки старичок-раскольник, осужденный на бессрочную каторгу за неприсутствие на торжестве. Конечно, соображения писательской этики по отношению к униженным и оскорбленным в этой книге не могут быть подробно развернуты. Зато тут, пожалуй, можно в общих чертах сопоставить направления, по которым проходила обработка исходных сюжетов в «Записках из Мертвого дома» и «Воскресении». Они противоположны. Вина Розалии Они, сиплой от пьянства чухонки-проститутки из заведения близ Сенной, была доказана, в краже у «гостя» ста рублей она созналась и получила четыре месяца тюрьмы. А Катюша Маслова, как известно, стала жертвой оговора и наказание получила куда более тяжкое, суровое и несправедливое. В отношении других жертв царского правосудия Толстой был так же тенденциозен, «улучшал» униженных и оскорбленных, «ухудшая» власть имущих и карающих. Бесспорно, что и Нехлюдов у Толстого куда серьезней и симпатичней того экзальтированного аристократа, о котором рассказывал писателю А. Ф. Кони. Конечно, эта тенденция закономерна у писателя, показавшего, что «нет таких людей, которые бы сами не были виноваты и потому могли бы наказывать и исправлять».
Следует признать, что Толстой намеренно «упрощал» исходные ситуации, но трудно согласиться с тем, как и за чей счет «усложнял» их Достоевский. (Общеизвестны слова Л. Н. Толстого из письма к Стахову: «…не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина», однако к проблеме трансформации исходных факторов в «Записках из Мертвого дома» оценка эта прямого отношения не имеет.)
Трансформированные сюжеты «Мертвого дома» в дальнейшем, как известно, были подвергнуты новой трансформации. Так, доведенный до отчаяния арестант, «добровольно страдающий» за попытку убить тюремного начальника, как справедливо отметил профессор М. С. Альтман, превращается в Миколку из «Преступления и наказания». Любимую свою мысль о загадочной жажде русского человека принимать страдание без вины Достоевский вкладывает в уста Порфирия Петровича. Пожалуй, эта мысль выглядела бы более убедительно, если бы не казалась профессиональным психологическим ухищрением. Кстати, надо отметить, что в мировой литературе прошлого века не часто встречаются такие вот «положительные» полицейские, не часто так внимательно рассматривается очистительная роль уголовного расследования. Нельзя не отметить и определенной объективности в словах Порфирия Петровича о Миколке: «Ну оробел – вешаться! Бежать! Что ж делать с понятием, которое пришло в народе о нашей юридистике!» Далее следователь на основе личного опыта уточняет мысль писателя и говорит, что Миколка в конце концов все же откажется от самооговора. «Подождите, еще отопрется! С часу на час жди, что придет от показания отказываться».