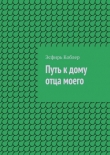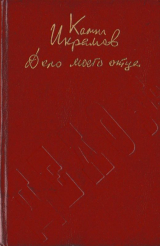
Текст книги "Дело моего отца (Роман-хроника)"
Автор книги: Камил Икрамов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Дастархан
– Ты помнишь милиционера Ермоленко?
(Я уже предупреждал, читатель, что некоторые имена я вынужден изменить по просьбе самих действующих лиц. Я не всегда понимаю мотивы, по которым люди просят изменить их имена, вернее, иногда понимаю, а иногда не понимаю совсем. Мне очень трудно заменять имена, но я должен это сделать.)
– Ты помнишь милиционера Ермоленко? – спросил мой двоюродный брат Амин.
– Еще бы, – сказал я, – конечно, помню.
Из многих милиционеров, охранявших дом секретаря ЦК Узбекистана в Ташкенте на Уездной и на Гоголя, я дружил с двумя – с Ермоленко и Ефремовым. Ермоленко – здоровенный украинец с квадратным подбородком. Ефремов – из-под Саратова, курносый, веселый, бесшабашный парень. Его я особенно любил.
– Так вот этот Ермоленко, – говорит Амин, – работает кладовщиком недалеко от товарной станции. Между прочим, это он дежурил, когда арестовали твоего отца.
Помню, в тот приезд я не стал разыскивать Ермоленко. Нашел его много позже. Он живет в низенькой мазанке, и на улице его знают потому, что они держат корову. «Это которые Ермоленки? Которые корову держат?» В низеньких комнатках меня встретили два рослых парня с квадратными подбородками, в узконосых ботинках, белых рубашках с галстуками, модно остриженные. Это были сыновья Ермоленко, студенты. Они собирались на танцы.
Получилось так, что и Ермоленко, и Ефремов живут в Ташкенте, как и до войны.
Один мой друг часто говорил, что жизнь значительно более сюжетна, чем мы, литераторы, это себе представляем. Во всяком случае, то, как жизнь распорядилась судьбами этих двух людей, удивляет меня до сих пор.
Оба они служили в правительственной охране, когда арестовали моего отца. Оба попали на фронт. В этом нет никакой судьбы.
Попали они на фронт по-разному. Ермоленко взяли в январе 1942 года, просто разбронировали и взяли. Ефремова – в 1943-м. Как он сам говорит – по глупости.
– Я тогда кабана держал. И зарезал его. А наш взводный говорит: «Ну, что ж, могу я на сало рассчитывать, килограммчиков на двадцать – тридцать?»
Такое меня зло взяло. Говорю: «Да нет, заходи, угощу, а на сало не рассчитывай». А он мне и говорит: «Ну, Ефремов, значит, не хочешь ты на свете жить». Разбронировали меня и – на фронт.
Неудивительно, конечно, что два милиционера из правительственной охраны оказались на фронте. Удивительно другое: встретились они в немецком плену.
Ермоленко рассказывает об этом так:
– Лагерь был под Борисовом. Тысяч пять нас было. Пригнали новеньких. Мы, значит, шеренгами стоим, а их мимо нас гонят. Ефремов как увидел меня да как закричит: «Ермоленко! Ермоленко!» Кричит – и ко мне. Тут полицаи растерялись, даже ударить ни разу не успели. Так он ко мне прорвался и рядом со мной стал… Он же тихий, без меня, может, и помер бы. Чего стащить – картошку или свеклу, это я. Но мы все пополам. Мы друг от дружки никуда. И все боимся, как бы не узнали, что мы чекисты. Если бы разоблачили нас, нам бы худо было. Они с чекистами знаешь как… Потом увезли нас с Березины под Берлин. С месяц под Берлином были. А потом под Франкфурт. Там на работу сначала не гоняли, а только били, по-пластунски заставляли ползать. Меня сильно били… Ты, говорят, оскорбляешь нашу личность, что скрываешь, что командир. А Ефремова не били.
Мы несколько раз встречались и с Ефремовым, который работает слесарем-сантехником, и с Ермоленко.
Ефремов рассказывает:
– Месяца за два до ареста твоего папы меня вдруг вызвали и говорят: будешь ходить в гражданской одежде, по другой стороне улицы, чтоб никто тебя не видел, и будешь за домом Икрамова следить. Кто входит, кто выходит, все записывай и доноси. Мне дали шелковую рубашку украинскую, под рубашкой, значит, у меня наган торчит. Хожу я по другой стороне улицы. Ну, а ваши-то все – и дворник, и Лиза, твоя нянька, видят меня. Вроде должен я секретно ходить, но куда ж там спрячешься. Как обед, Лиза, бывало, кричит: «Ефремов, иди обедать!»
– Власовцы сильно били, – говорит Ермоленко.
– Да как же нас не бить, – говорит Ефремов, – как же нас не бить! Помнишь, дали нам одеяла, а мы из них рукавицы наделали. Или вот с кранами…
Ермоленко смеется:
– А что с кранами! И правильно сделали.
– Да чего ж правильно, – говорит Ефремов. – Краны по всему дому отломали, и вода течет. Это ж безобразие одно.
Ермоленко говорит:
– Мы из них немцам кольца делали, они очень кольца любят. Они же бронзовые… Потом стали нас гонять в порт баржи разгружать, цемент. Там же и зерно разгружали. Подошли к баржам индюки, штук сорок. Я у часового попросился в уборную, там выломал палку, под шинель спрятал и пошел к индюкам. Часовой спиной ко мне сидел. Я в самую гущу индюков эту палку запустил. Двое упали и кувыркаются. Я подскочил, шинелью прикрыл и головы им набок. Придушил и в штаны. У меня итальянские галифе были. Широкие. Я до вечера работал, никто и не заметил. А вечером сварили.
На другой день к нашему начальнику конвоя немка пришла, плачет: «Нейн, нейн, цвай фугель никс». Конвойный сразу узнал, что я. Видел, что ли. Подошел ко мне, как хлобыстнет по роже. Он мне губу прямо разрубил. Здорово хлобыстнул…
– Ты даже говорить долго не мог, – замечает Ефремов.
– Ну, рожа у меня вся в крови, а нас уже обратно ведут. Сейчас, думаю, в лагерь приведут. Посмотрят – я весь в крови, спросят – чего, и могли плетей дать. До кости секли. Если б убили-расстреляли, это бы ладно, а то плетьми засекали… Нас ведут, а я говорю (у нас там фармацевт был один – Толя): «Ты скажи немцу, чтоб умыться разрешил». Толя говорит: «Постен, Ермоленко шпрехен, что умыться, мол, хочу». Разрешил. Ну, я пошел, там вода была близко – Одер, умылся. Так никто ничего и не узнал. Спасибо, постен хороший попался.
– Хороший! – сказал Ефремов. – Он тебе губу рассек, ты и говорить не мог.
– Нет, хороший, – возразил Ермоленко. – Если б он в лагере сказал, засекли ба. До кости секли ведь.
– Хороший! – не согласился Ефремов. – Он тебе всю рожу разворотил.
И они долго спорили, правильно поступил тот немец или нет. Этот разговор происходил за праздничным столом в летний вечер. Жена Ермоленко – толстенькая добродушная женщина – суетилась, подкладывала нам малосольных огурцов вперемешку с урюком, яблоками, доставала откуда-то новые бутылки. Меня поила квасом. Она заставила меня записать рецепт.
– Запиши, запиши! Чего не надо – пишешь. Так вот запиши: на триста граммов воды две столовых ложки сухих дрожжей, три столовых ложки сахару, полстакана муки. Когда дрожжи разойдутся, две булки хлеба… У нас с младшим беда, – говорит она мне про сына. – Лазил он на Эльбрус в каникулы, спознался там с одной… Она его в свою Махачкалу тянет. У нее теперь ребенок будет.
– Да, в тот год трупы-то валялись, – продолжает Ефремов, – чего не валялись. Возле вокзала. Как приедут, сил больше нет, вот и валялись.
Ермоленко перебивает его:
– Ты маленький, глупый был. Говоришь бывало: вот папа день и ночь не спит, хочет искусственное солнце изобрести. Это, помнится, когда курак[18]18
Курак – нераскрывшиеся коробочки хлопка. Мешками на арбах развозили курак по всем домам Ташкента, и жители должны были руками разрывать, разламывать коробочки, добывая оттуда влажную недозревшую вату. Потом те же арбы собирали по домам «продукцию». Наш дом не был исключением в этой всеобщей повинности.
[Закрыть] драли. Весь город драл. В вашем доме тоже все драли курак. Эта зима рано пришла, вы скромно жили. Я ж на кухне часто бывал, весь ваш меню знаю, часто ел, все та же шавля.
А дворника Спиридона помнишь? – спрашивает он. – Агент он был, мы его боялись. Вокруг много агентов было. Я не говорил тебе: я ведь последний был, кто отца видел. Вернулся он еще за солнце, перед вечером. Я тогда со двора дежурил. Мне сказали, чтоб я в окна поглядывал… Вижу, вошел в столовую. Посидели они за столом – он, комиссар Фролов и Лиза. Вдруг слышу – гудок у ворот. Там, у ворот, новенький стоял, ничего не понимал. Я слышу – Загвоздин приехал. По гудку узнал. Бегу к воротам, отворяю. Загвоздин во двор заезжает. Велел ворота притворить, а сам в дом вошел. Вышли они с твоим батькой, в машину сели, – помнишь, красная у Загвоздина была. Я сзади стоял, с кем сел, не знаю. На вокзал поехали – так мне Лиза сказала.
(Думаю, что Лиза ошиблась. Когда-то и я думал, что отца сразу отвезли на вокзал и в Москву. Но говорят, что два-три дня он еще сидел в Ташкенте. Член ЦК Узбекистана, секретарь одного из райкомов, знаменитая женщина-орденоноска Таджихон Шадиева, о которой писали много, от Юлиуса Фучика до Евгении Гинзбург, вспоминает, как в Ташкенте во внутренней тюрьме, она слышала в соседней камере, в одиночке, кашель моего отца.
– Э, Камиль, дорогой, я же не ошибаюсь, я же его кашель знаю…)
– У нас на базе один коммунист есть, – рассказывает Ермоленко. – Он – человек политический, бывший военный.
Пенсия чуть не три сотни Он говорит – самых лучших брали как военных, так и гражданских. Это точно… Помню, история была с вашим шофером, с Робертом. На май зашел он к вам. Видно, Лиза ему поднесла. Он выпил, а потом еще пошел к Спиридону выпил. Подхожу я к Спиридону, а Роберт лыка не вяжет. Положили мы его в угол, пусть отсыпается. А отец твой вышел вдруг. Думали, он никуда не поедет, а он поехать решил. Говорит: «Где Роберт?» Я испугался. Говорю ему: «Товарищ Икрамов, он вроде заболел». Он посмотрел на меня, отец твой, и говорит: «Правильно сказал, так и надо говорить в подобных случаях – заболел». И все, никакого разговору не было. Сел сам за руль и поехал… Это верно, самых лучших забирали…
Вечером Ермоленко вывел меня во двор и шепотом сказал:
– Если тебе деньги надо, я тебе дам. Только ты Ефремову не говори, а то он бедствует. Я тебе дам, хоть пять тыщ дам. А ему чего давать, он же нищий.
Я рассказываю о том, что знаю, о том, от кого и как я это узнал. Мои заметки никак не претендуют на то, чтобы дать полный, ясный ответ на то, каким был мой отец в повседневной политической жизни, какова была его роль во всех актах великой трагедии нашего народа.
Я приступил к этой книге с дрожью, но без жалости к отцу. Я установил, что он не был виновен в том, за что его судили. С каждым днем я все больше верю в чистоту его помыслов, в его полное бескорыстие.
Мы часто сетуем на то, что люди, сделавшие революцию, исчезли, что теперь-де нет тех святых. Мы часто в видимом противоречии с этим говорим, что и они были не без пятнышка и потому-де все произошло.
Но вернемся к процессу.
Моя книга, вероятно, чем-то напоминает труды палеонтолога, пытающегося по концевой фаланге неизвестного чудовища реконструировать картины прошлой жизни. Странная работа, когда живы и ходят среди нас свидетели, участники и организаторы тех событий.
Для моей работы несущественно, кто был на второй день процесса на месте Крестинского: он ли после пыток или его двойник? Я пытаюсь проникнуть в состояние тех двадцати, которые сидели рядом с Николаем Николаевичем. Или с его двойником. Одним из двадцати был мой отец. Он видел Николая Николаевича второго марта и третьего марта. Видел его или его двойника.
Палачам было необходимо раздавить Крестинского, они боялись, что его примеру последуют другие, что может рухнуть весь процесс, основанный на самооговоре.
Люди, сидевшие на скамье подсудимых рядом с Н. Н. Крестинским, видели: вчера он отказывался от всего, а сегодня сам все признает и еще просит разрешения помочь Вышинскому. Или: вчера все отрицал, геройствовал, а сегодня сидит двойник. И все идет как надо.
– И у тебя будет так. Хочешь, я покажу тебе твоего двойника? Вот твой двойник. Непохож? Но разве тебя так хорошо знают? Тебя же никто из сидящих в зале толком не знает! Кто тебя знает, Икрамов? А кто узнает – не пикнет.
Вместе с моим отцом были арестованы все пять братьев Икрамовых.
– Хочешь, я заставлю за тебя сидеть на суде Карима, или Нугмана, или Усмана, или даже самого молодого – Юсупа? А ведь братьев не обязательно. Можно любого узбека, любого…
Нет, не слабость подсудимых перед лицом пыток решала исходы тогдашних процессов в конкретном и более широком смысле слова «процесс». Не слабость подсудимых, а слабость зрителей, слушателей, читателей. Хотел было поподробнее перечислить известных мне и всей стране людей, допущенных в Октябрьский зал Дома союзов. Что их винить за тогдашнее молчание, если мы все до недавних пор молчали Чем мы рисковали при Брежневе? Малым, очень малым, если сопоставить цену нашего риска с ценой, которую могут заплатить за это наше молчание наши дети и внуки. Эту мысль я повторяю часто, обращаюсь с ней к читателям всех рангов, потому что жизнь длинна, а если учесть, что она продолжается в наших детях и внуках, то она бесконечна. Бесконечна, если свойственная всем людям мира социальная безответственность каждого из нас не приведет к концу света, к ядерной катастрофе, к тому, что перед собственной смертью мы увидим обугленные трупы наших детей и внуков.
Дело моего отца
Может быть, на процессе был Н. Н. Крестинский, может быть, был его двойник.
Может быть, дело в том, что, как полагают некоторые, процесс этот шел колесом больше месяца. Зал был полон. Вышинский с Ульрихом на месте, в первых рядах – следователи, – и обвиняемые не могли знать, когда репетиция, а когда спектакль. Есть такая версия. Может быть.
Может быть, им обещали жизнь и еще что-нибудь за послушание? Что им обещали?
Этого быть не может. Дурачков там не было, чтобы верить.
У меня все не идет из головы то, с какой заботой моему отцу доставляли весточки от моего дедушки. А ведь никто из тысяч, «идущих по тройкам и ОСО», вообще не получал писем и передач.
Я помню огромного широкоплечего дядю, который во время процесса таинственно приходил, запирался с дедушкой в его врачебном кабинете и потом уходил с письмом к отцу.
– Вот, видите, ваш сын жив. На свободе. Вчера ходил в Центральный детский театр на пьеску «Негритенок и обезьяна». Он получил значок БГСО.
– Что такое БГСО? – мог спросить отец, глядя на фотографию сына с непонятным значком на бархатной курточке.
– БГСО – Будь готов к санитарной обороне СССР, – могли объяснить ему и добавить: – А ведь все может быть иначе…
Я почему-то запомнил отца суровым и сдержанным. Но все в один голос, начиная от знаменитого профессора И. А. Кассирского, лечившего меня в детстве, и кончая милиционером Ефремовым, охранявшим наш дом, говорят, что отец обожал меня, трясся надо мной и сходил с ума, когда я болел или долго не возвращался домой. Может, угрожая моей жизни, заставили его быть послушным?
Не могу отвязаться и еще от одного страшного предположения. Не замучили ли они на глазах жертв процесса одну из известных им всем женщин? Почему-то я всегда думаю о вполне реальном человеке – жене старого коммуниста Николая Антипова[19]19
«Антипов Николай Кириллович (1894–1941) – сов. гос. парт. деятель. Чл. КПСС с 1912 г. Участник Окт. рев-ции 1917 г. в Петрограде. С 1919 секр. губ. (обл.) парт. к-тов (Казань, Москва, Урал, Ленинград) и Сев. Зап. бюро ЦК. С 1928 нарком почт и телеграфов, с 1931 зам. наркома РКИ СССР. С 1935 пред. Комиссии сов. контроля, одноврем. зам. пред. СНК СССР и СТО СССР. Чл. ЦК партии с 1924, През. ЦКК с 1931. Чл. ЦИК, ВЦИК». («СЭС»).
Думаю, что дата смерти здесь – условная. Погибших в 1937—38 годах «раскидывали» по разным годам. Николая Кирилловича никто в тюрьмах не встречал.
[Закрыть], уже упоминавшегося мной в этой работе.
Я помню ее в серой шубке с пуговицами, похожими на срезы древесных сучков. Говорят, это было модно. Она казалась мне очень красивой и подарила мне автомобильные гонки – заграничную игрушку. Звали ее тоже интересно – Степа.
Она приезжала с мужем в Ташкент, когда мы жили еще на Уездной. Н. К. Антипов потом ведал, кажется, еще комитетом по физкультуре и спорту. Как-то я оказался у них на даче зимой. Там была комната И. Д. Папанина, он жил на даче Антипова, подарил тому шкуру белого медведя.
Последний раз я помню Степу в гостинице «Москва» Очевидно, это май – июнь[20]20
Думаю, что июнь, июньский Пленум ЦК ВКП(б), на котором, как уверяют многие, был решен вопрос о предоставлении Ежову чрезвычайных полномочий.
[Закрыть] тридцать седьмого.
Она пришла какая-то бледная, и отец выставил меня в соседнюю комнату нашего огромного номера.
Из любви к тете Степе я крутился поближе к двери.
– Ты понимаешь, они пришли, все перерыли… Помнишь, всем нашим рассылали для сведения «Майн кампф»? Они схватили и тычут мне в нос. Помнишь, ведь всем членам правительства рассылали?
– Да.
– Акмаль! Пойди к нему! (Я понимал тогда: речь идет о Сталине.) Скажи ему. Ты же знаешь, что Николай не виновен.
– Я ничего не могу сделать.
– Но ты же понимаешь…
– Понимаю. Я ничего не могу сделать.
– Но он ведь тебя любит. Он же тебя обнимал в театре.
– Пойми, Степа, я ничего не могу сделать.
Когда тетя Степа вышла, я выглянул в коридор. Она шла по ковровой дорожке, как пьяная. Ее шатало от стенки к стенке.
Степа исчезла бесследно.
Мало ли жен исчезли бесследно в те годы, но я все время думаю о ней.
И еще я думаю, что отец не сказал ей: «Если его взяли, значит, он – сволочь». А ведь в эти самые дни мать сказала так. Мать и отец незадолго до ареста думали по-разному. Есть и другие тому свидетельства. Например, еще один рассказ 3. Д. Кастельской.
– …Это было в самом начале весны тридцать седьмого. Отец решил погулять вечером, а я собиралась домой. Мы пошли вместе.
– Скажите, Акмаль, что же это? – спрашивала я о сенсационных арестах тех дней, а он отвечал как-то очень неопределенно, а потом вдруг обернулся ко мне и сказал: – Неужели, Зинушка, вы не понимаете, что если я завтра скажу, что вы троцкистка, то поверят мне, а не вам.
– Что вы говорите! При чем здесь это?
– Если я скажу, что вы троцкистка или еще что-нибудь, то поверят мне. Вам уже никто не поверит. Понятно? – раздраженно спросил отец.
– Что вы говорите! Что вы говорите!
– Ладно, – сказал отец. – Хватит. Я вам ничего не говорил.
Прежде чем закончить рассказ о том, как я читал стенограмму процесса, – еще две цитаты.
Из последнего слова Н. И. Бухарина:
«…Мне кажется, что когда по поводу процессов, происходящих в СССР, среди части западноевропейской и американской интеллигенции начинаются различные сомнения и шатания, то они в первую очередь происходят из-за того, что эта публика не понимает того коренного отличия, что в нашей стране противник, враг, в то же самое время имеет это раздвоенное, двойственное сознание. И мне кажется, что это нужно в первую очередь понять.
Я позволяю себе на этих вопросах остановиться потому, что у меня были за границей среди этой квалифицированной интеллигенции значительные связи, в особенности среди ученых, и я должен и им объяснить то, что у нас в СССР знает каждый пионер.
Часто объясняют раскаяние различными, совершенно вздорными вещами вроде тибетских порошков и так далее. Я про себя скажу, в тюрьме, в которой я просидел около года, я работал, занимался, сохранил голову. Это есть фактическое опровержение всех небылиц и вздорных контрреволюционных россказней.
Говорят о гипнозе. Но я на суде, на процессе вел и юридически свою защиту, ориентировался на месте, полемизировал с государственным обвинителем, и всякий, даже не особенно опытный человек в соответствующих отделах медицины, должен будет признать, что такого гипноза вообще не может быть».
Подумать только, как обстоятельно и последовательно Бухарин опровергает измышления западных профессоров, объясняет им то, что «у нас в СССР знает каждый пионер».
Интересно, кто писал ему этот текст? Неужто Лев Романович Шейнин не знал, кто это писал? Неужто мы не вправе знать это, как это было на самом деле?
Почему же не спрашиваем?
Перечитывая, не могу отделаться от представления, что этот текст писал или лично продиктовал сам Сталин. Его фразеология, его интонация. Впрочем, и у Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите» я ее услышал. Очень я доверяю собственному слуху и прошу за это прощения у читателя.
«Очень часто объясняют эти раскаяния достоевщиной, специфическими свойствами души (так называемой l'âme slave)[21]21
Славянская душа (франц.). А про достоевщину я тоже писал в этой книге, хотя и в другом контексте.
[Закрыть], что можно сказать о типах вроде Алеши Карамазова, героев „Идиота“ и других персонажей Достоевского, которые готовы выйти на площадь и кричать: „Бейте меня, православные, я – злодей“.
Но здесь дело совершенно не в этом. В нашей стране так называемая l'âme slave и психология героев Достоевского есть давно прошедшее время, плюсквамперфектум».
Дочь Николая Ивановича – ученый, историк, кандидат наук, уверена, что ни одна фраза в последнем слове Бухарина ему не принадлежит. Мне и то кажется, что стилизация под Бухарина здесь очень недостоверна. Слишком уж он усердно проявляет эрудицию.
«Такие типы, – продолжает он в стенограмме, – не существуют у нас, они существуют разве на задворках маленьких провинциальных флигельков, да вряд ли и там существуют. Наоборот, в Западной Европе имеет место такая психология.
Я буду говорить теперь о самом себе, о причинах своего раскаяния. Конечно, надо сказать, что и улики играют очень крупную роль. Я около 3 месяцев запирался. Потом я стал давать показания. Почему? Причина этому заключалась в том, что я в тюрьме переоценил свое прошлое. Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно черная пустота. Нет ничего, во имя чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись. И, наоборот, все то положительное, что в Советском Союзе сверкает, все это приобретает другие размеры в сознании человека. Это меня в конце концов разоружило окончательно, побудило склонить свои колени перед партией и страной.
И когда спрашиваешь себя: ну, хорошо, ты не умрешь; если ты каким-нибудь чудом останешься жить, то опять-таки для чего?»
Ни о чем не прошу, только – читайте внимательно.
«Изолированный от всех, враг народа, в положении нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть жизни… И тотчас же на этот вопрос получается тот же ответ. И в такие моменты, граждане судьи, все личное, вся личная накипь, остатки озлобления, самолюбия и целый ряд других вещей, они снимаются, они исчезают. А когда еще до тебя доходят отзвуки широкой международной борьбы, то все это в совокупности делает свое дело, и получается полная внутренняя моральная победа СССР над своими коленопреклоненными противниками. Мне случайно из тюремной библиотеки попала книжка Фейхтвангера, в которой речь идет относительно процессов троцкистов».
(Бухарин, наверно, сказал бы: «Мне дали книжку „Фейхтвангера“». Он бы понял, как фальшиво звучит: «случайно из тюремной библиотеки». Кстати, книга подписана к печати в самом конце 37 года, 24 ноября. Бухарин заметил бы и это. – К. И.).
«Она на меня произвела большое впечатление. (Тот, кто звонил среди ночи в издательство Митину, лично же и приказал дать книгу Николаю Ивановичу, сомнений тут нет. – К. И.). Но я должен сказать, что Фейхтвангер не дошел до самой сути дела, он остановился на полдороге, для него не все ясно, а на самом деле все ясно».
Сталинский стиль!
А что думал про все это Лион Фейхтвангер в своем комфортабельном далеке? Промолчал? Если б не промолчал, мы бы об этом знали.
Мой отец в своем последнем слове говорил:
«Перед тем как меня арестовать, мне показали кучу материалов Наркомвнудела. Это – показания людей, данные в 1937 году, это – материалы, касающиеся меня. (Среди них самые страшные и невероятные – показания Николая Антипова, мужа тети Степы. – К. И.). Читай и скажи, что правильно, что нет. Я должен сказать, что в этом отношении очень внимательным ко мне был Николай Иванович Ежов, который 4 раза со мной разговаривал. А я что сделал? Начисто все отрицал. Поэтому этот позор никак не может смягчить того обстоятельства, что я на 6-й и 7-й день одумался и стал давать чистосердечные показания. (А как же то, что Бухарин заставил отца сознаться на очной ставке? Это было в феврале. – К. И.). Это ни в коем случае не уменьшает и не облегчает в какой-либо степени мое падение.
Дальше я вам скажу, что я никак не хочу прикрываться Бухариным или „право-троцкистским блоком“, но я должен сказать, что наша националистическая программа значительно обогатилась и активизировалась на контрреволюционные действия, именно благодаря сидящим здесь со мной участникам „право-троцкистского блока“ и особенно его правой части под руководством Бухарина и Антипова…
Нам дано совершенно справедливое звание врагов народа, предателей родины, шпионов, убийц.
…Я все, что знал, раскрыл, всех участников преступлений назвал и сам себя разоружил. Поэтому, если что можно сказать в свою пользу, прося о защите, о пощаде, так это то, что я сейчас – раздетый человекоподобный зверь».
И тогда, в пятьдесят пятом году, в газетном зале Исторической библиотеки и сейчас мне страшно читать эти слова. Вернее, тогда было страшно читать, а сейчас страшно переписывать в книгу об отце.
Так вот, слова, которые приведены в стенограмме, страшны и важны. А был ли на процессе в день, когда произносились «последние слова», мой отец или его двойник – совершенно несущественно.