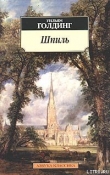Текст книги "Психология художественного творчества"
Автор книги: К Сельченок
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 47 страниц)
Еще Л.С. Выготский убедительно и ярко раскрыл целостность внутренней, невербализованной мысли, ее непереводимость во внешнюю. Речь – это расчлененная мысль, перевод ее идиом в понятия, необходимые для человеческого общения во всех сферах деятельности, начиная с трудовой. Поэтому слова, идущие вслед за свернутой внутренней речью, не полностью ее передают сами по себе. «В нашей речи, – писал Л.С. Выготский, – всегда есть скрытый подтекст. Мысль не выражается в слове, а совершается в нем». Мысль предшествует слову, но ее вербализация – это не механический процесс, это не просто «обработка» мысли, а ее пересоздание в новом качестве.
Концепция «подтекста» К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко направлена в конечном итоге на восприятие зрителем звучащей со сцены вербализованной мысли во всей ее глубине, на восприятие через сопереживание, включающее в себя и со-раздумье.
«Подтекст», взятый великими режиссерами из жизни искусства, психологами возвращен в жизнь для научного своего объяснения и получил расширительное толкование. Нам же сейчас важно подчеркнуть, что сораздумье в ходе художественного восприятия не заменяет собственную мысль читателя и не глушит ее, и она, оставаясь в свернутом, невербализованном виде, тем не менее активно функционирует, влияет на характер и степень эмоциональной раскованности сопереживания.
Обогащенные этими сведениями из научной психологии, попробуем применить их к пониманию характера сопереживания – скажем так: неположительным героям. В этом плане показательны произведения разных искусств.
Когда люди смотрят на известную картину Репина, изображающую, как Иван Грозный убивает своего сына, кому они больше сопереживают – преступнику или его жертве? Не вызывает сомнений: несмотря на весь ужас, который внушает здесь царь, именно он берет в плен сопереживание реципиента, пусть сложное, смешанное с безотчетным осуждением, сопровождаемое смятением свернутой, невербализованной мысли и все-таки... Ведь на лице Грозного – взрыв злобы и жестокости уже как бы сводится на нет нарастающим раскаянием перед собственным безумием, даже, пожалуй, печатью обреченности.
«Сопереживание» – понятие, нетождественное бесконтрольному «сочувствию»; оно и шире, и сложнее, и противоречивее. В случае с картиной Репина сопереживание не означает нашего оправдания тирана, но оно отличает «человечное», которое вдруг вышло из его смутной души на первый план нашего восприятия, и по принципу контраста тем сильнее становится художественное обличение.
Мы глубоко сопереживаем Отелло, хотя, что ни говори о нем хорошего, но все-таки благородный мавр убил ни в чем не виновную Дездемону, – почему-то его доверчивость склонилась к злонамеренным измышлениям Яго, а не к нравственной чистоте любящей жены. Но нам нужно это противоречие, оно усиливает сопереживание, доводит его до трагического катарсиса.
Более того, мы сопереживаем шекспировскому Ричарду III, особенно, как это ни странно, в сцене с леди Анной, когда он соблазняет женщину, у которой имеются веские основания его ненавидеть. Мы, быть может, ужасаемся собственному сопереживанию, но тем не менее оно есть, оно вызвано, по-видимому, восхищением титанизмом этого поэта властолюбия, преступного цинизма, потому что по контрасту в этом образе заложено восхищение мощью человеческого разума, безграничность возможностей человеческой целеустремленности.
Мы ждем в одно и то же время и успехов каждой очередной интриги Ричарда, и его конечного неминуемого поражения, и это противоречие питает наше сложное сопереживание: мы и вместе с трагическим героем, и вдали от него, наше сопереживание сопряжено с эмпатией и вместе с тем ее страшится, отвечая нашей потребности в торжестве справедливости, в наказании зла, что и дает удовлетворение финалом трагедии.
И еще один пример – образ совсем иного звучания, но лишенный права согласно догматической эстетике претендовать на «положительность» – Остап Бендер из дилогии И. Ильфа и Е. Петрова – авантюрист, обманщик, стяжатель... Правда, он герой комический, требующий, значит, к себе какого-то особого отношения, в его образе явно угадываются некоторые приметы старого плутовского романа. Как бы то ни было, но наше сопереживание и даже сочувствие – явно на стороне Остапа. Чем же он симпатичен? Умен, наблюдателен, ироничен не только к другим, но и к самому себе. Не причиняет явного зла хорошим людям, хотя использует их слабости, обнажает пустоту демагогии, смеется над тупостью, веяниями нелепой моды, многим таким, что в самом деле недостойно уважения; однако зачастую не бескорыстно смеется, а извлекает из всего этого выгоду. Почему же мы все-таки не принимаем близко к сердцу тот, как будто очевидный факт, что таланты Остапа направлены им к отнюдь не благородной цели – к обогащению? Не кажется ли нам, что стремление это – какое-то умозрительное, а увлекает героя не богатство, с которым, как потом выясняется, он толком не знает что делать, а процесс бурной изобретательной деятельности сам по себе, игра с опасностью, удовольствие от обнажения всяческого пустозвонства, претензий на значительность ничтожных личностей, многого другого, высмеиваемого авторами через образ их героя, в том числе и... жажды материальных излишеств. Противоречие? Несомненно. Но нам уже известно, что художественное восприятие движимо противоречиями, что оно призвано вызывать многосложное противочувствование.
И вот что, по-видимому, особенно важно для активности и глубины читательского сопереживания. Оно, безусловно, отличается и эстетически облагораживает явственно ощущаемый драматизм судьбы комического героя – не в его будущей преждевременной кончине, в значительной мере условной, а в его фатальном одиночестве, определяемом социальным смыслом образа. Тут снова противоречие: Остап очень «свой» во времени, он весь как художественный образ наполнен его атмосферой, жив его яркими приметами, ими насыщен. А как характер он чужд своему времени, потому что по его особости не в состоянии примкнуть к тем, кто строит социализм, так как остро чувствует издержки происходящего, да и вообще не может по свойствам личности «слиться» с каким-нибудь коллективом, не может и не хочет солидаризироваться и с прямыми нарушителями уголовного кодекса. Только с читателями «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» сближает Остапа Бендера его драматическое одиночество.
Так мы подошли к необходимости для сопереживания драматизма художественного образа – важнейшего своего стимулятора. «Драматизм» как эстетическая категория еще требует своего исследования, поиска точной дефиниции, объединяющей это понятие настолько, чтобы оно оказалось равно пригодным для разных видов искусства. Для тех из них, что воспроизводят непосредственно образ человека, драматизм отнюдь не тождествен «неустроенности» судьбы – термин вообще расплывчатый, вряд ли полезный для теории художественного творчества и восприятия.
Произведение искусства воспринимается иначе по сравнению с жизненными явлениями. Понятно, что чудовищный поступок Грозного, глядя на картину мы отнюдь не оправдываем, но образ царя, как отмечалось выше, выражает кричащее противоречие, а образ его сына – однозначен: гибель есть гибель, смерть есть смерть, хотя бы и преждевременная, хотя бы и от руки отца.
Поиск читателем драматизма в художественном произведении, в идеале – эстетического потрясения, сопряжен как будто с удивительным стремлением испытать отрицательные эмоции. Но такая «странность» отнюдь не исключена у человека и в жизни, – без риска, без испытания человеком себя «на прочность» не было бы и прогресса.
«Существует ли... влечение к отрицательным эмоциям, например, к страху, у человека? – спрашивает психоневролог В.А. Файвашевский. – Во многих случаях поведение человека бывает таким, что с внешней стороны его невозможно объяснить иначе, как интенсивным влечением к опасности. Достаточно вспомнить завзятых дуэлянтов прошлого, различных авантюристов-кондотьеров и конкистадоров, путешественников-землепроходцев, азартных игроков, ставивших на карту все свое состояние, любителей рискованных видов спорта наших дней. Отметим при этом три обстоятельства. Во-первых, чаще всего эти люди материально обеспеченные, во всяком случае настолько, чтобы не беспокоиться о поддержании своего повседневного существования. Во-первых, их сопряженные с опасностью действия доставляют им удовольствие (обратим на это особое внимание! – В.Б.). В-третьих, они субъективно не считают причиной своих поступков стремление к опасности, а обосновывают их прагматическими целями, риск же рассматривают как нежелательное препятствие к их достижению». Далее ученый говорит об «эмоционально-положительном восприятии негативной ситуации», о том, что «потребность в биологически и психологически отрицательных ситуациях проявляется в более или менее явном виде столь широко, что эта тенденция, будучи абсолютизирована без учета ее подчиненной роли по отношению к потребностям в положительной мотивации, создает иллюзию существования у живого существа, в частности у человека, стремления к опасности как самоцели».
Так в жизни. Тем более стремление испытать отрицательные эмоции на интенсивном фоне положительных оправданно в художественном восприятии, где опасность заведомо иллюзорна, хотя с помощью активной работы воображения по-настоящему затрагивает чувства, а сопереживание вызывает доподлинные слезы и смех. Поэтому если в жизни влечение к отрицательным эмоциям, доставляющим удовольствие, решается реализовать далеко не каждый, то встречи с искусством, насыщенным глубоким драматизмом, доступны и желанны всем, а мотивация, диктуемая в конечном счете потребностью в эмоциях положительных, очевидна – нельзя только забывать о необходимости здесь обратной связи, т.е. о получении положительного через отрицательное.
Интересно наблюдение над существенной разницей между художественным творчеством и его восприятием, имеющее прямое отношение к исследуемой нами проблеме, записано историком В.О. Ключевским: «Художественно воспроизведенный образ трогает воображение, а не сердце, не чувство, как художественно выясненная мысль возбуждает ум, не сердца... Настроение художника и настроения зрителя или слушателя – не одно и то же, а совсем разные по существу состояния: у одного творческое напряжение, чтобы передать, у другого критическое наслаждение от успеха передачи. Художник, испытывающий от своего произведения удовольствие, одинаковое со зрителем или слушателем, испытывает его как зритель или слушатель, как критик самого себя, а не как творец своего произведения». Конечно, Ключевский не прокламирует «безэмоциональное» восприятие, он указывает на путь к чувству через воображение, что сомнения не вызывает, хотя по современным данным проблемы не исчерпывает, так как игнорирует и прямое физиологическое воздействие искусства, и суггестивные свойства прекрасного, сотворенного художником. Но для нас важно проницательное суждение Ключевского о включенности критического начала в художественное наслаждение (кстати сказать, невозможное без эмоциональной захваченности реципиента).
Сопереживание и со-раздумье не останавливают собственную мыслительную деятельность читателя, отражающую и его жизненную установку, зависимую от потребностей, и его социальные связи, и его культурную оснащенность. Все это взаимосвязано и происходит одновременно в едином многоступенчатом и многоуровневом процессе. Поскольку сопереживание как бы выделяет из художественных произведений их жизненную первооснову, то к ней и относятся входящие в его состав критические потенции, реализуемые и в эмоциональной сфере. В наших примерах и Иван Грозный, и Ричард III не располагают (по-разному, конечно) к безоговорочному сочувствию, а посему сопереживание им так или иначе ограничивается, приобретает свой неповторимый характер, в частности и критичностью оценки их образно раскрытых личностей, их поступков, их окружения и т.п.
Этот вид критичности восприятия становится мало заметным или вообще сходит на нет, когда сопереживание обретает героя, близкого к воображаемой читателем суперличности, отвечающей его идеалу самого себя. Тем большую ответственность за впечатление от образа принимают на себя драматизм, найденные художником стимулы противочувствия читателя. В эстетическом плане здесь имеются в виду не только перипетии создаваемого художником образа драматической судьбы героя (а, например, в музыке – собственных драматических переживаний автора, передаваемых и от себя самого, и от имени других), но и драматизм вызывающих противочувствие несоответствий, подаваемых в различных жанрах (и комический эффект в данном случае рассматривается как частный случай функционирования драматизма).
Гамлет, Дон Кихот, Фауст – каждый из этих образов соткан из многих впечатляющих противоречий, анализу которых посвящена огромная литература, подтверждающая их безмерную глубину великолепием сходных и несхожих талантливых интерпретаций, отражающих и время своего создания, и личности своих авторов.
А очевидные и скрытые противоречия, скажем, тургеневского Базарова или гончаровского Обломова? Тончайший художественно-психологический анализ противоположных мотивов, душевных устремлений героев Л.Н. Толстого, кричащие внутренние противоборства героев Ф.М. Достоевского?
Если мы вдумчиво обратимся к вызывавшим широкий отклик образам советского искусства, то заметим в книге Д. Фурманова, и особенно в знаменитом фильме, противоречие между необразованностью Чапаева и его самобытным талантом. А как усиливает напряжение сюжета «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского назначение комиссаром на военный корабль, где властвуют анархисты, женщины?
Сопереживание читателя ищет в искусстве соответствие себе, своему опыту, своим волнениям, тревогам, своим богатствам эмоциональной памяти и всей психической жизни. Когда такое соответствие находится, то сопереживание герою, автору, его сотворившему, сливается с удивительно отстраненным сопереживанием самому себе, что дает наиболее сильный эмоциональный эффект. Это не такое переживание, которое оборачивается в жизни, возможно, стрессом, а «сопереживание», сопряженное со взглядом на себя как бы со стороны, сквозь призму художественного образа, сопереживание сильное, яркое, но эстетически просветленное. Этот «взгляд со стороны» тоже содержит в себе и элементы критичности.
Пафос критичности достигает наивысшего накала при восприятии сатирических произведений, а само сопереживание при этом превращается как бы в свою противоположность, т.е. в своеобразную эмпатию, либо вовсе лишенную сочувствия к герою, либо окрашенную сожалением по поводу его жалкой участи, поступков, принижающих человеческое достоинство.
Нет одинакового сопереживания, как нет унификации в подлинном искусстве, как нет двух личностей с полностью повторяющими друг друга психическим складом, жизненным опытом, генетическим наследством и т.п. Как мы видим при этом, характер, интенсивность и направленность сопереживания зависят и от меры отстранения, от того, насколько читатель ясно, четко воспринимает искусство как искусство, от степени восхищенности им как выражением прекрасного. Зависимость эта диалектична. Эмоциональная восторженность от встречи с прекрасным способна усилить сопереживание самим фактом усиленной аффектированности восприятия. Но вызванные тем же обстоятельством сотворчество, оценочная деятельность по поводу мастерства художника могут и снизить непосредственность сопереживания.
Говоря обобщенно, сотворчество – это активная творчески-созидательная психическая деятельность читателей, протекающая преимущественно в области воображения, восстанавливающая связи между художественно-условным отображением действительности и самой действительностью, между художественным образом и ассоциативно возникающими образами самой жизни в тех ее явлениях, которые входят в опыт, эмоциональную память и внутренний мир (интеллектуальный и чувственный, сознательный и неосознаваемый) реципиента. Эта деятельность носит субъективно-объективный характер, зависит от мировоззрения, личностного и социального опыта читателя, его культурности, вбирает в себя индивидуальные особенности восприятия и вместе с тем поддается суггестивной направленности произведения искусства, т.е. внушению им того или иного художественного содержания.
Может показаться, что сотворчество всего лишь противоположно по совершаемому пути собственно художественному творчеству. У некоторых ученых приблизительно так это и выглядит: художник кодирует, воспринимающий раскодирует, извлекая из образного кода заложенную в нем информацию. Но такой анализ лишает искусство его специфики. Сотворчество – проявитель художественных начал в читательском восприятии. Оно не просто расшифровывает зашифрованное другим, но и творчески конструирует с помощью воображения свои ответные образы, прямо не совпадающие с видением автора произведения, хотя и близкие им по содержательным признакам, одновременно оценивая талант, мастерство художника со своей точки зрения на жизнь и искусство. Последнее обстоятельство также нельзя упускать из виду в рассуждениях о воспитательной эффективности художественного воздействия.
Сама по себе такая оценочная деятельность отнюдь не однолинейна, она, в свою очередь, противоречива (оценка жизни, стоящей за произведением, и самого произведения, уровни культуры художника и читателя, эмоциональная захваченность ходом восприятия и рациональность оценки и т.п.), многоступенчата. Так, Е. Назайкинский, исследуя этот процесс при восприятии музыки, заключает: «В целом система оценочной деятельности... сложна и включает в себя самые различные действия.
Первый вид может быть определен термином перцепция. Он объединяет в группу получение художественного „впечатления“, восприятие оценочной деятельности других слушателей, восприятие их мнений в момент их выражения.
Другим видом является апперцепция – актуализация ценностного и оценочного опыта, усвоенных критериев, шкал». Далее музыковед называет еще «оценочные операции», включающие сопоставление своего впечатления с общепринятыми критериями, с оценками других слушателей и т.п., фиксацию оценки, дает всем этим разнонаправленным действиям характеристики, далее отмечает «погружение» оценочной деятельности в «художественный мир», в «специфическую ткань произведения».
Каждый вид искусства по-своему требует от читателя оценочной деятельности, она необходима для полноты и суггестивности художественного впечатления, но разные направления ее по-разному «дозируют». Менее всего она заметна при восприятии произведений, ориентированных на художественный психологизм, т.е. на достижение наибольшего доверия к жизненной правде отображаемого и соответственно на эмоциональную напряженность сопереживания. Значительно откровеннее выступает оценочная деятельность при восприятии более или менее подчеркнуто условного искусства, чьи образы метафоричны, зачастую в расширенном значении этого понятия, требуют большей, чем психологизм, конструктивности от воображения реципиента. Но таков только один из компонентов сотворчества как активного процесса, включающего в себя нерасчлененное и во многом неосознаваемое восприятие содержания и формы произведения как утверждение торжества человеческого гения (не только в кантовской интерпретации этого понятия, но и в его расширительной трактовке).
Введем в наши соображения мнение Н.Я. Джинджихашвили о психологической необходимости искусства, отличной от социологической: «Мир, представленный художественным произведением, – добровольный мир, рожденный человеческим произволом. Повторяет ли он нынешний мир, воссоздает ли прошлый или предвосхищает будущий, – он существует лишь как допущение нашей собственной воли. Реальный мир человеку задан и пребывает независимо от его воли, тогда как художественная действительность полностью обусловлена нашим желанием: в нашей воле создавать или не создавать (воспринимать или не воспринимать) ее. Этот факт сообщает чувство свободы от того, что создано не нами; больше того: ощущение власти над ним».
Вряд ли целесообразно отделять психологическую необходимость от социологической, от творчески-познавательной и побуждающей к действию, но нам понадобилось это суждение для того, чтобы подчеркнуть, что гедонистическая окраска сотворчества сопряжена с этим ощущением свободы от отображаемого искусством, хотя бы в нашем сопереживании заметно присутствовали отрицательные эмоции, вызывающие подчас даже искренние слезы горячего сочувствия страданиям героя.
Это вдохновляющее сознание властности над предметом отражения, отображения и преображения, над творимой и воспринимаемой второй действительностью, получающей из рук человека суггестивные свойства, влияющей на его сознание и подсознание, изначально было связано с тотемическим и мифологическим мышлением. Не случайно в древности искусство пролагало пути разным своим видам в формах, как бы подчеркивающих его условность. Поэтому, очевидно, исторически поначалу складывалось преимущество сотворчества перед сопереживанием как ведущей стороны художественного восприятия, помогающего человеку осознать себя человеком, увереннее идти по дороге прогрессивного развития.
Как правило, условными средствами художественной выразительности изобретательно и последовательно пользуются все виды фольклора, в том числе фольклорный театр. Интересно отметить, что и русский фольклорный театр был, конечно, театром предельно условным. Поэтому можно с научной обоснованностью сказать, что развивал русские народные традиции в сценическом искусстве в значительно большей мере В.Э. Мейерхольд, чем К.С. Станиславский, – ведь театральный психологизм в России формировался как художественная система М.С. Щепкиным, начиная с 20-х годов XIX в.
Вот как, по свидетельству современника, ставилась пьеса «Царь Максимилиан», которую фольклористы признают подлинно «своей», т.е. истинно народной, в сибирском селе Тельма в 80-х годах прошлого столетия. Пьеса эта, так же, как и другая – «Царь Ирод», – «были занесены в давние времена местными отставными солдатами и устно передавались „от дедов к отцам, от отцов – к сыновьям“. Каждое поколение точно сохраняло текст, мотивы песен, стиль исполнения и костюмировку. Исполнялись обе пьесы в повышенно-героическом тоне. Текст не говорился, а выкрикивался с особыми характерными ударениями. Из всех действующих лиц „Царя Максимилиана“ только мимические роли старика и старухи – гробокопателей исполнялись в число реалистичных тонах и в их текст делались вставки на злобу дня (заметим намеренный анахронизм. – В.Б.). Женские роли королевы и старухи-гробокопательницы исполнялись мужчинами... Костюмы представляли из себя смесь эпох... Вместо парика и бороды привешивали паклю...»
Прервем это описание. Запомнились и другие условности представления. Но уже ясна развитая подвижность воображения зрителей в давние времена. Не тренированное встречами с профессиональным искусством, оно успешно дополняло жизненными ассоциациями условные обозначения мест действия и внешнего облика персонажей, приемы игры, только намекающие на правду действительности. Сотворчество зрителей через их воображение снимало затворы для их сопереживания, отличного по качеству, конечно, от того сопереживания, что вызывали впоследствии спектакли Художественного театра.
Так называемый критический реализм по сравнению со всеми ему предшествовавшими художественными направлениями решительно выдвинул сопереживание как основной компонент своего восприятия читателем, хотя, конечно, поиски новых видов художественной условности никогда не прекращались во всех видах искусства. Они приобрели небывалый на протяжении веков размах и глубину, разнообразие и новое качество в XX в. Эта тенденция приводила, как известно, и к немалым издержкам, приводя в крайних своих свершениях к разрушению художественной образности. Однако, как метко подытожила Н.А. Дмитриева свои наблюдения над западными живописью и скульптурой нового времени: «Искусство XX века, многим пожертвовав, многое утратив, научилось давать метафорическое тело вещам незримым».
Если мысль эту перевести в русло рассматриваемой нами проблемы, то можно сказать, что, начиная с постимпрессионизма, многие выдающиеся художники жертвовали сопереживанием своей аудитории, стремясь вызвать новое углубленное сотворчество, при этом нередко с одновременным прямым воздействием на неосознаваемую сферу психической жизни людей (музыкой стиха, сочетанием цветов, монтажом и другими композиционными приемами, разрушением стереотипов восприятия, новыми звукосочетаниями и т.п.). Подчас сугубо, казалось бы, индивидуальное видение мира, воплощенное в оригинальных образах, требовало столь же индивидуализированного ответного отклика, хотя бы и не адекватного предложенной художественной системе. Проникновение за пределы видимого искало особой смещенности привычного взгляда на предмет отображения, обнажающего суть явления, его подспудную динамику, уловить которую реципиенту нельзя непосредственным чувством, а можно лишь «пересотворить» заново в своем воображении, с тем чтобы ответствовать художнику собственными ассоциациями, вызванными его работой. В характере же сопереживания здесь на первый план выступают так называемые интеллектуальные эмоции, порожденные процессом разгадывания метафоры, удивлением перед неожиданностью (подчас эпатажной) предложенного решения и т.п.
Напрашивается, как будто, мнение, что именно сотворчеству суждено доминирующее и даже всеобъемлющее положение при восприятии созданного различными художественными течениями, которые принято объединять под весьма несовершенными вывесками «декадентство», «модернизм», «постмодернизм», «авангардизм» и т.п. Но, как мы уже выяснили, любая одноплановая констатация, игнорирующая противоречивость художественного восприятия, себя не оправдывает. Вдумаемся в реально происходящее.
Давно находятся желающие, – и это как бы само собой напрашивается, – найти общие признаки у многочисленных художественных направлений и течений, резко отличных от классических, традиционных принципиально новой постановкой творческих задач... Например, Н.Н. Евреинов писал в 1924 г., что «все направления искусства, начиная с декадентства и кончая футуризмом, представляют собой явления одного и того же порядка... Общее у всех этих различных на первый взгляд направлений – это стремление к иррациональности в искусстве, борьба за осуществление какового принципа была начата еще в конце XIX века так называемыми декадентами, – этими подлинно первыми борцами с рационалистическим засильем Золя, Толстого, передвижников, кучкистов и даже и „иже с ними“...».
Евреинов высказался в духе времени – с преувеличениями, рассчитанными на эпатаж читателей. Ну какие же рационалисты Л. Толстой или, скажем, М. Мусоргский? Великие эти художники понадобились Евреинову только как обозначение, условное, альтернативы «иррационализму». С большими оговорками можно принять и определение «борьба».
В произведениях Л. Толстого, М. Мусоргского и даже Э. Золя можно без труда обнаружить воздействие на «иррациональное» в отзывчиво настроенных человеческих «чувствилищах», т.е., надо полагать, – на нечто в образах, необъяснимое обыденными словосочетаниями, логическими построениями. Это так даже у авторов, прокламирующих свою рациональность, если они художники. Но не меняются ли сами принципы восприятия художественных открытий, начатых на рубеже века, продолженных во многих поисках?
Конечно, меняются. Возникает новое соотношение сопереживания и сотворчества и более того: заметны перемены во внутренних структурах того и другого при несомненной их принадлежности именно художественному восприятию. Произошел, если угодно, революционный скачок, но он не отменил традиции.
Преемственность в новом старого угадал и видный американский психолог Р. Арнхейм при всей своей приверженности к шедеврам классики. Он хорошо видит и принципиальные от нее отличия: «На протяжении последних нескольких десятилетий в современном искусстве наблюдалась тенденция к постепенному сокращению характерных черт в изображении физического мира. Своего крайнего выражения эта тенденция достигла в „абстрактном“ или „беспредметном“ искусстве... Отдаление от изображаемого объекта приводит к геометрической, стилизованной форме». Попытавшись найти этому движению социокультурологическое оправдание, психолог переходит к анализу восприятия в новых произведениях целого как конгломерата частностей, связи между которыми мы не в состоянии четко уяснить. «Возможно, – пишет, Р. Арнхейм, – такое обособленное восприятие приводит к интуитивному пониманию, потому что отход от реалистического изображения не означает полного отказа от этого метода. Зритель, чтобы создать себе лучшие условия восприятия картины, нередко отходит от нее подальше, то есть создает такую дистанцию между собой и рассматриваемой картиной, при которой случайные детали опускаются, а самое главное и существенное приобретает резко выраженные очертания. Чтобы схватывать основные факты более непосредственно, наука опускает все индивидуальное и внешнее. В лучших образцах современной „беспредметной“ живописи и скульптуры делаются попытки через абстрактность показать это непосредственное схватывание чистых сущностей (поэтому Шопенгауэр и превозносил музыку как высший вид искусства». По мнению американского ученого, «концентрированное выражение абстракций является ценным лишь до тех пор, пока оно сохраняет сенсорную связь с жизнью. Именно эта связь дает возможность отличить произведение искусства от научной диаграммы».
Ценное для искусства концентрированное выражение абстракций? Что это такое? Способно ли оно вызвать сопереживание (кому) и сотворчество (какое)?
Но нельзя ли тот же взрыв объяснить стремлением пойти дальше классиков в раскрытии психологии личности, ее скрытых побуждений, невербализованных, «свернутых» мыслей, нереализованных потребностей, так важных для ее внутреннего мира? Предмет отображения – не только сущностное в объекте, но и скрытое сущностное в субъекте?
Пусть платформой для понимания проблемы послужит нам суждение Гегеля, так широко и перспективно толкующее миссию искусства, что она включает в себя на удивление и те художественные модификации, которые великий философ наблюдать, конечно, не мог.
Гегель, сопоставив образы и созерцания, а также абстрактные представления, далее писал: