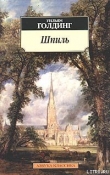Текст книги "Психология художественного творчества"
Автор книги: К Сельченок
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 47 страниц)
Очевидно, с самого первого шага восприятие модели взаимодействует с восприятием рисунка (в данном случае подготовленного листа). Причем восприятие рисунка в силу своей особой природы, опираясь в начале работы на минимум данных, подсказывает задачи, которые следует решать, обращаясь к модели.
Перед нами активный аналитический процесс, первый, элементарный, но несомненно уже композиционный ход, размещение предмета в пространстве по двум измерениям и с точки зрения тяжести. Но на рисунке еще почти ничего нет.
Вторая задача. Представим себе, что у рисующего нет активной задачи в передаче предметного пространства (комнаты, угла мастерской) и он должен по существовавшему правилу лишь уместить фигуру на листе так, чтобы масштаб ее был наибольшим из возможных. Для этого он намечает основные конструктивные части, их направления и основные величины (голова, ступня, торс, рука, кисть руки и т.д.). Прежде всего он наносит верхнюю отметку для головы и нижнюю отметку – границу опорной ступни. То, что воспринимается теперь на рисунке, – уже не только пространство для размещения фигуры. Над верхней отметкой мы чувствуем проницаемое пространство («воздух»), а ниже ступни и рядом с ней – пол (подиум), хотя пол, конечно, еще не нарисован ни общим тоном, ни лежащей на нем тенью от фигуры, ни иначе. Лист, таким образом, воспринимается теперь неоднородно и в смысле общей предметной структуры пространства. Очень важно найти расстояние от нижней отметки ступни до нижнего края листа (протяжение пола перед фигурой). В зависимости от величины этого расстояния фигура – даже и в такой первоначальной разметке – читается на листе расположенной дальше или ближе: фигура получает на рисунке точное место в третьем измерении. Несомненно, рисующий и саму модель воспринимает теперь в свете этой задачи. Нижний край листа мысленно отмечается на полу перед моделью как основание картинной плоскости. Рисующий считывает теперь модель от картинной плоскости в глубину, чувствуя пространство до модели, до ее выступающих и отступающих частей. Восприятие рисунка все время ставит новые задачи перед восприятием предмета для рисунка. Новая задача может определяться не антиципацией образа на листе, опирающейся на прошлый изобразительный опыт и на восприятие первоначальной схематической разметки, а восприятием уже сделанного. Предположим, что рисующий заметил ошибку. Например, при данном положении нижней отметки (ступни) на листе происходит выпадение вытянутой вперед руки из картинной плоскости. Рисунок заставляет снова обратиться к модели. Намечая положение ступни выше по листу, рисующий видит теперь фигуру, расположенную глубже, а пространство вокруг нее – менее зажатым. На рисунке еще нет почти ничего конкретного, однако решена еще одна часть элементарной композиционной задачи – определено положение фигуры в трехмерном пространстве изображения.
Третья задача. Чаще всего вместе со второй решается и третья задача – определение основных пропорций. Она требует особого восприятия модели и особого восприятия рисунка. После первой разметки пропорций на листе все начинает читаться масштабно. Масштабно воспринимается и модель. Если рисующий неспособен видеть части модели масштабно (в масштабе рисунка, заданном первоначальной разметкой), он неизбежно запутается, будет обречен на бесконечное «увязывание». Заметив на рисунке масштабную неувязку, опытный рисовальщик обращается к модели с вопросом «почему?», все время организуя восприятие предмета по сигналам от восприятия рисунка.
Теперь на листе появилось что-то близкое к конкретному изображению. Антиципация рисунка становится ограниченной. Восприятие рисунка, оценка его убедительности, «читаемости», а не только внешнего соответствия натуре отдельных частей начинает играть все более и более значительную роль и, часто выделяя находки и желаемое, нарушает привычную последовательность решения задач.
Четвертая задача. Чем дальше развертывается процесс изображения, тем сложнее и своеобразнее становится восприятие рисунка, тем значительнее его роль в процессе рисования. Уже при определении пропорций неизбежно возникает новая пространственная тема. Мы видим элементы реальной формы, погруженными в пространство, уходящими вглубь, выступающими. Они или развернуты параллельно картинной плоскости, или перспективно сокращены, сохраняя, однако, в пространстве действительные размеры. Если говорить о модели, такое восприятие элементов ее формы и формы в целом обеспечивается работой обычных механизмов восприятия пространства (бинокулярный параллакс плюс необходимая для его эффекта конвергенция глаз, подвижность головы и глаза, переменное аккомодационное усилие). Но та же задача единства предмета и пространства должна быть решена и на рисунке, где работа указанных механизмов не только не оказывает помощи, но противодействует, так как прежде всего мы видим плоскость листа и притом – плоскость относительно малого размера. Самый иллюзорный рисунок не способен заставить человека почувствовать себя птицей, клюющей нарисованный виноград. Лист рисунка существует среди других вещей, и восприятие в нем изображенных вещей и пространства всегда остается «особым» процессом, опирающимся по сравнению с действительностью на неполный состав стимулов. Даже первая разметка воспринимается на рисунке масштабно, имея в виду действительные величины, и сокращенно (считая по плоскости изображения), имея в виду перспективное сокращение.
По словам Чистякова, предмет должен быть изображен таким, каков он «на самом доле», и таким, как он «кажется глазу нашему» (то есть в перспективе). Именно в восприятии рисунка, используя прошлый изобразительный опыт, мы ищем систему стимулов на плоскости, достаточную для реализации этого единства, и в случае удачи получаем реальную форму и пространственное ее развитие, в случае же неудачи – или неполноценность пространства, или искажение формы – повод для новых вопросов к модели. Каркас формы, обычный на академическом рисунке времени Чистякова, убедителен вследствие реализации синтеза действительной формы (понятой масштабно), перспективных изменений и причины этих изменений – пространства. Известно, что тонкость такого синтетического восприятия рисунка и модели для рисунка заставляет исправлять перспективные (проекционные) явления, чтобы достигнуть большей убедительности, чем это достигается при механическом, перспективном построении по правилам центральной перспективы.
Теперь пространство строится формой предмета, образующегося вокруг него. Строго связанная пространственная форма на листе – это уже своего рода композиция, хотя, разумеется, собственно композиционные задачи значительно глубже и сложнее.
Пятая задача. Вероятно, уже в разметке пропорций и построении пространственного каркаса формы глаз воспринимает и собственно конструктивные анатомические и динамические связи (напряжения) частей тела. Иногда поиск этих связей выделяется в самостоятельную задачу. Достаточно напомнить известный лист Микеланджело с рисунком анатомии плеча. О чем спрашивал здесь художник природу? Зачем хотел он увидеть скрытый сустав в облекающей его связке мышц? Он хотел добиться чувства ясного сочленения и напряжения на рисунке, где конструкция скрыта внешним покровом. Конечно, он искал, говоря словами А. Гильдебранда, «форму воздействия». Требование поиска такой формы было вызвано восприятием рисунка. Рисунок чем-то не удовлетворял его, и по требованию рисунка в зрительном акте, направленном на модель, нужная форма выделялась, а у Микеланджело часто и преувеличивалась.
Шестая задача. П.П. Чистяков считал нанесение светотени процессом, неотделимым от определения каркаса формы. Сначала, как показывают учебные рисунки, «тушевка» наносилась легко в самом ограниченном диапазоне светлот. И здесь поучительно непрерывное воздействие восприятия предмета и рисунка. Конечно, форма предмета подчеркивается выразительным распределением света и тени (опять «форма воздействия» – расчет на восприятие рисунка). Известны даже зрительные обманы, основанные на свойстве светотени «внушать» форму. Современная скульптура часто пользуется вогнутостями, которые при определенном освещении производят впечатление выпуклостей. В психологии известны эксперименты с так называемой «внушенной тенью». В природе моделирующая тень на предмете, обычно окрашенном неоднородно (в том числе и по светлоте окраски), объединяется с окраской в единый эффект (что, конечно, фиксирует и фотопленка, чаще всего смазывая лепку формы). На учебном рисунке распределение светлот должно прежде всего определить форму. Рисующий обязан отделить в восприятии модели освещенность элемента формы от светлоты его окраски. Недаром Чистяков говорил о трудности в определении светотени на цветной коже. Темные и светлые пятна на нашем рисунке должны читаться только как определители формы, подчеркивая объемное действие каркаса формы. К тому же они решаются обычно в ином диапазоне светлот, чем реальные освещенности на предмете, они смягчают и сильные рефлексы и сильные света и тени, «съедающие» форму. «Алгоритм» академического рисунка заставляет видеть и в предмете лишь светлоты, годные для прочности трехмерной формы на рисунке, видеть их вместе с формой, то есть видеть лишь те, которые на рисунке создают эффект формы.
Однако мы знаем рисунки, передающие градации освещенности и характерную светлоту предметной окраски, рисунки, вызывающие даже ощущения хроматических различий цвета. В таких рисунках процесс рисования должен строиться иначе, видеть на рисунке и в предмете надо гораздо больше (хотя арсенал средств остается неизменным: черное, серое, белое, линия, пятно).
Мы видим в предмете то, чего требуют характер и правила рисунка. Нарушение на рисунке формы или недостаточно ясная лепка заставляет нас исправлять светотень, сохраняя каркас, или исправлять каркас формы, сохраняя нанесенную светотень (сжимать контур).
Седьмая задача. Учебный рисунок с натуры часто характеризуют как рисунок «для неподвижного глаза», рисунок с фиксированной точки зрения («фотоглаз»!), в то время как активное восприятие предмета предполагает подвижность точки зрения. Но, строго говоря, восприятие неподвижным глазом возможно только посредством коллиматорного устройства. Изменение же точки зрения при рисовании живой натуры неизбежно, так как модель не может длительное время сохранять полную неподвижность и точно восстанавливать прежнюю позу. Фигура все время является в несколько иных поворотах. Чистяков говорил в связи с этим о необходимости «вязать форму живой модели в себе самой», то есть все время думать о цельности рисунка, исходя из зрительной оценки цельности, «связности» формы на рисунке. Значение восприятия рисунка на этой, заключительной стадии процесса едва ли нуждается в подтверждении. Рисующий обращается теперь к модели лишь с эпизодическими вопросами, так как завершается реальность, созданная на листе.
Вышеизложенное – лишь схема, не полная модель процесса. Но и схема достаточно наглядна, чтобы выделить следующие положения.
Во-первых, тезис о существовании рисунка «для пассивного глаза» (сделанного пассивным глазом. – Н.В.), чисто оптического, физического, чисто рецептивного подхода, сходного с фотопроцессом и т.п., противоречит реальной природе процесса изображения даже в наименее творческой его форме (то есть без открытой постановки художественных задач). Старые психологические теории, которые должны были подкрепить позицию сторонников противопоставления «рецептивного» и «продуктивного» изображения, оказываются не реальной опорой, а, скорее, ширмой для древней эстетической антитезы: «концепция» или «подражание». Подмена эстетической антитезы психологической не приносит успеха. Процесс изображения не подскажет решения в пользу той или другой эстетической позиции. Вопрос о том, где есть «концепция», а где – «подражание», можно решить только на основе эстетической оценки результата. И осуждение импрессионизма в приведенных выше формулах было только борьбой нового направления со старым, несправедливостью, свойственной такой борьбе.
На самом деле, импрессионист, положивший на холст первый мазок, твердо держит в уме будущий образ (который в пылу полемики был назван «впечатление»). Тусклый и одинокий мазок на белом поле холста (он темнее холста!) импрессионист видит как начало развития симфонии света. Нет ничего более далекого от стихии света, чем плоский холст и тусклые, не светящиеся, пятна пигментов. Но художник хочет воплотить концепцию природы как радостного праздника света (для человека, может быть, даже именно для горожанина!). Меньше всего он «списывает с натуры», ибо в натуре симфония света меняется ежеминутно. Его работа – это сначала сплошная антиципация образа, затем развитие и завершение концепции, опирающееся на восприятие сделанного.
С поразительной близорукостью импрессионисту ставят в вину пассивную фиксацию первого впечатления, то есть изменчивого явления, в то время как именно изменчивость явления заставляет принять ясное, твердое решение и удерживать первое, яркое впечатление в течение всего процесса работы. Именно изменчивость явления предполагает сложнейшую задачу интерполяции новых восприятий для продолжения работы, предполагает мощную память и активнейшее отношение к возникающему на холсте образу. Аберрация по отношению к импрессионизму – отчасти результат отсутствия научного интереса к конкретному творческому процессу.
Об относительной пассивности в работе над рисунком (этюдом) можно говорить, пожалуй, только в случае беспорядочного процесса у начинающего дилетанта и у ремесленника, повторяющего заученные приемы. И тот и другой страдают слепотой по отношению к тому, что предвидится и происходит на бумаге, и потому не умеют задавать природе ясных вопросов. Но и слепота ремесленника не идет ни в какое сравнение с абсолютной слепотой фотопроцесса по отношению к результату.
Во-вторых, важнейшая роль в процессе изображения принадлежит восприятию намечающегося, возникающего и, наконец, готового к завершению рисунка. Здесь – и проверка сделанного и направление дальнейшей работы. Если даже для изображения с натуры так важно все время видеть рисунок, то насколько важнее это в сложном процессе работы но воображению, когда натура используется лишь как вспомогательное средство. Вспомните, что говорил Суриков по поводу эскизов к картине «Боярыня Морозова» и в связи с самой картиной: «Не идут сани!» Он не раз менял положение саней на эскизах. Затем он подшил снизу холст, чтобы сани «шли». К сожалению, высказывания художников об этой стороне процесса единичны. Проблема восприятия возникающего продукта, то есть проблема информации для «обратных связей» – употребим снова этот термин, – связей направляющих и исправляющих процесс, выпала из принятой схемы творчества.
В-третьих, восприятие рисунка отличается по своей природе от восприятия предмета. Это восприятие на базе ограниченной афферентации, это восприятие полноты жизненного содержания по неполной системе сигналов.
В психологии давно изучен факт разного восприятия фигуры и фона в рисунках, допускающих реципрокное чтение.
Одна и та же по цвету бумага вокруг фигуры кажется проницаемой, пространственной, внутри ее контура непроницаемой, плотной, предметной, в зависимости от того, что мы видим как фигуру и что – как фон. Психология накапливает теперь экспериментальные факты восприятия хроматических оттенков цвета на ахроматическом рисунке. На хороших линейных рисунках Серова, Энгра, Пикассо изображенное тело кажется более теплым по тону, чем окружающее пространство, хотя объективно перед нами нетронутый тушевкой одинаковый тон бумаги.
В-четвертых, возникшая в последние годы проблема моделирования процесса творчества художника сталкивается со специфическими трудностями. Машинное изображение – реальный факт – это фотография, оттиски пространственной копировальной машины, работающей по фотоэлементу, и т.д. Но «машинное» изображение лишь внешне похоже на рисунок и скульптуру.
Для моделирования процесса художественного изображения надо иметь в виду особую роль и значение информации – от возникающего изображения (обратные связи). Если отбор информации о предмете изображения происходит по некоторому правилу, то сигналы от изображения должны быть организованы так, чтобы иметь возможность не только вовремя включить один из заложенных алгоритмов, но и создавать новое правило – новую последовательность, поставить новые задачи. Может быть, это и не принципиальное препятствие, ибо самоулучшающиеся устройства, самостоятельно находящие лучшие решения, в более простых случаях уже существуют. Но может быть, самоулучшающемуся творческому процессу следует приписать алгоритмическую неразрешимость.
Затем надо иметь в виду, что поступление информации должно обеспечиваться воспринимающими машинами, воспринимающими те или иные отношения, величины и т.п. по отдельным задачам. Правда, и воспринимающие устройства в элементарном виде уже существуют. Но они моделируют только узнавание предмета, например буквы в разных их начертаниях. Чтение рисунка бесконечно сложнее. Еще сложнее создание машинного устройства для восприятия качеств и дефектов рисунка. А ведь в таком восприятии – основной регулятор процесса. Для того чтобы видеть на рисунке трехмерную форму, ее убедительность, прочность ее построения, для того чтобы видеть, создан ли на черно-белом рисунке цвет предмета или нет, читаем ли мы освещенность, свет или только форму, нужно было бы заложить в машину всю систему связей, образовавшихся в высших отделах головного мозга данного человека в процессе его жизни и, в частности, в процессе его творческой деятельности, все законы работы этих связей. Машина должна была бы развиваться подобно человеку от рисунка к рисунку. Трудности умножаются, если присоединить эмоциональный и эстетический опыт человека. Как ответить на вопросы: почему это хорошо? Почему здесь трагический конфликт формы или красок? Почему это прекрасно, гармонично, а это только правильно?
В произведениях искусства эстетические категории – реальность. Однако в чем конкретный фундамент эстетических оценок, пока не очень ясно. И все же именно они определяют окончательный отбор «форм воздействия». Они регулируют и улучшают процесс, они подсказывают, что процесс окончен. Возможно, что это тоже не непреодолимая трудность, ибо живая наука не знает догматически поставленных границ. Но даже анализ процесса создания учебного рисунка предостерегает от скороспелого моделирования. Современные «кибернетические» опыты «художественного творчества», в частности, страдают полным отсутствием учета обратных связей, напоминая в этом отношении фотопроцесс.
Кажется, что и вопрос об алгоритмической разрешимости процесса творчества должен оставаться открытым, ибо и отрицательное решение проблемы в истинной науке, свободной от догмы и моды, – тоже решение.
Общая проблема «обратных связей»
При изучении творческого процесса до сих пор использовали главным образом воспоминания писателей, художников, ученых, изобретателей. Это были либо дневники и разрозненные записи, письма, куски литературных произведений, либо рассказы о беседах с писателями, художниками. Не так давно советские психологи пробовали создавать описания творческого процесса по данным специальных бесед, где инициатива принадлежала психологу. Это несколько расширило круг вопросов, которые обсуждались до сих пор как главные вопросы психологии творчества, расширило в сторону индивидуальных особенностей процесса. И все же общая картина процесса изменилась несущественно.
Процесс творчества делят на три или четыре стадии: задумывание (возникновение замысла), подготовительная стадия (вынашивание замысла, накопление материала), стадия открытия (в связи с ней рассматривается проблема вдохновения) и стадия проверки готового результата.
Психологов больше всего занимал вопрос о том, как возникает «открытие», этот переход из сферы «подсознательного» (лучше сказать, неосознанной части процесса) в сферу осознанного, как подготовляется и чем объяснить это «внезапное» озарение. Проверку относили только к готовому результату.
Но содержится ли в этой схеме вывод из действительных фактов творческого процесса или отражение теоретических представлений, столетиями упорно державшихся в творческой среде и укрепившихся благодаря распространению бергсоновско-фрейдистских теорий?
Мне кажется, последнее – вернее, и вот почему.
Целенаправленное систематическое самонаблюдение, вообще говоря, несовместимо с процессом творчества (это – взаимоисключающие направленности, они предполагают физиологически несовместимые очаги возбуждения, мы говорим «человек поглощен творчеством»). Главный источник рассказов о творческом процессе поэтому – память, сохраняющая, однако, лишь самое яркое – и то случайно, частично, – некоторые минуты удачи, острые повороты процесса.
Рассказ о пережитом в качестве источника фактов есть новая и слишком литературная деятельность. Словесное оформление всегда использует привычные понятия, а в нашем случае – неопределенные понятия (представления) и существенным образом преломляет факты. Даже словесный отчет испытуемого в психологическом эксперименте – часто сплав действительно пережитого и воспринятой теории. Очищение фактов от наслоений, связанных с процессом их выражения и их восполнения, необходимое вследствие особенностей памяти, – задача исключительной сложности.
Полученная таким путем характеристика творческого процесса представляет его в целом как внутренний путь, чаще всего – путь неосознанный, в конце которого результат возникает более или менее внезапно. Реализация мысленного образа в слове, музыкальной фразе, очертании, композиционном ходе не занимает внимания исследователей. О ней редко говорят воспоминания и письма. И начинает казаться, что реализация образа в материале данного искусства – это, в общем, гладкий, не творческий, а ремесленный процесс, что в нем нет ни открытий, ни трудностей.
Совершенно иная мысль приходит в голову исследователю, когда он видит рукописи Пушкина, Толстого, испрещенные многоэтажными исправлениями (перечеркнутые слова, фразы, строки, набело переписанные и вновь испещренные поправками куски). Можно легко предположить, сколько ненаписанных вариантов, проговариваний текста во внутренней речи или в бормотании, декламировании должно было бы пополнить эти материальные следы творческого процесса, если бы мы хотели видеть полную картину его.
Та же мысль приходит в голову, когда рассматриваешь эскизы и этюды Сурикова, потрясающее наследие «подготовительных», но уже совершенных холстов гениального А. Иванова, путаные сети линий на незаконченных рисунках Врубеля.
Несомненно, и на самих холстах Врубеля, Иванова, Сурикова скрыто множество исправлений, счисток, перекрытий. Общий эффект картины нельзя разложить на отдельные звенья процесса, скрытые в толще красочного слоя или вовсе уничтоженные художником. Впрочем, специальное просвечивание красочного слоя картины часто говорит о крупных исправлениях, переделках (на старых картинах исправления иногда проступают наружу). Конечно, есть художники и писатели, создающие вещь «одним дыханием». Но и это единое дыхание длится не минуты, а часы, и в миниатюре воспроизводит работу великих тружеников искусства (удары кисти и контрудары, нервные счистки и поверх счисток с блеском положенные новые мазки). Поучительно было смотреть фильм о работе П. Пикассо. Рождение образа вовсе не напоминало простое запечатление на бумаге уже сложившегося в уме образа. Если бы можно было шире использовать этот методический прием!
Где же выход из противоречия между бытующими представлениями о творческом процессе и материальными свидетельствами этого процесса?
Во-первых, акцент в анализе творчества должен быть перенесен с подготовительной стадии, когда будто бы зреет образ, погруженный в общий жизненный опыт человека (растет неосознанно, не регулируется волей художника), в стадию реализации в особых средствах данного вида искусства.
Во-вторых, стадия реализации представляет собой длительный процесс, в котором часы, минуты вдохновенной работы, – чаще сохраняемые памятью художника, – сменяются периодами трезвого пересмотра созданного, чередуются с часами и мгновениями взыскательной оценки, относящейся не только к целому, но и к частям, к отдельным словам, синтаксису, фигурам речи, краскам, очертаниям, всем «формам воздействия».
В-третьих, в этом процессе самую существенную роль играет «прочтение» уже сделанного куска, стиха, строфы, соответственно – этюда к картине, первой раскладке цвета, первых линий композиции и даже – силы данного цветового акцента, меры лепки данного элемента формы.
Почему Пушкин зачеркнул одно слово и заменил его другим? Потому, что второе ярче лепило образ или звучало музыкальнее, подчеркивало ритмом фигуру противопоставления и т.п. А для этого он, вероятно, должен был прочесть стих, строфу, а может быть, – и все уже написанные строфы.
Почему А. Иванов писал этюды к своей знаменитой картине не только с живых моделей, но и с соответствующих античных гипсов? Не потому ли, что, перенося этюд живой модели на картину, он сверял обобщенность и ясность формы с идеальной ясностью ее на этюде, сделанном с античного гипса?
Выбирая, сверяя картину и этюды, он нигде прямо не имел дела с воспринимаемой действительностью. Воображаемый мир – эта смутная даль – возникал и уяснялся на холсте, и естественно было достраивать здание картины, исходя из ее достоинств и недостатков, и лишь для этого привлекать прошлый творческий опыт и новый материал.
Объективные свидетельства творческого процесса говорят о постоянном участии в нем восприятия возникающего произведения. Они говорят о значении для успеха процесса оценки сделанного на всех его этапах. Оценивается соответствие нового куска не только общему, как правило, вначале неясному замыслу и воспринимаемой жизни, но также другим частям произведения по его внутренней логике. Произведение напоминает развивающийся организм. В ответ на сделанное все время поступает информация о сделанном, чтобы вызвать к жизни новые задачи.
Мы назвали выше проблему прочтения собственного произведения и продвижения его на основании такого прочтения проблемой обратных связей. Не замечая роли обратных связей, философы, психологи и искусствоведы представляли творческий процесс слишком гладким, не видели важнейшей и постоянной реальной драмы творчества.
* * *
Существуют другие аспекты той же проблемы. Вспомним основную особенность восприятия рисунка. Рисунок содержит неполный и измененный состав сигналов по сравнению с изображаемой на нем действительностью. Но то, что мы должны увидеть на рисунке, не только полно передает действительность, но передает ее глубже и ярче, чем прямое восприятие, потому что художник отбирал формы и на своем языке толковал явления. Однако все ли видят рисунок так, как видит его художник?
Неопытному рисовальщику кажется, что он создал убедительную форму, ему трудно увидеть свой рисунок, отрешившись от восприятия модели, увидеть его как бы со стороны, глазами зрителя. А зритель сразу чувствует, что лепка неясная, ракурсы читаются как ошибки в пропорциях (короткая рука и т.п.). Трудность прочтения собственного произведения еще значительнее в творческом процессе.
Произведение художника должно стать открытием для других, оно несет зрителю (читателю) новый образ и часто использует для этого существенно новый «язык». Но если это действительно открытие, оно должно быть хотя бы в потенции доступно зрителю (читателю), должно «открывать» ему мир. Как же видит художник свое произведение? Какова мера совпадения опыта художника и зрительского (читательского) опыта? Где граница между субъективизмом и истинным новаторством, которое непременно пробьет себе дорогу в народ? Почему новаторское творчество Пушкина так скоро стало народным? И где, с другой стороны, граница между широкой понятностью и трафаретностью произведения, лежащей за пределами творчества и искусства? Этот аспект проблемы связан с воспитанием зрителя и с ответственностью художника в его новаторских решениях.
Наконец, психология творчества рассматривалась до сих пор как часть общей психологии, то есть психологии человека, отвлекающейся от индивидуальных особенностей и социальных связей, в то время как психология творчества невозможна без изучения конкретных деятельностей человека и связей его с обществом.
Восприятие зрителя и критика, как бы ни старался художник замкнуться в башне из слоновой кости, сильнейшим образом влияют на творческий процесс. И похвала и резкая критика могут как обогатить творческий процесс, так и искривить и оборвать его. Мнение критика и зрителя неизбежно изменяет взгляд художника на собственное произведение, заставляет его, подчиняясь в какой-то мере критике, ставить новые задачи или, протестуя против нее, острее решать прежние.
Волков Н. Процесс изобразительного творчества и проблема «обратных связей».
Содружество наук и тайны творчества. Сборник. – М., 1968, с.234-254.