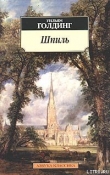Текст книги "Психология художественного творчества"
Автор книги: К Сельченок
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 47 страниц)
Первым является ее желание свести во что бы то ни стало все решительно проявления человеческой психики к одному сексуальному влечению. Этот пансексуализм кажется совершенно необоснованным в особенности тогда, когда он применяется к искусству. Может быть, это было бы и верно для человека, рассматриваемого вне общества, когда он замкнут в узком круге своих собственных инстинктов. Но как можно согласиться с тем, что у общественного человека, участвующего в очень сложных формах социальной деятельности, не могут возникать и существовать всевозможного рода другие влечения и стремления, которые не менее, чем сексуальные, могут определять его поведение и даже господствовать над ним? Чрезмерное преувеличение роли полового чувства кажется особенно очевидным, как только мы от масштаба индивидуальной психологии переходим к психологии социальной. Но даже для личной психики кажутся чрезмерной натяжкой те допущения, которые делает психоанализ. «По утверждению некоторых психоаналитиков, там, где художник рисует прекрасный портрет своей матери или в поэтическом образе воплощает любовь к матери, скрыто исполненное страха инцестуозное желание (комплекс Эдипа). Когда скульптор создает фигуры мальчиков или поэт воспевает горячую юношескую дружбу, психоаналитик сейчас же готов усмотреть в этом гомосексуализм в самых крайних формах... При чтении таких аналитиков создается впечатление, будто вся душевная жизнь состоит только из дочеловеческих страшных влечений, как будто все представления, волевые движения, сознание только мертвые куклы, которые тянут за ниточки ужасные инстинкты».
И в самом деле, психоаналитики, указывая на чрезмерно важную роль бессознательного, сводят совершенно на нет всякое сознание, которое, по выражению Маркса, составляет единственное отличие человека от животного: «Человек отличается от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или же – что его инстинкт осознан». Если прежние психологи чрезмерно преувеличивали роль сознания, утверждая его всемогущество, то психоаналитики перегибают палку в другой конец, сводя роль сознания к нулю и утверждая за ним только способность служить слепым орудием в руках бессознательного. Между тем элементарнейшие исследования показывают, что и в сознании могут происходить совершенно такие же процессы. Так, экспериментальные исследования Лазурского о влиянии различного чтения на ход ассоциаций показали, что «уже тотчас после прочтения рассуждения наступает в уме распадение прочитанного отрывка, комбинации различных его частей с находившимся ранее в уме запасом мыслей, понятий и представлений». Здесь мы имеем совершенно аналогичный процесс распадения и ассоциативного комбинирования прочитанного с прежним душевным запасом. Неучет сознательных моментов в переживании искусства стирает совершенно грань между искусством как осмысленной социальной деятельностью и бессмысленным образованием болезненных симптомов у невротиков или беспорядочным нагромождением образов во сне.
Легче и проще всего обнаружить все эти коренные недостатки рассматриваемой теории на тех практических применениях психоаналитического метода, которые сделаны исследователями в иностранной и русской литературе. Здесь сейчас же открывается необычайная бедность этого метода и его полная несостоятельность с точки зрения социальной психологии. В исследовании о Леонардо да Винчи Фрейд пытается вывести всю его судьбу и все его творчество из его основных детских переживаний, относящихся к самым ранним годам его жизни. Он говорит, что ему хотелось показать, «каким образом художественная деятельность проистекает из первоначальных душевных влечений». И когда он заканчивает это исследование, он говорит, что боится услышать приговор, что он просто написал психологический роман, и сам должен сознаться, что он не переоценивает достоверности своих выводов. Для читателя достоверность эта положительно приближается к нулю, поскольку от начала и до самого конца ему приходится иметь дело с догадками, с толкованиями, с сопоставлениями фактов творчества и фактов биографии, между которыми прямой связи установить нельзя. Создается такое впечатление, что психоанализ располагает каким-то каталогом сексуальных символов, что символы эти всегда – во все века и для всех народов – остаются одни и те же и что стоит на манер снотолкователя найти соответствующие символы в творчестве того или другого художника, чтобы по ним восстановить Эдипов комплекс, страсть к разглядыванию и т.п. Получается дальше впечатление, что каждый человек прикован к своему Эдипову комплексу и что в самых сложных и высоких формах нашей деятельности мы вынуждены только вновь и вновь переживать свою инфантильность, и, таким образом, все самое высокое творчество оказывается фиксированным на далеком прошлом. Человек как бы раб своего раннего детства, он всю жизнь разрешает и изживает те конфликты, которые создались в первые месяцы его жизни. Когда Фрейд утверждает, что у Леонардо «ключ ко всей разнообразной деятельности духа и неудачливости таился в детской фантазии о коршуне» и что эта фантазия в свою очередь раскрывает в переводе на эротический язык символику полового акта, – против такого упрощенного толкования восстает всякий исследователь, который видит, как мало в творчестве Леонардо эта история с коршуном способна раскрыть. Правда, и Фрейд должен признать «известную долю произвольности, которую психоанализом нельзя раскрыть». Но если исключить эту известную долю, вся остальная жизнь и все остальное творчество окажутся всецело закабаленными детской половой жизнью. С исчерпывающей ясностью этот недостаток обнаруживается в исследовании о Достоевском Нейфельда: «Как жизнь, так и творчество Достоевского, – говорит он, – загадочны... Но волшебный ключ психоанализа раскрывает эти загадки... Точка зрения психоанализа разъясняет все противоречия и загадки: вечный Эдип жил в этом человеке и создавал эти произведения». Поистине гениально! Не волшебный ключ, а какая-то психоаналитическая отмычка, которой можно раскрыть все решительно тайны и загадки творчества. В Достоевском жил и творил вечный Эдип, но ведь основным законом психоанализа считается утверждение, что Эдип живет в каждом решительно человеке. Значит ли это, что, назвав Эдипа, мы разрешили загадку Достоевского? Почему должны мы допустить, что конфликты детской сексуальности, столкновения ребенка с отцом оказались более влиятельными в жизни Достоевского, чем все позднейшие травмы и переживания? Почему не могли мы допустить, что такие, например, переживания, как ожидание казни, как каторга и т.п., не могли служить источником новых и сложных мучительных переживаний? Если мы даже допустим вместе с Нейфельдом, «что писатель ничего иного и не может изобразить, как свои собственные бессознательные конфликты», то все же мы никак не поймем, почему эти бессознательные конфликты могут образоваться только из конфликтов раннего детства. «Рассматривая жизнь этого большого писателя в свете психоанализа, мы видим, что его характер, сложившийся под влиянием его отношений к родителям, его жизнь и судьба зависели и целиком определялись его комплексом Эдипа. Извращенность и невроз, болезнь и творческая сила – качество и особенность его характера, все можем мы свести на родительский комплекс и только на него». Нельзя представить себе более яркого опровержения защищаемой Нейфельдом теории, чем сказанное только что. Вся жизнь оказывается нулем по сравнению с ранним детством, и из комплекса Эдипа исследователь берется вывести все решительно романы Достоевского. Но беда в том, что при этом один писатель окажется роковым образом похожим на другого, потому что тот же Фрейд учит, что Эдипов комплекс есть всеобщее достояние. Только совершенно отвернувшись от социальной психологии и закрыв глаза на действительность, можно решиться утверждать, что писатель в творчестве преследует исключительно бессознательные конфликты, что всякие сознательные социальные задания не выполняются автором в его творчестве вовсе. Удивительный пробел окажется тогда в психологической теории, когда она захочет подойти с этим методом и с этими взглядами ко всей области неизобразительного искусства. Как будет она толковать музыку, декоративную живопись, архитектуру, все то, где простого и прямого эротического перевода с языка формы на язык сексуальности сделать нельзя? Эта громадная зияющая пустота самым наглядным образом отвергает психоаналитический подход к искусству и заставляет думать, что настоящая психологическая теория сумеет объединить те общие элементы, которые, несомненно, существуют у поэзии и музыки, и что этими элементами окажутся элементы художественной формы, которую психоанализ считал только масками и вспомогательными средствами искусства. Но нигде чудовищные натяжки психоанализа не бросаются в глаза так, как в русских работах по искусству. Когда профессор Ермаков поясняет, что «Домик в Коломне» надо понимать, как домик колом мне, или что александрийский стих означает Александра, а Мавруша означает самого Пушкина, который происходит от мавра, – то во всем этом ничего, кроме нелепой натяжки и ничего не объясняющей претензии, при всем желании увидеть нельзя. Вот для примера сопоставление, делаемое автором между пророком и домиком. «Как труп в пустыне лежал пророк; вдова, увидев бреющуюся Маврушу, – „ах, ах“ и шлепнулась.
Упал измученный пророк – и нет серафима, упала вдова – и простыл след Мавруши...
Бога глас взывает к пророку, заставляя его действовать: „Глаголом жги сердца людей!“ Глас вдовы – „ах, ах“ – вызывает постыдное бегство Мавруши.
После своего преображения пророк обходит моря и земли и идет к людям; после того как открылся обман, Мавруше не остается ничего другого, как бежать за тридевять земель от людей».
Совершенная произвольность и очевидная бесплодность таких сопоставлений, конечно, способна только подорвать доверие к тому методу, которым пользуется профессор Ермаков. И когда он поясняет, что «Иван Никифорович близок к природе: – как велит природа – он Довгочхун, то есть долго чихает, Иван Иванович искусственен, он Перерепенко, он, может быть, вырос сверх репы», – он окончательно подрывает доверие к тому методу, который не может избавить нас от совершенно абсурдного истолкования двух фамилий, одной – в смысле близости к природе, другой – в смысле искусственности. Так изо всего можно вывести решительно все. Классическим образцом таких толкований останется навсегда толкование пушкинского стиха Передоновым в классе на уроке словесности: «„С своей волчицею голодной выходит на дорогу волк...“ Постойте, это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки попарно ходят. Волк с волчицею голодной: волк сытый, а она голодная. Жена всегда после мужа должна есть, жена во всем должна подчиняться мужу». Психологических оснований для такого толкования есть ровно столько же, сколько и у толкований Ермакова. Но небрежность к анализу формы составляет почти всеобщий недостаток всех психоаналитических исследований, и мы знаем только одно исследование, близкое к совершенству в этом отношении: это исследование – «Остроумие» Фрейда, которое тоже исходит из сближения остроты со сновидением. Это исследование, к сожалению, стоит только на грани психологии искусства, потому что сами по себе комический юмор и остроумие, в сущности говоря, принадлежат скорей к общей психологии, чем к специальной психологии искусства. Однако произведение это может считаться классическим образцом всякого аналитического исследования. Фрейд исходит из чрезвычайно тщательного анализа техники остроумия и уже от этой техники, то есть от формы, восходит к соответствующей этой остроте безличной психологии, при этом он отмечает, что при всем сходстве острота для психолога коренным образом отличается от сновидения. «Важнейшее отличие заключается в их социальном соотношении. Сновидение является совершенно асоциальным душевным продуктом; оно не может ничего сказать другому человеку... Острота является, наоборот, самым социальным из всех душевных механизмов, направленных на получение удовольствия». Этот тонкий точный анализ позволяет Фрейду не валить в одну кучу все решительно произведения искусства, но даже для таких трех близко стоящих форм, как остроумие, комизм и юмор, указать три совершенно разных источника удовольствия. Единственной погрешностью самого Фрейда является попытка толковать сновидения вымышленные, которые видят герои литературного произведения как действительные. В этом сказывается тот же наивный подход к произведению искусства, который обнаруживает исследователь, когда по «Скупому рыцарю» хочет изучить действительную скупость.
Так, практическое применение психоаналитического метода ищет еще своего осуществления, и мы можем только сказать, что оно должно реализовать на деле и в практике те громадные теоретические ценности, которые заложены в самой теории. Эти ценности в общем сводятся к одному: к привлечению бессознательного, к расширению сферы исследования, к указанию на то, как бессознательное в искусстве становится социальным.
Нам придется еще иметь дело с положительными сторонами психоанализа при попытке наметить систему воззрений, которые должны лечь в основу психологии искусства. Однако практическое применение сможет принести какую-либо реальную пользу только в том случае, если оно откажется от некоторых основных и первородных грехов самой теории, если наряду с бессознательным оно станет учитывать и сознание не как чисто пассивный, но и как самостоятельно активный фактор, если оно сумеет разъяснить действие художественной формы, разглядевши в ней не только фасад, но и важнейший механизм искусства; если, наконец, отказавшись от пансексуализма и инфантильности, оно сможет внести в круг своего исследования всю человеческую жизнь, а не только ее первичные и схематические конфликты.
И, наконец, последнее: если оно сможет дать правильное, социально-психологическое истолкование и символике искусства и его историческому развитию и поймет, что искусство никогда не может быть объяснено до конца из малого круга личной жизни, но непременно требует объяснения из большого круга жизни социальной.
Искусство как бессознательное есть только проблема; искусство как социальное разрешение бессознательного – вот ее наиболее вероятный ответ.
Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1986, с.91-110.
В. В. Иванов
Бессознательное, функциональная асимметрия, язык и творчество
Начну с истории болезни. Во время лечения шизофрении односторонними электросудорожными шоками, которое проводилось в Ленинграде группой, руководимой Л.Я. Балановым, мне пришлось летом 1979 года наблюдать такой случай. Молодая девушка, одаренная художница, не выходит месяцами из тяжелейшего бреда. В него вплетено столько разнообразных символов, что один из психиатров, знакомившийся вместе со мной с историей ее болезни, жаловался на почти полную невозможность выделения основного ядра в этом потоке ассоциаций. После правостороннего шока, когда поведением больной управляло в основном левое (доминантное по речи) полушарие, она, отвечая на вопросы, стала четко описывать мучащий ее комплекс сексуальной вины перед своей матерью (ей чудится, что она потеряла невинность, хотя по данным медицинского обследования, она – девушка). До описываемого шока, при шоках с противоположной стороны, девушка (чьим поведением в короткие промежутки после левостороннего шока управляло преимущественно правое полушарие, ведающее образным восприятием) сделала несколько хороших рисунков. После же правостороннего шока в ответ на просьбу нарисовать что-нибудь девушка изобразила нечто, что я не мог бы истолковать сразу же, если бы не занимался раньше сексуальной символикой наскальных рисунков пещер Верхнего палеолита (замечу, что эти рисунки на протяжении длительного периода истории Homo sapiens характеризовались схематизацией и установкой на деталь, поданную как бы «крупным планом», которая типична для левого полушария, видимо, игравшего особую роль в разных видах знаковой деятельности после победы звукового языка как главного средства общения). Психиатры, не имевшие культурно-антропологической подготовки, не поняли изображения и стали расспрашивать больную. Она им пояснила: «Это – мои половые органы». В течение нескольких десятков минут после правостороннего шока левое полушарие больной сосредоточенно занималось самоанализом, результаты которого мы наблюдали и в ее словесных объяснениях и в таких символических рисунках. Затем с увеличением активации правого полушария снова стал проявляться комплекс вины уже в достаточно трансформированных формах бреда, которые новому наблюдателю могли бы опять показаться загадочными. Рисуя, больная приговаривала: «Бумага, прости меня! Карандаш, прости меня! И фон, прости меня!» и падала на колени (отбитые от того, что она постоянно бухалась на них). Завершая рассказ об этой больной, добавлю, что у нее же среди схематизированных рисунков был и рисунок руки с тем значением символа бога, который характерен для первобытного искусства и искусства шизофреников. Подчеркну, что метаязыковые операции весьма характерны для первого часа после правостороннего шока, когда левое полушарие демонстрирует все свои возможности, относящиеся к языку, в том числе и к его метаязыковому употреблению, при котором язык, оборачиваясь на самое себя, служит средством для собственного исследования. Язык может использоваться для уяснения самим человеком себе не только языковой деятельности (в норме по отношению к родному языку бессознательной), но и для осознания других сторон поведения, без вербализации остающихся неосознанными.
Перейду сразу к формулировке предлагаемой гипотезы. Несколько авторов в разных странах, занимающихся функциональной асимметрией мозга, независимо друг от друга пришли к допущению, что бессознательное связано прежде всего с правым полушарием, в норме немым. В частности, многими обращено внимание на возможность участия именно правого полушария в формировании сновидений (в этом смысле лечение депрессии посредством депривации сна в фазе REM сходно с лечением депрессии правосторонним шоком). Позволю себе добавить к этому допущению еще одно: осознанное понимание сферы пола, характерное для взрослого, относится к доминантному по речи (левому) полушарию (и к управляемым им подкорковым областям). Пенфилду при стимуляции электродами определенных зон правого полушария во время операций на мозге удавалось вызывать различные бессознательные воспоминания, но они никогда не относились к сексуальной сфере. Правое полушарие – неречевое (в известных отношениях «доречевое») хранилище зрительных образов, но образов уже трансформированных или инфантильных и не содержащих в себе обычно их явной «взрослой» сексуальной интерпретации (даже в тех случаях, котла она весьма вероятна). Целесообразно исходить из противопоставления речевого полушария, к которому относятся и осознаваемые через слово области половой жизни взрослого, и полушария неречевого, которое по характеру своей сексуальности может быть инфантильным и отражать доречевой (неосознанный) период развития сексуальности. Период словесного обучения сексу (в норме весьма длительный) следует за периодом, когда ребенок обучается родному языку. Это представляется возможным показать на таких предельных случаях, как «волчьи» дети (типа Маугли), не только не владеющие языком, но и оказывающиеся «сексуально необученными» и потому неспособными к половой жизни, и как слепоглухонемые, которые при отсутствии особого общения долгое время (уже после совершеннолетия) остаются на весьма инфантильной стадии развития сексуальности. Вместе с тем в норме неречевое правое полушарие может быть источником образов, основанных на инфантильной и трансформированной (и сублимированной) сексуальности. Оно связано с образным творчеством и с любовью как творчеством и источником творчества (достаточно напомнить хотя бы круг образов, лежащих в основе вступительных строф к «Витязю в барсовой шкуре» и близких к ним представлений в других произведениях средневековой литературы). Правое полушарие отвечает за образность пушкинского «Я помню чудное мгновенье», но не за известный левополушарный авторский прозаический комментарий к биографическому эпизоду, отраженному в этом стихотворении. Личная драма Блока, как и соотношение между разными жанрами стихов (возвышенных, обращенных к Софии, и непристойных) Владимира Соловьева, подлинники которых, как и писем, продиктованных им самому себе от имени Софии, написаны разными почерками, возможно, разными руками, и это может объясняться тем же отличием образного (инфантильного или сублимированного надсексуального) содержания эмоций правого полушария и вербализуемой (в том числе в цинических или эротических высказываниях) половой активности левого полушария и контролируемых им подкорковых областей. Любовь и творчество в норме, как и бред (типа того случая комплекса вины, с которого я начал), в патологии могут быть соотнесены именно с правым полушарием, а осознаваемый разумом секс – с левым. Левое и правое полушария противопоставлены и как системы управления, с одной стороны, положительными эмоциями (вплоть до эйфории), с другой стороны, депрессией (чем объясняется возможность ее лечения депривацией сна или правосторонним шоком) и тенденцией к саморазрушению. В этом смысле значительную опасность может представить неконтролируемое следование друг за другом правых и двусторонних шоков, что можно подтвердить некоторыми примерами из американской клинической практики минувших десятилетий.
В гипотетической форме можно было бы предположить, что самоубийство (или близкие к этому формы поведения, например, провоцирующие дуэль у русских поэтов XIX в.) и фрейдовский «институт смерти», на роль которого должное внимание было обращено лишь в недавнее время, можно связать с правым полушарием (самоубийство – предельный случай, который с этой точки зрения можно описать как убийство правым полушарием левого). Тогда не только различение «Я» (соотносимого с левым полушарием), «Сверх-я» и «Оно» (соотносимо с правым полушарием), но и противопоставление Эроса (левополушарного) и Танатоса (правополушарного) у позднего Фрейда можно было бы истолковать (в духе его раннего опыта «Психологии для неврологов») с точки зрения функциональной асимметрии полушарий.
Для психоанализа характерна ориентированность на слово, доведенная до предела в школе Лакана, но заложенная уже во фрейдовском анализе оговорок и игры слов в каламбурных остротах. Если речевая деятельность левополушарна, то естественно, что при речевом осмыслении (вербализации) бессознательного на первый план и выдвигаются словесно осознанные сексуальные влечения как таковые. Но остаются нерешенными вопросы взаимодействия двух полушарий и тех нижних уровней организации мозга, которые с ними связаны. Вопрос первый: мы знаем, что субдоминантное (правое) полушарие пользуется зрительными жестовыми образами, во многом запечатленными (посредством импринтирования) еще с раннего детства (когда дифференциация функций полушарий только начинается). Остается выяснить поставленный еще в письмах Фрейда Флиссу вопрос о том, как рано могут датироваться первые словесные, еще не понимаемые до конца, впечатления. Каким образом ранние несловесные впечатления могут быть переведены на словесный язык? Возможно, что переводу способствует запись и первых услышанных слов и других рано воспринятых образов в каждом из полушарий еще до закрепления латерализации. Но и позднее подобный перевод с языка неречевых образов на естественный язык необходим и для психоаналитического сеанса. Напрашивается глубокая аналогия с гипнозом, при котором, по-видимому, осуществляется отключение левого полушария и более или менее изолированное функционирование правого (напоминающее левосторонний шок). Следует выяснить, не навязывается ли сексуальная интерпретация символики правого полушария при ее вебрализации левым, для которого характерна установка на осознанный секс.
Возникает аналогичный вопрос: как субдоминантное (правое) полушарие использует словесные символы, типичные для доминантного (левого)? Еще Джексон, открывший первым более 100 лет назад протипоставление функций двух полушарий, отмечал, что афатики сохраняют способность ругаться. Более того, снятие цензуры левого полушария, управляющего «официальными» нормами речевого поведения, способствует более свободному употреблению ругательств. Но нецензурируемая («неофициальная» в терминах М.М. Бахтина) речь правого полушария обычно не относится к сексуальной сфере как таковой. Правое полушарие использует соответствующие слова не в прямом, а в образном употреблении, соответствующем той карнавальной правополушарной образности «гротескного тела», которая по отношению к площадному языку толпы изучена тем же М.М. Бахтиным. В этом плане особый интерес представляет роль слова для осознания всего макрокосма через соответствия с человеческим телом у догонов. Употребление этих же слов только в прямом смысле характерно для некоторых особых форм сексуального поведения (например, у гомосексуалистов), где вероятно участие левополушарных механизмов (эротическая роль, в частности, как вид извращенности). Более нормальным (в фольклоре некоторых народов обязательным) является использование таких слов в двух смыслах, напоминающее описанный Фрейдом механизм каламбура.
Правое полушарие в норме (когда осуществляется цензура левого полушария) – бессловесно, и именно в этом лежат истоки его творческого потенциала. Крупнейший лингвист Роман Якобсон обратил внимание на особенности мышления Эйнштейна, которое опиралось не на слово, а на бессловесные образы, бесспорно правополушарные. Особый интерес представляет то, что уже в зрелом возрасте Эйнштейн хотел найти такие музыкальные и цветовые образы (явно относящиеся по самому своему характеру к сфере правого полушария), которые бы соответствовали его физическим и геометрическим идеям; по свидетельству Л.С. Термина, соответствующие работы в его студии в Нью-Йорке велись Эйнштейном вместе с Бьют, позднее получившей известность как кинорежиссер. Интересно обратить внимание и на особенности речевого развития (или точнее, раннего недоразвития) Эйнштейна. Еще в 9 лет Эйнштейн пользовался словами детского языка, позднее он испытывал затруднения при обучении чтению. Ретроспективно сам Эйнштейн видел в своем замедленном речевом развитии одну из причин, облегчивших открытие им основ теории относительности: он говорил, что понял по-новому пространство и время именно благодаря тому, что научился употреблять слова «Raum» и «Zeit» только в таком возрасте, когда другие молодые люди давно уже их говорят, как правило, не задумываясь об их значении, полученном в готовом виде при обучении языку. В качестве проблемы для психологической и биографической истории лингвистики XX в. следует отметить и вероятную связь раннего заболевания Н.С. Трубецкого, приведшего к афазии и аграфии с последующим депрессивным состоянием (указывающим на преобладание правого полушария), с геометрической ориентированностью позднее им предложенных классификационных типов фонологических систем (показательны и его продолжавшиеся занятия музыковедением).
Цензура левого полушария в некоторых случаях должна быть снята (заторможена) для усиления или хотя бы для обеспечения творческой образной деятельности. С этим связано четкое отрицательное отношение к психоанализу крупных художников слова. Всем известны часто повторяющиеся нападки Набокова на венскую школу. Стоило бы посвятить особый психоаналитический этюд выяснению причин этой враждебности автора «Лолиты» (фрейдисткое истолкование которой естественно напрашивается) к Фрейду. Позволю себе привести один пример из собственных воспоминаний. Как-то я спросил А.А. Ахматову, почему она так враждебна к психоанализу. На это она мне ответила, что если бы она прошла курс психоанализа, искусство для нее было бы невозможно. Я поддерживал ее мысль, сославшись на два письма Рильке, написанных 24 января 1912 г. В это время подруга Ницше, Рильке и Фрейда Лу Андреас-Заломе уговаривала поэта пройти курс психоанализа; он же ей ответил, что это было бы возможном только в случае, если бы он больше ничего не писал. Выслушав мой пересказ письма Рильке, Ахматова заметила: «Ну, вот видите, значит, я не ошиблась. Со мной это иногда бывает».
Конфликт между стереотипной психоаналитической терапией и поэтическим творчеством лежит в основе фабулы цикла повестей и рассказов Сэлинджера о поэте Симуре. Его герой, пройдя по настоянию своих свойственников-мещан курс психоанализа, кончает жизнь самоубийством. После того, как творческая образная функция правого полушария заторможена из-за включения психоаналитической вербализации, среди разных функций этого полушария побеждает депрессивная – деструктивная. В замысле Сэлинджера отчетливо противопоставлена психоаналитическая клиническая практика в ее вульгаризованном виде и поэтическое творчество, к представителям которых Сэлинджер склонен отнести Фрейда, но не его эпигонов. Любопытно, что в одном из писем к своей невесте сам Фрейд писал, что он надеется в науке достичь того, чего ему не удалось в поэтических опытах (сходно о себе говорил и Эйнштейн, считавший, что свое безграничное воображение он полностью мог использовать в физике, а не в искусстве). Отмеченное Эриком Эриксоном «зрительное любопытство» Фрейда, позволявшее основателю психоанализа проникнуть в сны и воспоминания своих пациентов еще до введения окончательных словесных формулировок, бесспорно говорит о наличии в интуиции самого Фрейда этой правополушарной составляющей (для ее исследования представляет интерес и самонаблюдение Фрейда в письме Флиссу о его «обеих левых руках»). Этой интуиции не хватало многим его последователям (разумеется, особняком стоит Юнг, много сделавший для глубинного понимания зрительных архетипов при всей спорности, а зачастую и фантастичности предложенных им словесных толкований). Наибольшие достижения Фрейда (в изучении сновидений и остроумия) связаны именно с проявлением этой его интуиции. Мне кажется, что художественная интуиция Фрейда сказывается и в таких его суждениях об искусстве, как приводимое в воспоминаниях Рейка замечание об излишнем увлечении Достоевского патологическими случаями.
Среди примеров, иллюстрирующих взаимодополнительность (в смысле Бора) психоаналитической вербализации и творческой образной переработки цензурируемых левым полушарием (как представителем социума в мозге) комплексов, приведу биографическую предысторию «Степного волка» Германа Гессе. Напомню последовательность основных фактов. Гессе, несколько лет страдавший тяжелейшей депрессией, сразу после окончания первой войны начал проходить курс психоанализа. Его жизненная ситуация все отягощалась, облегчение не наступало, невроз усиливался. В трагической и художественно выкристаллизовавшейся форме этот круг депрессивных переживаний выражен у Гессе в позднее опубликованном стихотворении «Степной волк». Но только художественная сублимация в замечательном одноименном романе принесла Гессе освобождение от страданий. Тогда и возникает тот просветленный взгляд на мир, который присущ позднему Гессе. Творчество оказалось завершением процесса лечения, начатого психоанализом. Отчетливое построение всего произведения как описания проведенных автором над самим собой опытов вербализации прошлого, частично сходных с психоаналитическими, лежит в основе книги Зощенко «Перед восходом солнца». По написании ее Зощенко в 1943 г. в моем присутствии говорил, что ему удалось избавиться от тоски, всю жизнь его мучавшей; он хотел с помощью книги сделать этот метод общедоступным.