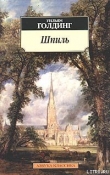Текст книги "Психология художественного творчества"
Автор книги: К Сельченок
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 47 страниц)
Конструктивистский принцип уравнивания тела с механизмом неожиданным образом перекликается не только с картезианством, но и с определенным типом психозов, которые начинают привлекать внимание психиатров и психоаналитиков в конце XIX – начале XX века. Психоанализ как будто открывает конструктивистского человека в параноике и шизофренике почти одновременно с теоретиками и практиками искусства.
В ранних «Исследованиях истерии» Фрейд и Брейер уже описывали этиологию истерии через метафору «чужого тела, которое долгое время спустя после проникновения (в живую ткань) все еще продолжает быть работающим агентом».
Механика истерии оказывается действительно сходной с механикой картезианского автомата, приводимого в действие извне, «чужим телом».
В 1911 году Фрейд обратился к анализу болезни Даниэля Пауля Шребера, параноика, считавшего, что Бог с помощью нервов-проводов-лучей лишает его воли и руководит его действиями. Провода-лучи машины-Бога превращают Шребера также в своего рода машину. «Влияющая машина» становится объектом рассмотрения ученика Фрейда Виктора Тауска, опубликовавшего в 1919 году свое исследование. Именно в это время Кулешов приступает к своим первым экспериментам. Тауск описывает случаи шизофрении, при которых пациенты считают, что на них влияет некая машина, лишающая их воли и самих их превращающая в механических кукол. Любопытно, что в эссе Тауска «влияющая машина» описывается как кинематограф:
«...Эта машина – обычно волшебный фонарь или кинематограф (...). Она производит или уничтожает мысли и чувства с помощью волн и лучей или таинственных сил, которые не могут быть объяснены на основании познаний пациента в физике. В подобных случаях машина часто называется „аппаратом внушения“. Ее конструкция не может быть объяснена, но ее функция состоит в том, чтобы передавать или „выкачивать“ мысли или чувства (...). Она производит моторные движения в теле».
Тела, подверженные воздействию «влияющей машины», сами становятся похожими на нее, симулякрами этой машины. Шизофреническая машина Тауска, воплощенная в кинематографе, действительно воздействует на тело. Лицо-машина и лицо-маска натурщиков Кулешова, работая как камера и экран, неожиданным образом воспроизводят работу кинематографа. Истеричка Шарко преображается в светочувствительную пластинку. Невротик, как и конструктивистский натурщик, оказываются в сфере воздействия «влияющей машины» кинематографа. Изобретение кино, изобретение истерии и психоанализа вырабатывают новый антропологический миф, который, обогатившись новыми эстетическими идеями, отражается в утопии механического «чудовища» Кулешова.
Ямпольский М. Демон и лабиринт. – М., 1996, стр. 253-276.
Часть 3. Секреты художества
Константин Сельченок
Художество нашей жизни
В объяснении причин и движущих сил, организующих наш собственный жизненный путь, мы привыкли ссылаться на так называемые «объективные условия». При этом мы словно нарочно забываем о своем собственном художничестве, о том, что все те психологические игры и жизненные сценарии, которые мы разыгрываем на подмостках сцены, именуемой жизнью, мы выписываем и формируем сами.
Да, все мы без исключения – художники. Наши действия зависят от наших собственных восприятий, от видения проблем и интуитивного усмотрения ресурсов, позволяющих нам, в соответствии с нашей собственной внутренней природой, формировать ткань собственного индивидуального существования.
Мало кто осознает, что этика по сути своей эстетична. Вспомним центральный смысл творчества Алистера Кроули: «Делай все то, что ты хочешь, т.е. то, что тебе нравится». Мы забываем о том, что слова «нравственность» и «нравиться» являются однокоренными.
Истинное счастье человеческое состоит в восприятии красоты и проистекающем из него созидании прекрасного. Юнгианские аналитики знают о том, что глубинным действующим началом нашей внутренней и внешней жизни являются динамически переплетающиеся архетипы, образы, персонажи. При этом каждый из нас в постановке жизненной пьесы одновременно является и драматургом, и режиссером, и критиком, и зрителем, и каждым из актеров одновременно.
Природа творит по законам красоты. Художник лишь в меру своих способностей стремится подражать творчеству природы. Художественное – вовсе не синоним искусственного, надуманного, неестественного. Истинно художественное – это всегда нечто живое, живущее и животворящее. И.П. Шмелев писал о том, что всякая красота неизменно является биологически активной. Биоактивными являются любые гармонические структуры, выстраивающиеся в строгом соответствии с математическими законами, основанными на все тех же принципах красоты.
Красота законна, математична и человечна одновременно. Сама красота определяет качество естественного жизнетворчества. Все мировые законы эстетичны. Без эликсира Прекрасного невозможна ни успешная психотерапия, ни эффективное преподавание, ни любая другая деятельность человека. В человеке встречаются три Царства, построенные по одним и тем же канонам математически выверенной гармонии. Человек находится в одновременной связи с гармонией небесных сфер, пропорциями биологических структур и гармонично устроенным внутренним психическим миром. И лишь когда наше физическое окружение – интерьеры, ландшафты и тексты деформируются и деградируют, мы неизбежно оказываемся заложниками безобразия и дисгармонии. Тогда-то человек заболевает и душою, и телом. В нем, призванном быть средоточием Космоса, Биоса и Психоса, выстроенных в согласии с канонами меры и пропорции, нарушается связи, удерживающие мир от губящих все живое диссонансов и несоответствий. В этом – одна из главных причин отчуждения человека от себе подобных, разрыва отношений с живым миром и расщепления себя как целого. Именно сегодняшнее главенствование безобразия, нечуткости и профанации – корень всего того, что нас так гнетет, что всем нам так не нравится.
Психологическая культура перво-наперво подразумевает продуманную и системную художественную воспитанность каждого из нас, ибо красота, воспринятая и осознанная, составляет единую основу жизни и духовности. Красота есть глубиннейшая ипостась самого бытия, корень сознания и фундамент всякого сотрудничества, вне которого немыслимо существование целого. Культурность в известном смысле синонимична художничествованию!
Во все времена искусство рассматривалось мудрецами как основа основ упорядочивания, охранения и организации общественной жизни. Музыкой исцеляли человека. Роскошными гобеленами оздоравливали психическую атмосферу сумрачных залов средневековых замков. Дивными ароматами пробуждали в душах возвышенные переживания. К примеру, в средневековом Китае весьма весомым критерием определения реального положения дел в той или иной провинции считалось состояние звучащей в ней музыки. Иной наместник мог поплатиться головой за то безобразие, которое императорские инспектора усматривали в музыке, звучащей в управляемой им провинции. В связи с кризисом современного искусства, с пресловутыми постмодернизмом и видеократией становится понятна та опасность, которой подвергается современная политическая жизнь, а возможно и здоровье самих людей.
Разрушение красоты неизбежно ведет к гибели всего живого. К сожалению, это вовсе не преувеличение. Нас губит именно властолюбие и жадность, лживость и лень, злоба и тупость, глупость и зависть – не безобразно ли все это? Можно до хрипоты спорить о том, что первично – некрасивое или безнравственное, но то, что предметы эти теснейшим образом взаимосвязаны, вряд ли кто-либо рискнет отрицать.
Все наши творения, отношения и дети – плод нашего собственного художничествования. Началом, охраняющим жизнь на планете, смело может быть названа присущая каждому из нас от рождения неутолимая жажда прекрасного. Красивое всегда и приятно и полезно. Психотерапевтам известен нехитрый прием, способствующий примирению невротика с самим собой, лежащий в основе его исцеления. Возьмите диктофон, поудобнее расположитесь в кресле и, не торопясь, ни на что не отвлекаясь, отправьте звуковое письмо себе самим. Говорите о чем угодно, ругайтесь, сетуйте, печальтесь и обвиняйте. Рано ли, поздно ли, но Вы непременно выговоритесь, выплеснетесь, освободитесь. И затем, в спокойной обстановке прослушивая запись собственного голоса, вы не сможете не заметить того, что по приближении к завершению этого звукового послания используемые Вами слова и выражения как бы сами собой будут становиться все более и более красивыми и приятными, а вибрации голоса мало-помалу обретут гармоничную благозвучность.
Каждому из нас на протяжении всей жизни предоставлена возможность в любую минуту приняться за украшение мира и приступить к оздоровлению самого себя. Красивое слово, прекрасная мысль, гармоничное действие – перед нами открыты мириады возможностей истинного художничества. Важно только при этом оставаться самим собой. Почему-то многие считают, что последнее непременно означает неконтролируемое буйство эмоций, вульгарность помыслов и хаотичность движений. Тот, кто так думает, попросту еще не знает себя, он просто не успел познакомиться с самим собой. Ибо индивидуальность каждого из нас в существе своем прекрасна и восхитительна. Лишь неверие в себя и боязнь свободы закрывает многим из нас путь к радужному творчеству собственной судьбы.
То тут, то там слышится: «Брось ты свои художества! Будь как все!» Но человек, по определению, не может быть таким как все, он может быть лишь в чем-то похож на кого-то. Человек, как целое, подобно гороскопу; сотканный из противоречивых и разнопорядковых элементов, он неизменно является неповторимой индивидуальностью. Важно только стараться об этом не забывать, иллюзорно принимая ту или иную свою часть за общую картину своего индивидуального микрокосмоса.
Истинный художник страдает, когда ему приходится писать «под заказ». Это безобразно в живописи и чудовищно в музыке, но в сто раз страшнее в художничестве собственной жизни. И без того роботности внутри нас более чем достаточно. Для того чтобы стать свободным и счастливым человеком, надлежит понять, что мы – вовсе не роботы, но смелые и чуткие художники. Такова единственная альтернатива всепоглощающей жестокости машинной цивилизации. Истинное творчество по определению интуитивно, ибо в художничестве своем человек черпает смыслы, формы и содержания, таящиеся в неведомых глубинах его собственной души. Художничеству нельзя научить, но ему можно позволить раскрыться и утвердиться предоставлением свободы и своевременной подачей доброго совета.
Вспоминается почти анекдотическая история, рассказанная мне одним из моих друзей художников. Обладая незаурядным талантом живописца, повинуясь глубинному нравственному наитию, после окончания средней школы он решил не тратить время на получение так называемого высшего образования, которое в большинстве случаев не столько раскрывает талант, сколько создает все условия для его успешного закапывания. Как-то пришел он устраиваться на работу в реставрационное бюро. Предъявив свои картины и получив полное их одобрение, он вдруг удивленно столкнулся с вопросом своего будущего работодателя: «А диплом о высшем образовании у вас есть?» Нисколько не смутившись, он с печальной улыбкой на устах ответствовал: «Вы так ничего и не поняли. Я – Художник!»
Итак, красота – основа всего жизнеспособного и плодотворного в человеке. Поиски красоты тождественны поискам смысла, ибо реальное всегда красиво. При этом дар восприятия Прекрасного по значимости и высоте ни в чем не уступает дару творческого авторства. Духовность может быть определена как неистребимая тяга к гармонии – гармонии, не сводящейся к пошловатой псевдокрасивости творений поп-культуры, но понимаемой глубоко и широко. Разрушение же красоты неизбежно приводит к гибели всего живого как в самом человеке, так и вокруг него.
У всех на устах слова Ф.М. Достоевского и Н.К. Рериха о красоте, как единственной спасительнице мира. Вне красоты немыслимо само существование человечества, ибо дисгармоничное может быть понимаемо как преступное в отношении законов природы, нарушение которых рано или поздно карается. Нет нужды понимать художничество лишь как создание живописных полотен или написание очередной прелюдии. Красота присутствует и в работе опытного кулинара, и в творчестве ответственного журналиста, и в заботливом уходе за смертельно больным человеком. К примеру, опытный психолог-консультант, признавая относительность личного мира каждого, прежде всего стремится разыскать красоту во всем том психическом материале, который в той или иной форме предъявляет ему пришедший за помощью человек. Лишь усмотрев и прочувствовав гармонию обозначенной проблемы, психолог способен обнажить скрытые причины происшедшего и терапевтически способствовать естественному расширению поля сознания своего собеседника.
Жизненно важным нам представляется умение повсюду усматривать прекрасное. Предпосылки для развития искусства такого взгляда на мир от рождения даны каждому. Разумеется, человека необходимо уважительно и заботливо пестовать, предоставляя ему возможность развития священного дара прекрасновидения. Однако и сам он, стремясь улучшить собственную жизнь и желая порадоваться окружающему существованию, должен развивать в себе этот дар. Сколь близки слова «украшение» и «воскрешение»! И пусть лучшей похвалой человеку отныне будут слова «ХУДОЖНИК!», «МАСТАК!», «МАСТЕР!».
Да, мы все художники собственной жизни, и смыслом воскрешения человечества является предоставленная каждому из нас возможность стать Художниками. Недаром, один из философов Беларуси определил будущее вида Homo sapiens – Homo pulcheris – Человек Прекрасный, и залог нашего будущего успеха в том, что мы всегда знаем, как стать красивее.
Л. С. Выготский
Искусство и жизнь
В каком отношении эстетическая реакция стоит ко всем остальным реакциям человека, как в свете этого понимания уясняется роль и значение искусства в общей системе поведения человека?
Мы знаем, что до сих пор на этот вопрос даются совершенно разные ответы и совершенно по-разному расценивается роль искусства, которая одними авторами сводится к величайшему достоинству, а другими – приравнивается к обыкновенной забаве и отдыху.
Совершенно понятно, что оценка искусства будет всякий раз стоять в прямой зависимости от того психологического понимания, с которым мы к искусству подойдем. И если мы хотим решить вопрос о том, в каком отношении находятся искусство и жизнь, если мы хотим поставить проблему искусства в плоскости прикладной психологии, – мы должны вооружиться каким-нибудь общетеоретическим взглядом, который позволил бы нам иметь твердую основу при решении этой задачи.
Первое и самое распространенное мнение, с которым здесь приходится столкнуться исследователю, это мнение о том, что искусство будто бы заражает нас какими-то чувствами и что оно основано на этом заражении. «Вот на этой-то способности людей заражаться чувствами других людей и основана деятельность искусства, – говорит Толстой. – ...Чувства, самые разнообразные, очень сильные и очень слабые, очень значительные и очень ничтожные, очень дурные и очень хорошие, если только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют предмет искусства».
Эта точка зрения сводит, таким образом, искусство к обыкновеннейшей эмоции и утверждает, что никакой существенной разницы между обыкновенным чувством и чувством, которое вызывает искусство, нет и что, следовательно, искусство есть простой резонатор, усилитель и передаточный аппарат для заражения чувством. Никакого специфического отличия у искусства нет, а потому оценка искусства и должна исходить в данном случае из того же самого критерия, из которого исходим мы, когда оцениваем всякое чувство. Искусство может быть дурно и хорошо, если оно заражает нас дурным или хорошим чувством; само по себе искусство как таковое не дурно и не хорошо, это только язык чувства, который приходится оценивать в зависимости от того, что на нем скажешь. Отсюда совершенно естественно Толстой делал вывод, что искусство подлежит оценке с общеморальной точки зрения, и расценивал как высокое и хорошее то искусство, которое вызывало его моральное одобрение, и возражал против того, которое заключало в себе предосудительные с его точки зрения поступки. Многие критики сделали такие же выводы из его теории и расценивали обычно произведение искусства с точки зрения того явного содержания, которое в нем заложено, и если это содержание вызывало их одобрение, они относились с похвалой к художнику, и наоборот. Какова этика, такова и эстетика – вот лозунг этой теории.
Ее глубочайшую неправильность обнаружил сам Толстой, когда попытался быть последовательным в своих собственных выводах. В виде иллюстрации своей теории он сопоставляет два художественных впечатления: одно – которое произвело на него пение большого хоровода баб, величавших вышедшую замуж его дочь, и другое – которое осталось у него от игры прекрасного музыканта, исполнившего сонату Бетховена, опус 101. В пении баб выражалось такое определенное чувство радости, бодрости и энергии, что оно невольно заразило самого Толстого, и он пошел к дому бодрый и веселый. С этой точки зрения песня баб для него настоящее искусство, которое передает определенное и сильное чувство, и так как второе впечатление решительно не содержало в себе такого явного выражения, то он готов признать, что соната Бетховена только неудачная попытка искусства, не содержащая никакого определенного чувства и потому ничем не замечательная. Уже на этом примере совершенно очевидно, до каких нелепых выводов должен дойти автор, когда он в основу понимания искусства положит критерий заразительности. С этой точки зрения Бетховен не содержит никакого определенного чувства, а пение баб элементарно и заразительно весело. Прав совершенно Евлахов, когда говорит, что если это так, «то самым „настоящим“, самым „истинным“ искусством нужно признать военную и бальную музыку, так как та и другая заражают еще более». И Толстой последователен: он действительно наряду с народными песнями признает в музыке лишь «марши и танцы разных композиторов» произведениями, «приближающимися к требованиям всемирного искусства». «Если бы Толстой сказал, что веселость баб привела его в хорошее настроение, то против этого положения ничего нельзя было бы возразить», – справедливо замечает рецензент его статьи В.Г. Вальтер. «Это значило бы, что с помощью языка чувств, выразившегося в пении баб (он мог бы выразиться и просто в орании, и, вероятно, так и было), Толстой заразился их веселостью. Но при чем тут искусство? Толстой не говорит, хорошо ли пели бабы, но неужели, если бы они не пели, а просто весело галдели, стуча в косы, неужели их веселость была бы меньше заразительна, в особенности в день свадьбы дочери».
Нам думается, что если мы сравним по заразительности обыкновенный крик ужаса и сильнейший роман или трагедию, то произведение искусства не выдержит этого сравнения, и очевидно, что надо привнести нечто еще иное к простой заразительности для того, чтобы понять, что такое искусство. Очевидно, искусство производит какое-то другое впечатление, и в этом смысле очень прав Лонгин, который говорит: «Нужно тебе знать, что другое дело изображение у оратора и другое у поэта, а также, что цель изображения в поэзии – трепет, в прозе же – выразительность». Вот этот трепет, который составляет цель поэзии, в отличие от выразительности, равной заразительности, в прозе, и не уловлен совершенно формулой Толстого. Однако, чтобы окончательно убедиться в том, что он неправ, нам следует обратиться к тому искусству, на которое он указывает, к искусству бальной и военной музыки, и посмотреть, является ли целью этого искусства действительно простая заразительность или нет. Петражицкий полагает, что эстетика ошибается, когда думает, что искусство имеет целью возбуждение только эстетических чувств. По его мнению, искусство вызывает целый ряд общих эмоций, а эстетические эмоции играют лишь декоративную роль. «Например, искусство воинственного периода народной жизни бывает приспособлено главным образом к возбуждению героическо-воинственных эмоциональных волнений и настроений. И теперь, например, военная музыка существует вовсе не для того, чтобы доставлять солдатам на войне эстетические удовольствия, а для того, чтобы возбуждать и потенцировать воинственные эмоции. Смысл средневекового искусства (не исключая скульптуры и архитектуры) заключался главным образом в возбуждении возвышенно-религиозных эмоций. Лирика приспособлена к одним, сатира к другим, драма и трагедия опять к иным сторонам нашей эмоциональной психики и проч. и проч...».
Не говоря о том, что военная музыка на самой войне во время боя никаких воинственных эмоций не вызывает, можно усомниться и в том, что вообще вопрос здесь поставлен правильно. Так, например, Овсянико-Куликовский гораздо более прав, когда полагает, что «военная лирика и музыка „подымает дух“ войска, „воодушевляет“ на подвиг, но ведь они не разрешаются боевой эмоцией или боевым аффектом. Они скорее умеряют и дисциплинируют боевой пыл, а кроме того, успокаивают взвинченную нервную систему и прогоняют страх. Приободрять психику, успокаивать взбудораженную душу и прогонять страх – это, можно сказать, одно из важнейших практических приложений „лирики“, вытекающих из ее психологической природы».
Ошибочно, таким образом, думать, что музыка непосредственно вызывает боевую эмоцию, она скорее категорически разрешает страх, смуту и нервное волнение, она как бы дает возможность проявиться боевой эмоции, но сама непосредственно ее не вызывает. Это особенно легко увидеть на эротической поэзии, единственный смысл которой, по Толстому, возбуждать в нас похоть чувств, между тем как тот, кто увидит истинную природу лирической эмоции, всегда поймет, что она действует совершенно обратным образом. «Нельзя сомневаться в том, что на все другие эмоции (и аффекты) лирическая эмоция действует смягчающим образом, а нередко и парализует их. Прежде всего так действует она на половое чувство с его эмоциями и аффектами. В эротической поэзии, если только она в самом деле лирична, гораздо меньше соблазна, чем в тех произведениях образного искусства, в которых вопрос любви и пресловутая половая проблема трактуются с целью морального воздействия на читателя». И если Овсянико-Куликовский полагает, что половое чувство, которое очень легко эмоционально возбуждается, вызывается всего сильнее образами и представлениями и что эти образы и представления обезвреживаются в лирике лирической эмоцией и что укрощением полового инстинкта и сбережением его человечество обязано лирике не меньше, если не больше, чем этике, – то он прав только наполовину. Он при этом недооценивает значения других видов искусства, которые он называет образными, и не замечает, что и там эмоции, вызываемые образами, парализуются эмоцией искусства, хотя бы она и не была лирична. Мы видим, таким образом, что теория Толстого не оправдывается даже там, где он видел ее наивысшую правоту, – в искусстве прикладном. Что касается большого искусства – искусства Бетховена и Шекспира, то сам Толстой указал на то, что эта теория там не приложима. И в самом деле, как безотрадно было бы дело искусства в жизни, если бы оно не имело другой задачи, кроме как заражать чувствами одного – многих людей. Его значение и роль были бы при этом чрезвычайно незначительны, потому что в конце концов никакого выхода за пределы единичного чувства, кроме его количественного расширения, мы не имели бы в искусстве. Чудо искусства тогда напоминало бы безотрадное евангельское чудо, когда пятью-шестью хлебами и двенадцатью рыбами была накормлена тысяча человек, и все ели и были сыты, и оставшихся костей набрано двенадцать коробов. Здесь чудо только в количестве – тысяча евших и насытившихся, но каждый ел только рыбу и хлеб, хлеб и рыбу. И не то ли же самое ел каждый из них каждый день в своем доме без всякого чуда?
Если бы стихотворение о грусти не имело никакой другой задачи, как заразить нас авторской грустью, это было бы очень грустно для искусства. Чудо искусства скорее напоминает другое евангельское чудо – претворение воды в вино, и настоящая природа искусства всегда несет в себе нечто претворяющее, преодолевающее обыкновенное чувство, и тот же самый страх, и та же самая боль, и то же волнение, когда они вызываются искусством, заключают в себе еще нечто сверх того, что в них содержится. И это нечто преодолевает эти чувства, просветляет их, претворяет их воду в вино, и таким образом осуществляется самое важное назначение искусства. Искусство относится к жизни, как вино к винограду, – сказал один из мыслителей, и он был совершенно прав, указывая этим на то, что искусство берет свой материал из жизни, но дает сверх этого материала нечто такое, что в свойствах самого материала еще не содержится.
Выходит, таким образом, что чувство первоначально индивидуально, а через произведение искусства оно становится общественным или обобщается. И здесь дело происходит так, будто ничего никогда от себя искусство в это чувство не привносит, и для нас становится совершенно непонятным факт, почему искусство следует рассматривать как акт творческий и чем оно отличается от простого выкрика или от речи оратора, и где же тот трепет, о котором говорил Лонгин, если за искусством признается одна заразительность? Мы должны признать, что ведь наука не просто заражает мыслями одного человека – все общество, техника не просто удлиняет руку человека, так же точно и искусство есть как бы удлиненное, «общественное чувство» или техника чувств. Глубоко прав был Плеханов, когда утверждал, что отношения между искусством и жизнью чрезвычайно сложны. Он приводит пример из Тэна, который останавливается на интересном вопросе, почему пейзаж развивался только в городе. Казалось бы, если искусство просто заражает нас теми чувствами, которые сообщает нам жизнь, пейзаж должен был умереть в городе, а между тем история говорит нам совсем обратное. Тэн говорит: «Мы правы, когда восхищаемся диким пейзажем, как они были правы, когда такой пейзаж нагонял на них скуку. Для людей XVII века не было ничего некрасивей настоящей горы, она вызывала в них множество неприятнейших представлений, они были утомлены варварством, как мы утомлены цивилизацией. Эти горы дают нам возможность отдохнуть от наших тротуаров, бюро и лавок, дикий пейзаж нравится нам только по этой причине».
Плеханов указывает на то, что искусство есть иногда не прямое выражение жизни, а антитеза к ней; дело, конечно, не просто в отдыхе, о котором говорит Тэн, но в некоторой антитезе, в том, что в искусстве изживается какая-то такая сторона нашей психики, которая не находит себе исхода в нашей обыденной жизни, и здесь уже, во всяком случае, никак не приходится говорить о простом заражении. Очевидно, действие искусства гораздо сложнее и многообразнее, и с каким бы определением мы ни подошли к искусству, мы всегда увидим, что оно заключает в себе нечто, что отличается от простой передачи чувства. Согласимся ли с Луначарским, что оно есть концентрация жизни, все равно мы должны будем увидеть, что искусство исходит из определенных жизненных чувств, но совершает некоторую переработку этих чувств, которую не учитывает теория Толстого. Мы видели уже, что эта переработка заключается в катарсисе, превращении этих чувств в противоположные, в разрешении их, и это как нельзя больше согласуется с тем принципом антитезы в искусстве, о котором говорит Плеханов, и мы легко убедимся в этом, если мы только остановимся на вопросе о биологическом значении искусства, если мы поймем, что оно есть не просто средство заражения, но и какое-то неизмеримо более важное средство для человека. Веселовский в «Трех главах из исторической поэтики» прямо указывает, что древнейшая песня и игра возникают из какой-то сложной потребности в катарсисе, хоровая песня за утомительной работой нормирует своим темпом очередное напряжение мускулов, с виду бесцельная игра отвечает бессознательному позыву упражнять и упорядочить мускульную или мозговую силу. Это – потребность для того же психофизического катарсиса, какой был формулирован Аристотелем для драмы, она сказывается и в виртуозном даре слез у женщин племени маори и в повальной слезливости XVIII века; явление то же – разница в выражении и в понимании. Ведь и в поэзии принцип ритма ощущается нами как художественный, и мы забываем его простейшие психофизические начала. И лучшим опровержением теории заразительности является вскрытие этих психофизических начал, лежащих в основе искусства, указание на его биологическое значение. Искусство, видимо, разрешает и перерабатывает какие-то в высшей степени сложные стремления организма, и лучшим подтверждением нашего взгляда мы считаем тот факт, что он вполне согласуется с исследованиями Бюхера о происхождении искусства и прекрасно позволяет понять истинную роль и назначение искусства. Как известно, Бюхер установил, что музыка и поэзия возникают из общего начала, из тяжелой физической работы и что они имели задачу катартически разрешить тяжелое напряжение труда. Вот как он формулирует общее содержание рабочих песен:
«1) следуя за ходом работы, они дают знак к одновременному напряжению всех сил;
2) они стараются подстрекнуть товарищей к работе насмешкой, бранью или ссылкой на мнение зрителей;
3) они дают выражение размышлению работающих – о самой работе, о ходе ее, об орудиях работы, – дают исход их радости или недовольству, жалобам на тягость работы и малое вознаграждение;
4) они обращаются с просьбой к самому предпринимателю работы, к надсмотрщику или простому зрителю».
Уже здесь оба элемента искусства и их разрешение находят свое место; единственная особенность этих песен в том, что то мучительное и трудное, что должно разрешить искусство, заключено в самом труде. Впоследствии, когда искусство отрывается от работы и начинает существовать как самостоятельная деятельность, оно вносит в самое произведение искусства тот элемент, который прежде составлял труд; то мучительное чувство, которое нуждается в разрешении, теперь начинает возбуждаться самим искусством, но природа его остается той же самой. Поэтому чрезвычайно интересно общее утверждение Бюхера: «Ведь народы древности считали песни необходимым аккомпанементом при всякой тяжелой работе». Мы уже видим из этого, что песня, во-первых, организовывала коллективный труд, во-вторых, давала исход мучительному напряжению. Мы увидим, что и на своих самых высших ступенях искусство, видимо отделившись от труда, потеряв с ним непосредственную связь, сохранило те же функции, поскольку оно еще должно систематизировать или организовывать общественное чувство и давать разрешение и исход мучительному напряжению. Квинтилиан выразил ту же самую мысль так: «И кажется, будто бы ее (музыку) сама природа дала нам для того, чтобы легче переносить труд. Например, и гребца побуждает песня, она полезна не только в тех делах, где усилия многих согласуются, но и усталость одного находит себе облегчение в грубой песне».