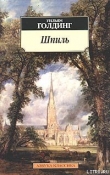Текст книги "Психология художественного творчества"
Автор книги: К Сельченок
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 47 страниц)
Почему же эта требовательность к специальным способностям возникла у актера с определенным опозданием?
Когда мы стоим около рояля и наблюдаем, именно наблюдаем, а не только слушаем игру пианиста или смотрим, как рука художника переносит на бумагу или холст видимую натуру, мы наглядно видим, что именно мы не умеем, чем не владеем. Значение этих умений для достижения художественных задач безусловно и доказательно. Педагог по фортепиано имеет возможность так сыграть этюд, так заразить своим исполнением ученика, что тот будет стремиться вложить максимальный труд в технику, дабы приблизиться к художественному совершенству.
Психотехника актера – это нечто менее очевидное, менее заметное внешне. Получив диплом и начав работать в театре, бывший студент попадает в атмосферу художественных впечатлений, и плохих и хороших, но его природное начало, его художественные задатки, та самая общая одаренность интенсивно развивается, формируя более высокие критерии творчества.
Возникает довольно своеобразная ситуация. С одной стороны, необходимо развивать творческое индивидуальное начало. С другой стороны, студенты не добирают в специальных умениях потому, что они недостаточно чувствуют их значение для будущей профессии.
Нова ли эта проблема? Отнюдь нет.
В своих воспоминаниях о Л.Ф. Макарьеве я писал: «Как устранить противоречия занятий на первом курсе? Как сделать так, чтобы рядом с ремеслом, технологией, упражнениями активно развивалась личностная сторона? Эта тема не сходила с повестки дня, когда в 1957 году вновь была организована Студия при Ленинградском ТЮЗе.
И у себя дома и в театре „теребил“ меня Леонид Федорович этим вопросом. Беспокойство это и раздумья породили идею заниматься на первом курсе... сонетами Шекспира.
Это было совершенно в духе Макарьева.
Это был такой исключительный повод, такой прекрасный материал, позволяющий поставить проблему нравственности, добра и зла, любви и ненависти.
Упражнения для ума и сердца.
Темперамент мысли, глубина и темперамент отношений.
Мне посчастливилось принимать участие в разработке этой идеи. Так родились сонет-исповедь, сонет-открытие, сонет-обвинение».
Надеюсь, что это будет воспринято как пример постановки вопроса, а не как призыв заниматься именно сонетами Шекспира.
«Специальные способности, – писал Б.Г. Ананьев, – связаны как генетически, так и структурно с одаренностью. Внутри тех или иных специальных способностей проявляется общая одаренность индивида, соотнесенная с более общими условиями ведущих форм человеческой деятельности».
Опыт практической педагогики неопровержимо свидетельствует, что если специальные способности не будут развиваться под тотальным воздействием интенсивно развивающихся общих способностей, они выродятся в безжизненную, обескровленную технику.
Мне представляется, что в наших учебных театральных заведениях произошел неправомерный сдвиг в сторону приоритета специальных способностей. Тому есть много причин. Одна из них в том, что развивать специальные способности проще, чем общие. Педагогу требуется для этого лишь определенная сумма знаний и собственных умений. Развитие же общих способностей требует того, что можно было бы назвать искусством педагогики, ибо они связаны с ощущением интуитивных процессов, с такими категориями, как вкус, мера, тонкость, глубина, ощущение формы, чувства целого, атмосферы и т.д. и т.п., т.е. того, что нельзя просчитать, а можно лишь уловить, почувствовать. Это есть, собственно говоря, искусство учить тому, чему нельзя научить. И чем выше воспитан в ученике порог этих ощущений, тем интенсивнее будет он стремиться к подкреплению их способностями специальными.
Могут ли теоретические кафедры быть в стороне от этих проблем?
Лекции по общеобразовательным дисциплинам также должны служить главной цели художественного учебного заведения – развитию творческого потенциала студентов. С этой позиции история театра, литературы, изобразительных искусств – это прежде всего история и процессы творческих поисков, художественных открытий и идей, история понимания и прочтения ролей классического и современного репертуара. Все это, разумеется, никак не отрицает необходимость объективных знаний, фактов, связи их с историческими событиями.
К сожалению, такую цель ставят перед собой лишь отдельные преподаватели. Традиционная передача готовых знаний «из головы в голову» по-прежнему доминирует.
В связи с изложенным представляется бесспорным, что развитие общей одаренности студентов – это именно та единственная и главенствующая задача, вокруг которой способны и обязаны объединиться кафедры всех факультетов.
Надо признать, что проблема эта в такой постановке никогда не подвергалась обсуждению. Надо ли это комментировать?..
Академик В.Г. Афанасьев так определяет понятие целостной системы: «Целостную систему можно определить как совокупность объектов, взаимодействие которых обусловливает наличие новых интегративных качеств, не свойственных образующим ее частям, компонентам. В этом прежде всего и заключается отличие целостной системы от простой суммативной системы, совокупности, конгломерата, смеси.
В целостной системе внутренние связи частей между собой являются преобладающими по отношению к движению этих частей и к внешнему воздействию на них».
С позиции этого определения приходящие к нам абитуриенты представляют собой пример той самой суммативной системы. Они демонстрируют определенные движенческие способности, отсутствие дефектов речи, определенное своеобразие внутреннего мира. Но энергия внутренней жизни не переходит в жизнь тела, а жизнь тела в энергию речи, и наоборот. Но «наличие новых интегративных качеств» не возникает. Не есть ли сплав специальных способностей и общей одаренности личности основа для создания целостной системы творческого организма актера и режиссера? И разве можно создать такой сплав, если не учить тому, чему нельзя научить?
Шведерский А.С. Можно ли учить тому, чему нельзя научить?
Диагностика и развитие художественной одаренности. Сборник. – СПб., 1992, стр. 67-75.
Михаил Ямпольский
Лицо-маска и лицо-машина
1
Удвоение обыкновенно работает как своеобразная машина. Диаграммы вырабатываются этой машиной там, где удвоение производит различие, где «оригинал» деформируется. Чтение деформации становится возможным только при наличии удвоения. Лишь двойник позволяет обнаружить диаграмму там, где дублирующая машина вписывает трансформацию в «оригинал».
Такая модель хорошо работает, когда за телом возникает тень «демона», когда производятся маски, когда снятая с тела кожа анаморфно дублирует тело, когда лицу приписывается чужой голос или различие вписывается в тело отсутствием или смертью. Однако удвоение является и неизбежной практикой любого актерства, даже если актер старается избегать лицедейства. Оставшиеся главы книги будут посвящены актерам, точнее, специальным актерским техникам деформации, с помощью которых осуществляется самоотчуждение от собственного лица или тела.
В этой главе речь пойдет о некоторых опытах Льва Кулешова, чье творчество представляет в контексте этой книги особый интерес. Кулешов рассматривал тело «натурщика» (кулешовское определение актера) как чисто динамическую поверхность, функционирование которой может быть сведено к ряду деформаций. Последовательно опираясь на смесь из систем Дельсарта и Далькроза, Кулешов разработал собственную сугубо формальную концепцию поведения натурщика, в идеале «механизированного», предельно точного существа. Этот человек-машина, процесс работы которого Кулешов откровенно называл «механическим процессом», должен ритмически сворачиваться и разворачиваться, напрягаться и расслабляться по заданию режиссера. Кулешов писал:
«Человеческое тело, как всякий живой организм, имеет стремление увеличивать свою площадь в некоторых случаях жизненного процесса, а в некоторых – уменьшать ее, то есть обладает способностью свертывания и развертывания. Общую линию свертывания и развертывания, хотя бы она происходила с нарушениями в движении, легко уследить и обратно построить. Человек может подниматься и опускаться по отношению к той поверхности, на которой он работает, он может занимать ударные и неударные положения, наконец его тело и весь процесс движения происходит в различных сменах разных напряжений. В нем может быть избыток сил и упадок их, которые по-разному отразятся на характере жеста. Наконец, натурщик должен знать психологическое и физиологическое значение движения и распределять гармонически длительности».
Иронический В. Туркин, процитировав этот абзац, заметил: «Это почти и вся „теория“ Льва Кулешова в части, касающейся мастерства кино-актера». Действительно, в текстах Кулешова мы почти ничего не найдем такого, что касалось бы каких-то иных выразительных возможностей человека, кроме заключенных в механизированном жесте свертывания или развертывания, стягивания к центру или растягивания, то есть чисто диаграмматической деформации поверхности, отражающей изменение приложенных к телу сил.
Такое «раздувающееся» и «сдувающееся» тело в принципе противостоит всякому психологическому чтению тех поверхностных событий, театром которых оно является. Натурщики Кулешова становятся похожими на Алису из сказки Льюиса Кэрролла, которая то растет, то сжимается, у которой неожиданно вытягивается шея и т.д. Жиль Делез, исследовавший поведение такого тела, заметил, что оно порывает с нормами традиционной причинности, увязывающими всякое изменение телесной поверхности с причиной, скрытой внутри. Делез заменяет эту традиционную причинность иной, когда поверхностные события сополагаются в серии и ряды. Каузальность в этих сериях не связывает поверхностное событие с невидимой внутренней причиной, но сцепляет события между собой в цепочки следствий без внутренних причин: «...Тем легче события, всегда являясь лишь следствиями, могут взаимодействовать друг с другом в функции квази-причин или вступать во всегда обратимые отношения квази-причинности...»
Между тем тело актера имеет по меньшей мере одну часть, которая не может сворачиваться и разворачиваться, занимать ударные и неударные положения и которая имеет фундаментальное значение в сфере выразительности, – это лицо. Лицо оказывается той частью тела, которая в наименьшей степени подвластна механизации, и в этом смысле на фоне «конструктивизма» Кулешова и его соратников оно предстает каким-то неподвластным системе архаическим элементом, явно архаическим наследием того «дурного прошлого», когда движения тела были безнадежно неорганизованными и неконтролируемыми.
Кулешов как бы переворачивал ход эволюции человеческого тела. Очевидно, что именно лицо с его выразительной мимикой является наиболее поздним эволюционным образованием. Оно отмечает дифференциацию чисто моторной динамики тела от «выразительных» движений, мимики, которым отводится специализированная область. «Выразительные» движения в основном концентрируются вокруг рта, то есть главного органа производства речи – еще одной экспрессивной системы. Возникновение мимической зоны вокруг речевого отверстия отмечает связь мимики с дыханием, с «пневмой», с «внутренним», с идущим изнутри. Лицо пожалуй, единственная часть тела, сопротивляющаяся делезовской редукции к чисто поверхностным событиям. Даже гротескные трансформации лица в карикатурах противостоят чисто «поверхностному» чтению, во всяком случае они могут пониматься как процедура подчеркнутой трансформации внутреннего в чисто внешнее, телесно поверхностное.
То, что эволюционно является новейшим образованием, для Кулешова – знак архаики. Новая кинематография, согласно Кулешову, должна строиться на «точности во времени», «точности в пространстве», «точности организации», это «кинематография, фиксирующая организованный человеческий и натурный материал». Никакой точной организации лицо не дает. Оно связано с мистицизмом психологизма, против которого Кулешов выступал часто и запальчиво и который связывал с русской психологической драмой, «ложной с начала и до конца – лгущей одновременно и кинематографии и жизни».
Как бы там ни было, при всей неудовлетворенности лицом избавиться от него все же не представляется возможным. Кулешов неохотно смиряется с его существованием, но указывает, что по своим возможностям оно не идет ни в какое сравнение с руками – идеальным аналогом неких механических рычагов. Закономерно режиссер видит в руках и ногах гораздо более эффективное средство выразительности, чем в лице:
«...Мы знаем, что руки выражают буквально все: происхождение, характер, здоровье, профессию, отношение человека к явлениям; ноги – почти то же самое.
Лицо, по существу, все выражает значительно скупее и бледнее, у него слишком узкий диапазон работы, слишком мало выражающих комбинаций».
Отсутствие «комбинаций» и «узкий диапазон работы» – это отрицание возможностей лица именно с точки зрения его механики – лоб или глаз не могут сворачиваться и разворачиваться в таком пространственно-динамическом диапазоне, как рука и нога. Микродвижения мимики с ее неисчерпаемым богатством, с точки зрения телесной механики, слишком незначительны, чтобы принимать их в расчет.
Тем не менее лицо занимает весьма значительное место в режиссерской практике Кулешова, начиная со знаменитых фильмов без пленки. Некоторые сцены в них строятся на навязчивом показе лиц натурщиков. Вот, например, фрагмент либретто фильма без пленки «Месть»:
«12. Лицо клерка.
13. Лица двух.
14. Лицо машинистки.
15. Раскрытый шкаф. Клерк у шкафа.
16. Лицо клерка.
17. Лицо машинистки.
18. Лица двух».
Эти характерные для Кулешова монтажные сюиты лиц, разумеется, противоречат декларативному недоверию к лицу как органу выразительности. Как же все-таки мыслит себе лицо в качестве такого органа Кулешов? Мне представляется, что кулешовские лица можно разделить на две категории. Первую можно обозначить как «лицо-маску», вторую – как «лицо-машину».
Начну со второй категории, как наиболее полно выражающей утопию кулешовской телесности. Лицо-машина – это такое лицо, которое вопреки своей анатомической норме ведет себя по законам механизированного тела натурщика. Это, по существу, лицо, превращенное в тело-машину. Это лицо, работающее по законам не свойственной ему телесности, воспроизводящее в своем «узком диапазоне» работу рук и ног. Каждая составляющая такого лица превращается в свободный механический орган. При этом свобода такого органа выражается в его полной автономии от других «органов» лицевой выразительности. Системность мимики нарушается таким лицом, и на месте традиционной экспрессивной системности возникает делезовская псевдопричинность, случайная связь чисто поверхностных телесных событий.
В книге Кулешова «Искусство кино» (1929) содержится характерное описание функционирования лица-машины:
«С большой осторожностью следует переходить на работу с лицом. Кинематограф не терпит подчеркнутой, грубой работы лица; театральная техника для экрана неприемлема, потому что радиус движений на сцене слишком велик. На экране самые незаметные изменения лица выходят слишком грубыми – зритель не поверит в такую игру. Лицо тренируется рядом упражнений обязательно с учетом метрического и ритмического времени работы. Лицо может изменяться от работы лба, бровей, глаз, носа, щек, губ, нижней челюсти. Лоб может быть нормален, приподнят, брови – то же самое, глаза нормальны, закрыты, полуоткрыты, раскрыты, широко раскрыты, повернуты вправо, влево, вверх, вниз. Нос может морщиться, щеки надуваться и втягиваться, губы и рот – сжаты, открыты, полуоткрыты, приподняты (смех), опущены; нижняя челюсть может быть энергично выставлена вперед, может сдвигаться вправо и влево. В общем, для работы лица и всех сочленений человека очень полезна система Дельсарта, но только как учет возможных изменений человеческого механизма, а не как способ игры».
Этот кусок любопытен тем, что он начинается со стандартной для киномысли того времени установки на табуирование грубых мимических движений на экране, а кончается надувающимися щеками и карикатурными энергичными движениями нижней челюсти вперед, вправо и влево. Удивительным образом сам Кулешов, вероятно, не относил эту гротескную механику к области грубого мимирования. К этой странности я еще вернусь.
Далее Кулешов предлагает читателю «примерный этюд» лицевых движений:
«1) Лицо нормальное, 2) глаза прищурены, идут вправо, 3) пауза, 4) лоб и брови нахмуриваются, 5) нижняя челюсть выдвигается вперед, 6) глаза резко передвигаются вправо, 7) нижняя челюсть влево, 8) пауза, 9) лицо нормально, но глаза остаются в предыдущем положении, 10) глаза широко открываются, одновременно полуоткрывается рот и т.д.».
В этой лицевой физкультуре очевидна ее совершенная психологическая немотивированность. Лицо расщеплено на совершенно автономные части, которые движутся по заданию режиссера как части некой машины, не имеющей никакого смыслового задания. Перед нами не более чем упражнение на динамику механических частей. То, что лицо-машина работает без всякого выразительного задания психологического типа, можно подтвердить и следующим фактом. Кулешов особое значение в механике лица уделял глазам. Это естественно, ведь глаза имеют гораздо большую механическую свободу движений, чем, например, нос или щеки. Глаза – самая механическая часть лица. Кулешов отмечал:
«Существует много специальных упражнений для глаз; например, им очень трудно без толчков, ровно передвигаться по горизонтальной линии вправо и влево; чтобы достигнуть плавного движения, надо на вытянутой руке держать карандаш, все время смотреть на него и водить им перед собой, параллельно полу. Такое упражнение быстро приучает глаз плавно работать, что на экране выходит гораздо лучше порывистых, рваных движений (если они, конечно, не нужны специально)».
Кулешов, по-видимому, придавал какое-то особое значение этой технике плавного движения глаз. В 1921 году он просит выделить ему небольшое количество пленки для регистрации теоретически наиболее важных для него экспериментов, среди которых: «Равномерное движение глаз натурщика».
Это упражнение демонстрирует несколько существенных моментов. Во-первых, идею превращения глаза в руку. Движение глаза должно регулироваться не задачей зрения, но движением руки, с которым оно синхронизируется. Тело (в виде руки) проникает в поле зрения как объект зрения, но одновременно и как его регулятор. В принципе моторика тесно связана со зрением. Каждая увиденная вещь в потенции может быть «присвоена», к ней можно приблизиться и взять рукой. В данном же случае рука как бы опережает зрение и ведет его за собой. Но эта перевернутость классической последовательности только усиливает возможную обратимость видимого и видящего, заданную связью между рукой и глазом.
Морис Мерло-Понти так сформулировал один из парадоксов, вытекающих из того, что человеческое тело одновременно и видит и видимо:
«Поскольку мое тело видимо и находится в движении, оно принадлежит к числу вещей, оказывается одной из них, обладает такой же внутренней связностью и, как и другие вещи, вплетено в мировую ткань. Однако, поскольку оно само видит и само движется, оно образует из других вещей сферу вокруг себя, так что они становятся его дополнением или продолжением».
Как будет видно из дальнейшего, само отношение между лицом и телом в системе Кулешова строится почти по схеме Мерло-Понти, когда тело становится как бы дополнением лица, а невидимое лицо превращается в продолжение тела. Речь идет об установлении зеркальной зыбкой реверсии между видящим и видимым.
Кроме того, насильственное безостановочное движение глаза нарушает тот режим субъективности, который исторически связан с системой линейной перспективы и неподвижным, фиксированным местом субъекта в ней. По наблюдению Юбера Дамиша, такая перспектива, хотя и принято идентифицировать ее с всевластным субъектом, отнюдь не выражает отношения господства над миром. Отношения господства, по мнению Дамиша, куда более отчетливо вписаны в панорамное движение глаза, охватывающее все пространство, в которое он помещен:
«В строго оптическом смысле слова перспектива не придает глазу никаких преимуществ властвования, но, напротив, навязывает ему такие условия, в которых он может обладать абсолютно четким зрением лишь в непосредственной близости от центрального луча, того единственного, который прямо, без всякого преломления, идет от глаза к объекту».
В кулешовском эксперименте парадоксально сочетается панорамное движение глаза с его фиксацией (на карандаше). В принципе, несмотря на безостановочное движение, а может быть, именно благодаря ему, глаз видит только карандаш, то есть только объект, непосредственно связанный с глазом. Боковое зрение здесь просто элиминировано.
Эти отношения создают еще большее напряжение между глазом и предметом, между видимым и видящим, ставя их буквально на край взаимотрансформации. Гипнотическая привязанность глаза к объекту в какой-то момент производит реверсию между субъектом и объектом, поражая субъекта слепотой. Превращение глаза в своего рода протез руки было призвано механизировать движение глаза, плавность смещения которого придает ему выраженный механический характер. Но именно эта плавность движения глаза и ослепляет его. Ведь та прерывистость, которую хочет изгнать Кулешов, задается «нормальной» работой глаза, останавливающегося в своих траекториях на некоторых точках, на объектах, с которыми этот глаз вступает в контакт (прерывистость движения как будто членит поле зрения на множество едва дифференцируемых друг от друга перспективных систем). В этом смысле работа глаза регулируется тем вещным миром, который он ощупывает. Механическая плавность движения делает глаз невидящим, не позволяет ему задержаться на предмете, объекте зрения. Глаз функционирует как машина, работающая по неким внутренним законам механики, никак не соотносимым с процессом зрения и внешним миром.
И наконец, еще один существенный момент, связанный с утопией плавно скользящего взгляда. Такой взгляд относится не к человеческой анатомии, а к сфере механического инструментального зрения. Глаз, движущийся плавно, без скачков, – это кинокамера, чье движение, хотя и имитирует движение глаз человека, строится как раз по принципу плавной механической траектории. Человеческий глаз у Кулешова уподобляется кинокамере.
Разумеется, в своем идеальном виде лицо-машина так и осталось теоретической утопией, но основные принципы этой утопии все же получили хотя бы частичное воплощение. Виктор Шкловский в своей статье о Хохловой цитирует впечатления немецкого театрального критика Пауля Шеффера, который в спектаклях кулешовской мастерской (фильмах без пленки) отмечает принцип «ритмизации мимического действия». Он же в игре Хохловой видит «великолепную игру глаз, неописуемую молниеносность взгляда». Молниеносность взгляда – это движение глазного яблока без прерывистости и задержек. Кулешов активно использовал этот навык Хохловой, в частности, в «Приключениях мистера Веста».
В том же фильме имеются целые эпизоды, в которых мимическая «работа» актеров строится по принципу лица-машины. Это, например, эпизод суда над мистером Вестом, где переодетые в гротескных большевиков бандиты пугают Веста невероятной механикой своих лиц, вращая глазами, выдвигая челюсти, бешено шевеля лбом и т.д. В этом эпизоде в серию машинообразных лиц включен странный, ничем не мотивированный кадр, демонстрирующий обнаженный торс мужчины, то надувающего, то втягивающего в себя живот. Эта фантастическая механика живота по существу ничем не отличается от механики лиц. Лицо и тело в этом эпизоде работают совершенно в одном режиме и могут заменять друг друга. Тело становится лицеобразным, лицо – теломорфным. То и другое – механическим.
Мимика такого лица вряд ли может быть названа «экспрессивной». Движения лицевых мышц здесь ничего не выражают, всякая связь с внутренней «причиной» здесь прервана. Если и искать причину, вызывающую такие странные лицевые конвульсии, то она, конечно, находится вне тела – как рука, ответственная за движение глаз. Или, вернее, где-то на переходе из внутреннего во внешнее – как та же рука, принадлежащая видящему телу, но от него «отделяющаяся», превращающаяся в «видимое». Импульс как бы приходит изнутри, но преобразившись во внешнее. Рука, заставляющая двигаться глаз вслед за собой, разумеется, побуждаема волевым импульсом изнутри, но странным образом отделяющимся от тела и возвращающимся к нему как бы со стороны, как рука «другого».
Это «овнешнение» внутреннего придает всей мимической системе отчетливо диаграмматический характер. То, что некогда было знаком внутренних импульсов, становится механическим продуктом лицевой машины, переводящей внутреннее во взаимодействие энергий и сил.
2
Теперь обратимся к другой модели, ко второму типа лица у Кулешова – «лицу-маске». В отличие от лица-машины, лицо-маска специально не описано Кулешовым, оно не стало предметом его теоретизирования. Интерес к маске возник в России еще в десятые годы одновременно с ростом интереса к рационализации телесной экспрессивности. Гордон Крэг, столь популярный в русских театральных кругах, так мотивировал в 1908 году необходимость маски:
«Выражение человеческого лица по большей части не имеет никакой ценности, и изучение искусства театра убеждает меня в том, что было бы лучше, если бы на лице исполнителя (при условии, что оно не скучное) появлялось вместо шестисот всевозможных выражений только шесть».
Применительно к кинематографу апология лица-маски характерна для многих теоретиков от Луи Деллюка до Белы Балаша. Деллюк, рекомендовавший актерам «создать себе гипсовое лицо», не колеблясь советовал использовать для этой цели кокаин:
«Порция кокаина создает маску и придает глазам странную неподвижность, которую в кино можно только приветствовать».
Между прочим, соотечественник Деллюка Анри Мишо много лет спустя отмечал, что кокаин трансформирует лицо в маску в восприятии зрителя, находящегося под воздействием наркотика. Лицо как бы становится «ясным», однозначным: «В лицах не остается ничего неясного. Они стали говорящими. Я открываю их». И это открытие лица означает трансформацию физиогномики в некую картину взаимодействия сил, потоков, напряжений. Мишо описывает проникновение за маску именно как обнаружение взаимодействия сил.
Маску в кино пропагандировал соратник Кулешова Валентин Туркин, который в своей книге о киноактере перечислял классический набор актеров, чье мастерство постоянно описывалось в категории маски: Чаплин, Аста Нильсен, Конрад Фейдт, Пауль Вегенер, Вернер Краусс.
Кулешов посвятил специальную статью Конраду Фейдту, технику которого он традиционно сравнивал с техникой Асты Нильсен. Он утверждал, что лицо Фейдта «сконструировано по всем правилам кинематографической выразительности»: «кривая улыбка, черные зубы, огромный лоб с дрожащими жилами нервного человека, исключительные для съемки глаза: светлые, стеклянные, почти белые».
Если для лица-машины чрезвычайно существенно механически плавное движение глаз, то для лица-маски – их неподвижность, белесость, стекловидность – то есть все то же отсутствие зрения, слепота. Стекловидная белесость глаз входила в определенный репертуар черт, считавшихся фотогеничными. Евгений Петров так объяснял это явление в книге, которую Николай Фореггер назвал «первой попыткой конспекта элементарной кинограмоты» в области актерской игры:
«Наиболее фотогеничным будет такой предмет, который отражает от себя сравнительно большее количество ультрафиолетовых лучей, по цвету – является контрастом с окружающим его фоном, поверхность которого будет (сравнительно) плотной, ибо лучше выходит предмет с плотной полированной поверхностью, чем шероховатой (лучше отражает лучи). (...) Наиболее фотогеничным цветом глаз считается черный, но в некоторых случаях он не достигает желаемого результата, и светлые глаза производят больший эффект. Поэтому надо считать, что цвет глаз нужно подбирать согласно с характером исполняемых ролей.
Главное в глазах не цвет, а их блеск, выражение».
Петров приводит суждение, вплоть до сегодняшнего дня господствующее в фотографическом портретировании. Экспрессивность взгляду придается бликом, то есть максимально интенсивным отражением лучей от «полированной поверхности». Значение бликов было хорошо известно и до изобретения фотографии. Китайский теоретик портретирования начала XIX века Дин Гао так суммировал существо процедуры «оживления» портрета:
«В середине наметь зрачки, тут нужно удержать блики: смотри: наверху, посредине, внизу, по бокам, сталкиваются пять бликов, улови их все и собери, чтобы создать насыщенное и пышное выражение».
А вот как формулирует Дин Гао существо «глаз человека талантливого»:
«Когда эти глаза смотрят на тебя, они сияют пышным блеском; их блики должны быть тонки и удлиненны. Передал верно – они сами собой будут в живом движении».
Значение бликов, обозначающих интенсивное отражение лучей от поверхности глаза, связано с тем, что глаза являются знаками субъективности, а потому основным фактором, превращающим лицо в лицо человека. Только они обращены из тела человека вовне и прорывают кожно-телесный покров как внешнюю границу организма. Лучи, отражающиеся от их поверхности, физически зримо обозначают движение взгляда изнутри вовне. При этом показательно, что эта «устремленность» зависит от лучей, падающих на поверхность глаза извне. Именно чисто внешний фактор ответственен за «эффект субъективности». Блики на глазах превращают их в очаг «метаболизма» между телом и миром. Отсюда и отмеченный Дин Гао эффект «движения» глаз, оживленных бликом. Закрытие глаз метафорически обозначает превращение лица в «вещь».
Белая стекловидность глаз Фейдта делает их совершенно особыми отражателями лучей. Они отражают максимальное количество падающих на них лучей, но отсутствие темного фона роговиц нарушает «нормальный» баланс между поглощением и отражением света. В итоге возникает эффект как бы блокировки взгляда, идущего изнутри (из глубины, из темноты), взгляд оказывается целиком внешним событием. Он как бы полностью формируется извне (эта игра отражения и поглощения отчасти и в иной форме напоминает игру поглощения и извлечения голоса в технике дубляжа). Глаза Фейдта как бы лишь имитируют взгляд, испускаемый вовне. В итоге лицо Фейдта превращается в маску, в лицо-вещь.
В одном из важных ранних теоретических текстов Кулешов специально останавливается на связях натурщика с вещью: