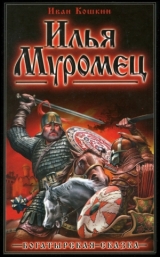
Текст книги "Илья Муромец."
Автор книги: Иван Кошкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
– Дурь говоришь, – перекрестился Сбыслав. Какая ворожба? Тут и дитя малое догадалось бы, что у тебя на уме. – Муравей дополз до сучка и, вместо того чтобы обойти, поволок зернышко в гору. – А не отстоим, потому что у него семь тем войска, а у нас и двух не наберется.
– Ну а за стенами если? Не отсидимся?
– Ты наши стены видел? – вздохнул Якунич. – Вокруг посада – вал в сажень да тын такой же. В детинец все и не уместятся, а уместятся – на то у Калина пороки есть.
– Ясно. – Улеб тоже заинтересовался муравьем, что раз за разом пытался перелезть через сук, падал и начинал сызнова. – Ишь, мураш – а упорный... А чего остался тогда?
– А куда мне идти? – Сбыслав осторожно подставил муравьишке палец и перенес его через неодолимое препятствие. – Я ж говорю, своей вотчины нет, да и отец из Киева никуда не пойдет. Мать мы здесь схоронили... Да и не думаю я об этом, я служу Владимиру, он не идет – ну и я не иду. Он меня золотом дарил, я его дружинник, а дружиннику господина бросать не пристало.
– Ага.
Улеб, похоже, что-то решил для себя про Сбыслава, причем по ухмылке видать – решил хорошее.
– Ну а ты чего своих в город привел, а, Лют? – спросил в свою очередь Якунич. – Женок-то отправил куда-то?
– В Белгород – у меня почти все оттуда, – ответил Улеб. – По родным да по добрым людям – хлеб им купить есть на что, перезимуют, если что.
Оба снова замолчали, каждый знал: падет Киев – у Калина и до Белгорода руки дойдут.
В воротах возник затор, дворовые Владимира хотели въехать на пустом возе, как раз когда порубежники выгоняли навстречу другой, нагруженный рожью. Возы сцепились оглоблями, кони ржали и бились, возничие орали друг на друга, пока рассвирепевший Гордей не подошел и не столкнул легонько обоих головами. После этого разъехались быстро, отроки почесывали синеющие лбы и поругивались через плечо, пока воз с зерном не отъехал от двора.
– А ведь мирились с ними... – сказал вдруг Улеб каким-то новым голосом. – Ряд подписывали. Сам Илья Иванович с ханами говорить выезжал... Вот и помирились на свою голову.
– А чего делать-то было? – лениво спросил дружинник.
– Что-что, – протянул порубежник. – Пока силы были – вырезать бы их, аки обров. Всех под корень.
– Как вырезать? – повернулся к воеводе Сбыслав.
– Ну ты, Сбышко, как дите малое, – незло рассмеялся Улеб. – В ордах каждый сам за себя стоит, соседям на помощь если и придут, то друг за дружку крепко не стоят, это на добычу они совокупно ходят. Вот пока они порознь – наваливаться всем войском на одну: мы, вы, Илья Иванович с Заставой... Прижимать к Днепру, а уж варяги свое дело знают. Потом на другую. И пленных не брать, женок да девок продать тем же ромеям, или еще куда. Не торгуясь продать, а то и тоже вырубить, и щенков – за отцами.
– А не зря тебя Лют прозвали...
Якунич не знал, что ответить. Порубежный воевода ему полюбился – он был смел, умен и думал похоже. Тем страннее и страшнее было слышать такое от славного молодца – вырезать всех, с бабами и детьми. Дружинник знал, что в прежние времена, бывало, рубили и сдающихся, особенно в усобицах. Да и отец, выпив меда, иногда говорил такое, что маленький Сбыслав задумывался – а есть ли крест на старом Якуне. Но даже отец, рассказывая о том, как в прежние времена варяги забавлялись во взятых городах, подбрасывая младенцев и ловя их на копье, качал головой и вздыхал, что дурной был обычай, правильно его запрещали удачливые хёдвинги [59]59
Хёдвинг – вождь.
[Закрыть]. Теперь же свой, русский вой, крещеный (другому в войске трудно), сокрушался, что не вырубили целый народ с бабами и детьми.
– Лют, говоришь? – Улеб, казалось, не обиделся совсем. – А ты видел, боярин, как полон гонят?
– Я...
– Шеи между двух жердей привяжут, – глядя перед собой, начал рассказывать порубежник. – Да руки к тем же жердям прикрутят. Если идти больше не можешь – голову тебе долой, руки тоже, остальных дальше погоняют.
– Да знаю я, – сердито сказал Сбыслав.
– Знаешь? – невозмутимо переспросил Улеб. – А каково по такому следу погоней идти, ты знаешь? Там отрок зарубленный, тут жинка, дальше мужик... И так из года в год. Илья Иванович тогда Самсона Жидовина и Михайлу Казарина наказал, казной откупался, а я все в толк взять не мог – за что? Печенегов погромили? У тебя отец на своем дворе, а моего волки похоронили. Двух братьев в могилу вогнали. Год назад мы в степи были, когда поганые изгоном к Девице подкрались, бабы на заборола взошли отбиваться. Светлана моя дите ждала – и нет ни дитя, ни Светланы. Да их всех под нож надо.
Улеб говорил спокойно, словно и не о страшных вещах, сказывалась старинная привычка к чужому зверству. Он не ждал другого от степняков, а постепенно сам превращался в лютого зверя. Сбыслав молча встал, заложил руки за наборный воинский пояс, поглядел вокруг, сразу и не зная, что ответить. Да, он не понимал, каково это – из года в год, из века в век жить в страхе перед Степью. Он был рус [60]60
То есть скандинав или потомок скандинавов. В описываемое время принадлежность к русам, Руси, уже не дает каких-либо привилегий и служит только для обозначения происхождения человека. По мере перемешивания скандинавов и славян теряет первоначальное значение, и русичами, русскими людьми называют всех жителей Древнерусского государства, хотя иногда летописец может специально отметить в своем рассказе определенное племя.
[Закрыть], его дед, Якунов отец, и прадед сами творили набеги не хуже печенегов, наводя ужас на земли франков, ромеев, сарацин. Улеб же родился славянином. Для Люта обры были не просто страшной сказкой, но частью судьбы его племени, а после – хазары, а за хазарами – печенеги. И все же воевода ошибался.
– Ну, Улеб Лют... – начал было Якунич и снова замолчал, не находя нужных слов.
– Да ты сядь, сядь, Сбыслав, – улыбнулся порубежник. – Говорят же – в ногах правды нет.
Сбыслав молча сел обратно, глядя прямо перед собой. Улеб развалился на бревне, смотрел в киевское небо, и в глазах его ничего, кроме этой синевы, не было. Наконец Якунич собрался с мыслями.
– Ты мне люб, воевода, – спокойно, как и Улеб, начал дружинник. – Жаль – время сейчас не то, в гости бы позвал. И то верно, мне тебя не понять, только ты вот что послушай. Были обры на этой земле, баб в телеги запрягали, так вы рассказываете? Потом мор был, а после мора вы обров вырезали, под корень, с бабами и детьми, так что и следа не осталось. Я правильно говорю?
– Ну, вырезали, а что, не надо было? – зло спросил порубежник.
– Ты не ершись, послушай. Обров вырезали – пришли хазары, вы им сколько дань платили? Русы хазар побили, а Святослав и царство их пылью пустил. Ну, может быть, баб и детей не вырезал под корень. И что? Печенеги пришли, Киев обложили, едва Претич их отогнал, от печенегов и сам князь смерть принял...
Улеб уже понял, к чему клонит рус.
– Ну и что теперь, дань им головами платить? – угрюмо спросил он.
– Зачем головами? Как пять лет тому назад последний раз прибили хорошо, присмирели они. А два года назад...
Сбыслав замялся, то, что он знал, в общем, было тайной, которую и ему самому-то знать не положено, но Якунич не хотел оставлять воеводу в такой злобе и отчаянии, бог весть почему, но дружинник решил показать Улебу, что не зря были все те кровь, пот и слезы, что проливались на Рубеже.
– Два года назад Обломай гонцов к Владимиру засылал. Выспрашивал – не даст ли тот им землю в Поросье, им бы пахать начинать да городки строить. Просил кого-нибудь из сыновей Владимировых им князем, обещал внучку выдать, а он бы с сыновьями ему поклонился...
Сбыслав посмотрел мимо Улеба и продолжил:
– А за то он и сыновья его Владимиру служить станут, да будут на Рубеже стоять крепко, он бы их на службу брал и своей силой защищал. Вот так. То ли чуял старик, что Калин появится, то ли их с восхода уже кто-то жать начинает, как они хазар в свое время. Да ты их сам, кажется, видел, новых этих, в броне, кони поздоровей.
– И личины стальные у князей, – задумчиво добавил Улеб. – Да только не пойму я что-то, князь хотел, чтобы нам заодно с погаными за Русскую землю стоять?
– Давно ли сами погаными были? – усмехнулся Сбыслав. – Или Михайло Казарин – не русский богатырь?
Оба помолчали, наконец Улеб сказал:
– Ну ладно, а с Калином-то нам что делать? – в голосе воеводы уже не было прежней ненависти.
– А вот с Калином нам, считай, не повезло, – вздохнул Якунич.
Оба поглядели друг на друга и невесело рассмеялись.
– Стало быть, неудачливые мы, – сказал Улеб уже как-то помягче. – Еще бы год – и стоять мне на Рубеже вместе с печенегами, даже не знаю, откуда скорее стрелы ждать – в лицо или в спину.
В ворота втянулась вереница пустых возов, едва уместившись на широком, утоптанном дворе. По всему выходило, что пока не вывезли и трети хлеба, и работы впереди – как бы не до вечера, а у княжеского воеводы и без того дел по горло.
– Лют, а что твой Гордей – надежный муж?
– Надежней не бывает, – ответил Улеб. – Хотя и упрямый, что кабан. А тебе зачем?
– Да понимаешь, хорошо, конечно, на бревнышке сидеть, с добрым мужем поговорить, – Сбыслав с хрустом потянулся, – да только мне еще дел не переделать, да и тебе, думаю, лучше с воями быть. Так что оставим-ка мы его здесь за старшего, пусть присмотрит, чтобы дворовые не начали и чего другое выносить.
Про то, что выносить могут начать и порубежники, Сбыслав говорить не стал – нечего обижать горячего воеводу.
– Да беды большой бы не было, – криво усмехнулся Улеб.
– Беды бы не было – была бы славе твоей и моей поруха, – спокойно ответил дружинник.
– И то верно, – кивнул славянин. – Мне, кроме славы, больше ничего и не осталось.
– Вот и добре, – Сбыслав решительно встал. – Давай не тяни, нам еще к Владимиру на двор за твоей вирой ехать.
Порубежный воевода подозвал Гордея, коротко объяснил, что делать и чего не допустить. Гордей был крепкий, широкий в кости муж, переваливший уже на пятый десяток, маленькими злыми глазами и поросшей волосом короткой толстой шеей он и впрямь походил на кабана. Вой выслушал, кивнул и вернулся к амбару, Улеб усмехнулся.
– Гордей – муж обстоятельный, ему доброе имя дорого. Поехали, Сбыслав.
Проезжая по улице, витязи встретили давешнего попа – огромный бородатый муж шел обратно все с той же рогатиной на плече. Где-то отче достал простой шелом с наносьем и тяжелую дощатую броню, которая, правда, едва прикрывала обширное чрево. Ремни, которыми доспех застегивался на боку, чуть сошлись на последнюю дырочку. Благочестивый Улеб снова снял шлем и склонил голову, Сбыслав едва успел за ним, пока священник размашисто крестил обоих. Надев шелом, дружинник не удержался:
– Что, отче, тоже оборужились?
– Так время-то какое, – священник вздохнул так, что сонная лошадка Улеба встрепенулась. – Ужо поганые под Киевом, а нас в приходе все равно двое, по очереди служим. Отец Георгиос – он старенький совсем, так я его просил благословить... Грех, конечно, великий...
Священник снова вздохнул, коняка Улеба всхрапнула и переступила ногами.
– А в чем грех-то, отче? – жестко спросил порубежник.
– А в том, что кровь человеческую проливать готовлюсь, – объяснил поп. – Хоть поганые – а все люди.
Улеб вежливо промолчал, но по скуластому лицу его было видно, что воевода тут особого греха не видит. Впрочем, поп, похоже, тоже говорил лишь для порядка. Славянин, обученный ромеями, он лишь умом понимал, что сан не велит выходить в поле оружно. Сердцем же отче уже решился.
– Ну, митрополит и сказал: «Каждый сам решает, а молиться я буду за всех», – отче степенно кивнул, радуясь, что в Киеве такой хороший митрополит. – Я и решил.
– Да ты, отче, небось и раньше на коне веселился? – Улеб откровенно скалился.
– Не на коне, – поправил его поп. – Ходил я из Новагорода на ладьях по разным делам, и княжьим, и ушкуйным, а потом вот крест навесили. А кони меня не держат.
– Ну, добро, отче, – Сбыслав тронул коня носком сапога. – Рады бы поговорить – да времени нет.
– Езжайте с Богом, – кивнул поп и снова перекрестил воинов. – Вас как зовут-то, удалы добры молодцы?
– Я – Сбыслав Якунич, старшей дружины воевода, – поклонился дружинник, – а во крещении Александр.
– Я Улеб, сын Радослава, воевода порубежной крепостцы Девица, – ответил пограничник.
– А я – отец Кирилл, – кивнул поп. – Хотя, наверное, теперь, пока не покаюсь, просто Кирилл буду [61]61
Священник, вынужденный по той или иной причине пролить кровь, лишается права служить до тех пор, пока его случай не будет расследован, после чего он может быть восстановлен в служении после покаяния.
[Закрыть]. Ну, езжайте, Бог даст – свидимся.
Воины кивнули, снова утвердили на буйных головах шеломы и пустили коней рысью.
– Хороший поп, – заметил с улыбкой Улеб.
– Ну, не знаю, – покачал головой Сбыслав. – По мне, поп должен благостным, ну... таким...
– А по мне – в самый раз, – пожал плечами порубежник. – Ужо он своей рогатиной помашет вволю.
– А ведь если его кони не держат, как он драться-то будет? – подумал вслух Якунич. – Наши-то полки все конно выступают.
– Да уж как-нибудь подерется, – усмехнулся Улеб.
На княжьем дворе Сбыслав сразу пошел к ключнику, больше всего молодой дружинник опасался, что Владимир не повелел отдать виру – запамятовал или не успел. Тогда придется идти князя искать, все же серебра почти два пуда – целое богатство. Но Красно Солнышко уже обо всем позаботился: ключник со вздохом, словно свое отрывал, отдал Якуничу четыре связанных попарно тяжелых мешка. Каждый мешок был затянут веревкой со свинцовой биркой, на бирке – печать Владимира.
– Все, без обмана, – проворчал старик, когда Сбыслав начал сличать бирки.
– Ну, добро, – кивнул дружинник и, крякнув, вскинул серебро на плечо.
– Эй, Сбыслав, – окликнул в спину ключник.
– Чего тебе? – обернулся молодой воин.
– Ты меня-то куда писать будешь?
– Тебя?
Воевода усмехнулся, собираясь уже сказать старому, чтобы сидел на печи, и вдруг осекся. Он вспомнил, кем был старый Ревята, прежде чем княжьей волей навесил на пояс ключи от Владимировых погребов и казны. После того как по доносу богатырей Владимир посадил прежнего ключника на кол, князь назначил ключником самого старого и упрямого из старшей дружины. Ревята жаловался, что хотел уйти на покой, доживать свое в сельце под Черниговом, но Красно Солнышко велел ему не упрямиться и принимать казну. Князь не ошибся – Ревята был не слишком сметлив, да и считал медленно, но раз перечтенное помнил накрепко, ум имел не быстрый, но прямой и ясный, а по старости лет был, естественно, честным. Сыновья старого воина давно уже правили службу сами, ища себе чести, дочерей он замуж раздал, а себе воровать было уже и незачем. Не далек уж был срок, когда ему дружинным варяжским обычаем закопать свой горшок с серебром да и преставиться вскоре после этого. Но огромные старые руки, широкие, хоть и сутулые плечи выдавали бывалого воя, и глаза из-под нависших бровей смотрели по-прежнему ярко. Сбыслав остановился на ступеньках, думая, куда бы и впрямь определить старого волка, затем мотнул головой – сейчас не до того.
– А ты, Ревята Гостеславич, человек ныне княжий, только князю ответ держишь. По всему выходит, тебе рядом с князем и стоять, в боярском полю,. Набольшему с набольшими, кто родом и честью выше.
– Добро, добро, – усмехнулся польщенный старик, разглаживая широкую белую бороду. – Ты, Сбыслав, смышленый молодец, не только мечом умеешь махать, но и за красным словом в кошель не лезешь. Далеко пойдешь, Якунов сын!
Воевода вежественно поклонился и вышел из погреба на белый свет, не зная – то ли польстил ему старик, то ли ловко и ехидно, по-стариковски, уколол: мол, не ратной славы, а высоких мест ищешь. На дворе Улеб о чем-то разговаривал с тремя младшими дружинниками, воевода вытащил из тула одну из сулиц и, похоже, показывал, как управляются с этим копьецом на Рубеже. Отослав молодцев, Сбыслав стряхнул мешки с плеча и протянул порубежнику:
– Твоя вира, воевода.
Улеб взвесил мешки на руке и, легко подняв, перекинул через седло, маленькая лошадка и ухом не повела. Улеб вскочил в седло:
– Ну, Сбыслав, до встречи.
– Погоди, – сказал воевода. – Что, так один и поедешь? С тобой мало не триста гривен, а в Киеве народ разный...
– Да и я как бы не простой мужик, – заметил Улеб.
– То в степи, – вздохнул Якунич. – Многие сегодня слышали, какую виру тебе Владимир назначил, вот уронят бревно с крыши – будешь знать. Давай с тобой отроков отправлю?
– Да нет, спасибо, – осклабился Лют. – Ты меня совсем за дурака не держи. Мои вои меня на Спуске ждут, Дверяга-старший. Так что не беспокойся.
– Ну, добро, – улыбнулся Сбыслав. – Доброй дороги, воевода, даст Бог – успеем свидеться.
Он протянул порубежнику руку. Улеб крепко пожал мозолистую дружинную ладонь:
– Даст Бог – свидимся, воевода. Где нам стоять – не решил еще?
– Большой полк князь мне даст, киевлян, – ответил Сбыслав. – Вам, по всему, правой рукой идти.
– Правой так правой.
Улеб повернул коня и порысил со двора, Сбывав проводил его взглядом, затем пошел посмотреть, как отроки уладили его коня. До конюшни молодой воин дойти не успел: с крыльца чуть не кубарем ссыпался кто-то из детских и с ходу выпалил что воеводу требует к себе князь. Владимир ждать не любил, и Сбыслав быстро, но без суеты поднялся в княжьи покои. Терем, в котором обычно было людно, сейчас казался до странности тихим – не шмыгали по стенам служанки, не выступали степенно ко князю бояре. Слуги, детские, мечники – все уже давно вооружились и стояли каждый по назначенному ему месту. Дверь в княжьи покои была приотворена, но Сбыслав все равно осторожно постучался.
– Входи, входи, чего мнешься, – голос князя был донельзя усталый.
Сбыслав шагнул внутрь и, перекрестившись на образа, подошел к столу, за которым сидел Владимир. Перед князем лежали чертеж Киева и свежая роспись по полкам.
– На, перечти, ничего не упущено?
Сбыслав развернул грамоту, внимательно прочел.
– Все так, княже.
– Стало быть, боярского полку – тысяча, – князь ронял слова тяжело. – Порубежных воев – четыре тысячи без двух сотен, да киевлян с младшей дружиной – тринадцать тысяч... Против семи тем... Или восемь у него?
– Семь, княже, по последним сказкам – семь.
Владимир встал из-за стола, тяжело ступая, прошел к окну и настежь распахнул забранные заморским цветным стеклом створки. В покои ворвался свежий днепровский ветер, Красно Солнышко глубоко вздохнул, затем повернулся к Сбыславу:
– Ну, стало быть, тут нам и славу поют, так, Сбышко?
Воевода стоял не двигаясь, очи в пол, в правой руке у локтя – шлем, левая – на золотой рукояти дарованного когда-то Владимиром же меча.
– Что молчишь, Якунов сын?
Сбыслав стоял недвижно, рассматривая прихотливо выложенный цветными кирпичами пол – ромейская работа.
– Сбыслав!
Воевода медленно поднял взор и посмотрел в очи Владимиру, чувствуя, что в груди закипает и нет уже былой робости перед великим князем.
– Что, княже?
– Отвечай!
– А на что? – Сбыслав посмотрел в потолок, затем налево, потом направо. – Я ничего и не слышал. Вроде помнилось сперва, что государь мой, великий князь всея Руси, Владимир Стольнокиевский по-бабьи плачет, да ведь того быть не может. Устал я, княже, прости, с устатку и не такое померещится.
– По-бабьи, значит? – протянул Владимир, подходя к воеводе. – Ты когда у Муромца наглости набраться успел, а, Сбыслав Якунич?
У Муромца? За все годы службы молодой дружинник лишь три или четыре раза сподобился видеть первого воина Руси. Один раз, когда богатырь проездом заглянул на часок в Девицу, повидать Радослава да узнать последние новости из Киева. Потом – на пиру у Владимира, незадолго до того, как Илье Ивановичу попасть в погреба глубокие. И в третий раз...
Он снова вспомнил, как вошел в подвал, где томился великий витязь. Хотя, по правде, томиться-то томился, да два-три раза в год вышибал двери, шел по торговым рядам, говорят, в одной рубахе да домашних портах. Сумрачно смотрел то на одну лавку, то на другую, так, что купцы сами подносили узнику яства-пития, и всегда возвращался обратно. До недавних дней Сбыслав, ни разу на Заставе не бывавший, не понимал, что это такое – русский богатырь. Ну сидят на пиру у князя мужи, отдельным столом сидят, местами не тягаются, говорят о своем поют что-то, хорошо поют, гусляров да дудочников перекрикивают. Владимир им через раз ковши вина шлет, что четверо отроков едва несут, по молодости сам потаскал. Ну здоровые мужи, ничего не скажешь, да что особенного, княжая служба слабых не терпит...
И только спустившись в поруб к Муромцу, увидел Сбыслав, что и впрямь не тягаться с богатырем ни ему, ни кому другому из княжьих дружинников. Не человек – волот [62]62
Великан.
[Закрыть]сидел перед ним на топчане из расколотого вдоль огромного дуба, не бывает таких людей ни в Руси, ни в Степи, ни в Немцах, ни в Ромеях. Лишь вблизи стало ясно, что сам, не малого роста муж, будешь Илье Ивановичу едва по грудь, что плечи, мощью которых гордился, как бы не в два раза поуже, чем у богатыря. И сейчас даже не стыдно вспоминать, как хватался за меч да грубил, – как не стыдно бывает за детские шкоды. И сразу пришла странная мысль – какую власть имеет над тобой Владимир, если смог посадить под замок, тебя, кто может весь дворец разнести по камушку? Когда Муромец заговорил, стало вроде чуть понятнее. Богатырь служил князю не за честь, не за место, не за вотчину, да и не князю – он служил Русской земле. Великая мощь, великие способности – они даются не просто так, вместе с ними на плечи ложится великий долг. Чем больше сила, тем тяжелее груз, и сейчас Сбыслав страшился даже задумываться, что за обязанность была положена древнему Святогору, от КОГО должен был хранить землю покойный богатырь, которого держали только Святые Горы...
Богатырь не может быть сам себе хозяином, тут и до беды недалеко, потому и присягала Застава великому князю, но чести себе не искала, князь направлял силу, но согнуть ее себе не мог. Сбыслав вспомнил, что на пирах богатыри говорили прямо в лицо князю такое, на что не решились бы самые старые и уважаемые мужи старшей дружины. И от него же терпели то, за что любого другого по уши вбили бы в землю. Как же тогда сказал Муромец? «Он господин, да ты ему – не холоп, а витязь». Сбыслав почувствовал спокойное облегчение и, подняв голову, посмотрел прямо в налившиеся усталой кровью глаза Владимира:
– Набрался, княже.
«Снимешь голову так снимешь, но я тебе не холоп, я тебе дружинник, прочь не отъеду, но и молчать да в пол глядеть боле не стану! И пошли к лешему места да чести!» – Голова стала легкой, а страх ушел куда-то.
– Вижу, что набрался, – устало улыбнулся Владимир. – Значит, не велишь по-бабьи плакать?
– Велеть не велеть, тут я тебе, княже, не вправе, – покачал головой Сбыслав. – Я воевода старшей дружины, сколько ее ни осталось. Я как муж мужа прошу, ты Русской земле в сильной воле и мужестве нужен...
– Не осталось мужества, Сбыслав, – прошептал князь, глядя в окно. – И взять негде.
– У Бога проси, княже, – убежденно сказал Якунин.
– Да послушает ли? – с непонятной тоской сказал князь.
– А зачем же тогда ты в Киеве остался, Владимир Стольнокиевский? – Сбыслав едва сдерживал закипающую ярость. – Зачем людям коней да оружие раздаешь? Гордея зачем конями рвать грозился?
– А куда мне бежать, Сбыслав? – Тяжело ступая, Владимир прошел к столу и не сел – упал на лавку. – Я стар, мне начинать сызнова поздно, а грехов на совести – ох тяжко. Церкви строил, монастырям раздавал, надеялся, что отмолят, да теперь что от них останется...
Холод сковал сердце воеводы – таким он князя тоже еще не видел, и век бы не видеть! Если Владимир не опомнится – о каком отпоре Калину и говорить, кто поведет войско? До сих пор железная рука Красна Солнышка направляла людей, но если не станет мужества в нем, будет ли в остальных? А и вернется мужество – простит ли государь воеводе, что видел его духом упавшим, не порешит ли избавиться от свидетеля княжьей слабости? «Не холоп, витязь, – напомнил себе Сбыслав. – Не о том думаю. Ко княгине, что ли, пойти, может, хоть она его взбодрит...» Но, быстро обдумав, воевода от этой мысли отказался – Апраксия, конечно, духом сильнее многих мужей, но как бы только хуже не вышло, не пожалела бы супруга. В отчаянии Сбыслав повернулся к образам, сделал шаг, готовясь пасть на колени, просить у Бога вразумить господина... За дверью раздались торопливые шаги, и в покои без стука ввалился отрок. Боясь худшего, Якунич положил руку на рукоять меча, Владимир же, сидевший повесив голову на руки, даже не пошевелился.
– Ты почто ко князю без стука входишь? – грозно спросил воевода. – Головой не дорожишь? Что за дело у тебя?
– Кня... Княже! Воевода!
Отрок заикался, только тут Сбыслав заметил, что по покрасневшей роже катятся слезы. Шмыгнув носом, парень утер рукавом лицо и запоздало переломился в поклоне, споткнулся, приложился лбом в пол, затем поднялся и выпалил:
– Княже! Полки черниговские в Киев идут! Городец минули, скоро уж видно их будет, а гонец вперед прискакал!
Князь медленно поднял лицо от рук, Сбыслав скоро перекрестился.
– Послушает ли, княже? – сдавленно просипел воевода. – А ведь ты и не просил еще!
Из всех русских городов Чернигов первым откликнулся на зов Муромца, и тому была своя причина. Пятнадцать лет назад степная рать облегла город так, что ни мыши не проскочить, ни птице не пролететь. Налетели внезапно, изгоном, многих горожан прямо под городом похватали, зажгли посад [63]63
Посад – часть города, не прикрытая основными крепостными стенами (хотя посад может иметь свои укрепления). Как правило, именно в посаде жила основная масса населения города. В случае осады посад поджигался, для того чтобы лишить противника строительных и горючих материалов.
[Закрыть]. Своего полка и воеводы у черниговцев не было, а малую дружину, поставленную князем, захватили врасплох, кого сонными порубили, кого руками схватили. Лишь два десятка воев успели оборужиться и, перегородив улицу телегой, отбивались, пока дым от горящих изб не разделил бойцов. Большая часть горожан успела вбежать в детинец [64]64
Городская цитадель, крепость, в которой жил правитель со своей дружиной и где, в случае вторжения, укрывались жители.
[Закрыть], последними, под носом у рассвирепевших печенегов, в ворота вскочили уцелевшие дружинники. Завалив створки землей и камнями, черниговцы сели в тяжелую, безнадежную осаду. Первый натиск разгоряченных степняков отбили легко, сбрасывая на головы печенегам бревна, стреляя из луков, сталкивая копьями тех, кто добирался до заборол. Степняки откатились и накрепко обложили город, время от времени подъезжая к валу и меча стрелы в горожан. В детинце стоял плач великий – от скученности человеческой нечем было дышать, воды из колодца едва хватало защитникам, начали умирать дети. Дружина, наспех собранная Владимиром на помощь городу, в бессилии смотрела с другого берега Десны – врагов было как бы не в пять раз побольше, тут о переправе и не подумаешь.
Спасение пришло негаданно. На утро третьего дня осады на город и окрестности лег великий туман, усталые защитники из последних сил всматривались в серую пелену, опасаясь пропустить новый приступ. На мечах и бронях оседали капли воды, туман становился все гуще, и что-то в этом тумане происходило – снизу доносились вопли и ржание, звон оружия и мощный, как бы не звериный рев. Поднималось солнце, мгла разошлась как-то сразу, и перед глазами не верящих своему счастью черниговцев предстало грозное побоище. На печенежскую рать наехал некий муж великой силы на огромном буром коне, воин яростно орал и отмахивал на обе стороны дубиной размером как бы не с молодой дуб, каждый удар валил всадника вместе с конем, а то и двух. Среди печей да обгорелых бревен, оставшихся от посада, печенежским лошадкам было не разогнаться, спешившиеся степняки не могли пробраться к своим коням, а мужик все наседал, не давая отъехать и расстрелять из луков. Бурый зверь бился под стать хозяину: давил огромными копытами, кусал страшными желтыми зубами и дико ржал при этом, причем многие после клялись, что в ржании слышали совсем человеческие и очень дурные слова. Видя такую перемену, киевская дружина быстро пошла в воду, враз перелезла мелкую по жаре Десну и с криком наперла на врагов сзади. Хан, что привел степняков, попытался развернуть своих воинов навстречу киевлянам, но тут мужик проломился через телохранителей и страшным ударом дубины вбил печенега в черную от гари землю. Степь дала плечи [65]65
Дать плечи – повернуться спиной, начать отступление.
[Закрыть], преследуемая дружинниками, а воин спешился и принялся вынимать у коня из гривы и крупа вражьи стрелы.
Еще слышен был боевой клич киевлян, что гнали печенегов на юг вдоль Десны, а уж распахнулись ворота детинца, и черниговцы повалили к своему спасителю. Сразу нашелся хлеб (черствый, три дня нового не пекли), соль (пополам с пеплом), вынесли иконы. Муж и конь лишь смотрели ошалело, как матери протягивали ревущих детей, сами плакали, как падали в ноги и ревели белугой здоровые мужики. Отревевшись, стали просить витязя, что назвался Ильей, сыном крестьянина Ивана из Карачарова, что под Муромом, на воеводство в Чернигов – своих воев в городе не было, княжьих почти не осталось, а степняки могли и вернуться. Илья Иванович выслушал горожан, глубоко вздохнул и вдруг низко, до земли поклонился. В полной тишине богатырь просил у людей прощения, сказав, что остаться не может. Не один Чернигов на Русской земле, десятки городов стоят на границе со Степью, и защита нужна всем. Едет он в Киев, ко князю Владимиру, постоять за всю Русь, за все города и села, и не можно остаться воеводой в одном, а другие бросить. Так не держали бы добрые люди черниговские обиды на Илью Ивановича, потому – среди других городов он встанет и за них. Никто не проронил ни слова, пока муромский богатырь садился на своего могучего бурого коня, лишь глядели люди, как сильный зверь в первый скок одолел десять сажен, во второй – перемахнул через Десну, а третьим – скрылся за высоким лесом.
А вскоре вдоль восточной и южной окраины черниговской земли, как и по всей Руси, по Сейму и Суле встали воинские города: Курск, Ольгов, Рыльск, и уже черниговские удальцы рыскали на резвых конях, не пропуская врага на Русскую землю. Когда Владимир посадил Муромца в погреба глубокие, в черниговской земле была большая обида, и многие вои, что стояли в городах Посемья и на Десне, перестали ездить к князю на службу. Но лишь быстрые вестники, загоняя коней, ворвались в Чернигов с вестью о том, что Илья Иванович на свободе и зовет русских витязей встать за Киев, за всю землю Русскую, Черниговщина поднялась разом, дав могучее войско на помощь Красну Солнышку и Илье Муромцу. Оставив в крепостях понемногу воев, черниговские дружины, соединившись, поспешили вдоль Десны на юг, и за малое время подошли к стольному граду Киеву.
Едва успел Владимир переодеться в узорное платье да возложить на себя золоченый цареградский доспех, как отроки доложили: старшие воеводы черниговские, упредив свои полки, уже въехали в город и идут к великому князю – доложиться. Хоть и удерживали бояре, говоря, что, мол, невместно, но государь вышел со двора к черниговцам – первым, кто пришел на помощь Киеву и всей Руси. Черниговский воевода Гореслав Ингварович выступил вперед, собираясь добить князю челом, но Владимир быстро шагнул навстречу, обнял грузного, как и он сам, немолодого мужа, лобызал в плечико, в глазах Красна Солнышка стояли слезы. При виде плачущего князя старый Гореслав вздохнул, словно боевой конь, да и разрыдался на плече у Владимира. Народ, что толпился на улице, висел на заборах, сидел на крышах, приветствовал замирение князя и воинства радостным воплем.








