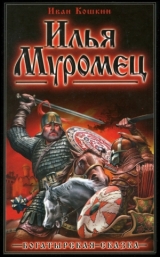
Текст книги "Илья Муромец."
Автор книги: Иван Кошкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
* * *
Угоняй с трудом открыл глаза. Он лежал на расстеленной кошме, вокруг толпились сыновья.
– Эй, ата, как вы? – встревоженно спросил Загоняй.
– Воды, – просипел десятник.
Ему поднесли деревянную чашу, Угоняй осторожно попил, каждый глоток отдавался в голове болью. Хуже всего, что он не помнил, что с ним приключилось, прикрыв глаза, старый печенег снова увидел быстро увеличивающийся белый камень. Почему он летит на него? Аркан! Конец аркана обмотан вокруг плеча, а на аркане...
– Где урус? – шепотом заорал Угоняй.
– Ускакал, – покачал головой старший сын. – Аркан оборвал и ускакал.
– Хвала Синему Небу, – закрыл глаза десятник.
– Эй, что такое? – удивился кто-то из младших. – Земля, что ли, дрожит?
– Дрожит, – подтвердил юный Нагоняй. – Дрожит!
Глаза десятника в ужасе расширились.
– Конь! Конь обратно скачет! – загомонили сыновья.
– А-а-а! Ата, я его ловить буду! – Нагоняй с места прыгнул в седло.
– Стой! – ринулся было за сыном Угоняй.
Словно тяжелая степная булава опустилась боль на седую голову, и старый печенег снова свалился в забытье...
* * *
Второе пробуждение далось Илье тяжелее первого, голова гудела куда сильнее, перед глазами крутились алые колеса. Когда колеса сталкивались, боль била так, что хотелось помереть совсем. Богатырь лежал на каком-то высоком, обдуваемом мокрым речным ветром месте. В этот раз толковые печенеги скрутили цепями не только руки, но и ноги. Скрипя зубами, воин перекатился на бок.
– Очнулся? – спросил кто-то мягким, слегка гнусавым голосом.
– Видно, что очнулся, – второй выговаривал печенежские слова на какой-то странный, колючий манер.
– А кто спрашивает-то? – захрипел Илья и перекатился на бок.
Теперь он мог разглядеть обоих собеседников. Один имел облик степной, разве что волосы заплетены на странный манер. «Хазарин», – решил про себя Илья. А вот со вторым что-то было не так. Узкое смуглое лицо выглядело как-то совсем уж не по-степному, узкий нос, черные глаза...
– Ромей! – выдохнул изумленно богатырь. – Да ты же ромей!
– Фома, сын Фоки, – вежливо, на царьградский манер поклонился грек.
– Эк ты вырядился, – усмехнулся распухшими губами Илья. – Кабы не клюв и не очи – был бы печенег.
– А я и есть печенег, – спокойно ответил ромей. – Фома, сын Фоки, дружинник великого Калина.
– Так это ты меня на кол сажать будешь? – вспомнил богатырь слова царя.
– Истинно, – кивнул грек. – Вместе с почтенным Девгенем мы посадим тебя, могучий Илиос, вот на этот крепкий сосновый кол.
Илья скосил глаза и увидел толстое, в руку, бревно, конец которого был как-то нехорошо стесан на острие.
– Что ж на сосну-то, – проворчал воин. – Чай не каждый день русского богатыря на кол надеваете, могли бы дубовый вытесать.
– Может, тебе его еще и вызолотить? – осклабился Девгень.
– Не, – осторожно помотал головой Илья. – 3олоченый мне не по чину. На золоченый вы Владимира сажать будете. Мне дубовый сойдет.
– Ц-ц-ц, – покачал головой ромей. – Как ты мог подумать такое, почтенный Илиос. Князь – это совсем другое дело. Великий Калин все еще пребывает в раздумьях, чем бы его таким особенным почествовать.
– Слышь, Фома, а крест на тебе есть? – тихо спросил Илья. – Чай одному Богу молимся, что ж ты так радуешься?
– Одному Богу? – странно засипел Фома.
Он присел на корточки и бешено дернул скованного воина за волосы. Илья вздрогнул – давно он не видел ни в чьих очах столько лютой, больной какой-то злобы.
– Ты, собака русская, – ромей попытался плюнуть Илье в лицо, но, видно, от ярости во рту пересохло. – Волчье племя, варвары, что вам не сиделось в своих вонючих лесах? За все... Я сам, сам Владимиру буду пальцы щепить, стругом его выстругаю, щенков его свиньям скормлю у него на глазах!
Он встал и, отвернувшись, посмотрел в сторону. «Это чем же мы его так прихватили?» – удивился про себя Илья.
– Девгень, – глухо сказал Фома, глядя в сторону Киева. – Гони сюда быков, начнем.
Хазарин кивнул и, махнув кому-то рукой, стал спускаться с холма. Ромей оборотился к Илье:
– Ты, Илиос, не опасайся, мы тебя надежно посадим. Сразу не умерешь, клянусь. А потом к Киеву отвезем и на горке поставим, чтобы всем видно было, чтобы князь твой кровавым страхом изошел, чтобы...
– А что не сразу под стенами сажаете? – с каким-то отстраненным спокойствием удивился богатырь.
Ромей наклонился над скованным воином:
– А ну как собаки киевские тебя отбивать надумают? Мало ли что. А чтобы ты по дороге с колом не помер, я тебе дурманного зелья припас.
Фома достал из-за пазухи бутылку, встряхнул и захихикал.
– Один глоток только – на два часа разум отшибет. Уже на колу очнешься. А на колу, бывает, долго сидят, – он мечтательно зажмурился. – Таракан, помню, полтора дня мучился. Все плевался, грозился... А я от него мух отгонял. Из-за мух ума лишиться можно, а полудурку что? Он и не сознает ничего, ему проще сразу башку снести. И от тебя, Илиос, отгонять буду. И водицы поднесу. Ты у меня неделю протянешь, Первый Катафракт!
– Фома, а ты, часом, не евнух? – задумчиво спросил Илья. – А то уж так слюной исходишь – страшно смотреть. А евнухи – они завсегда на весь свет обижены.
– Нет, Илиос, – ласково ответил ромей. – Я на это не поддамся. Ужо на колу будешь – мы с тобой и наговоримся. А сейчас ты лучше силы побереги. Эй, Девгень, что ты там возишься? Где быки?
Ромей резко повернулся и пошел вниз с холма. Илья перекатился на спину. День клонился к вечеру, поэтому синее, без облачка, небо не слепило глаза, как в полдень, и смотреть в него можно было долго. Ну, по крайней мере, пока быков не пригонят. Черная тоска накатила на богатыря. Не то чтобы он боялся смерти – с костлявой витязь давно свыкся, сколько раз ходил под ее косой, скольких сам отправил на тот свет. И даже не то, что кончина его будет долгой, мучительной и, чего греха таить, позорной, тяготило воина. Просто богатырь ясно видел, что теперь Киеву – конец. Честный сам с собой, без похвальбы, Илья знал, что равного ему на Руси нет, даже если войско и соберется, вести его будет некому. Владимир когда-то сам немало поратоборствовал, но из тех, что рубились с князем плечо к плечу, собирая Русскую землю, теперь и сотни не наберется. Одни сложили буйны головы, другие померли своей смертью, иные ушли на покой. Новых вести некому. Без богатырей, без старших дружинных мужей, без варягов наспех собранные в Киев порубежники да младшие воины вроде Сбыслава города не удержат. Даже если посадить на коней киевлян, мало толку будет от ремесленников, отроду меча в руках не державших. Страх и новая, небывалая ярость погонят печенегов на стены, защитников будут сбивать с заборолов [40]40
Заборола – боевые галереи поверх крепостных стен и частоколов, с которых обороняющиеся обстреливали нападающих отбивали приступы.
[Закрыть]стрелами. И все. Илья вдруг понял, что он любит этот огромный, шумный, богатый город. Пусть нет для него в Киеве места, кроме разве что княжьего поруба, Киев ему – родной. Больше, чем Карачарово, больше, чем пограничные городки Поросья, больше, чем дремучие леса и широкие степи мил ему этот чужой вроде бы город. Он представил себе пепелище на месте густо застроенных концов, груды обгорелых бревен вместо домов, обрушившиеся церкви и терема... Скрипя от бессильной ярости зубами, Илья напряг могучие плечи, боль волком вцепилась в разбитую голову, перед глазами закрутились алые колеса. Напрасно, стальные цепи Держали крепко. Надежды на свои силы не было, он снова посмотрел в темнеющее небо. Илья никогда не просил Бога за себя. Ни спасения в бою, ни свободы в порубе, ни счастья в любви, ни удачи, ни достатка. И без того дано немало, зачем гневить Господа? Молил за родителей. Молил за друзей. Да мало ли что. Но теперь, когда подступала лютая, неминучая смерть, он готов был нарушить собой же положенный зарок. Запекшимися губами богатырь прошептал «Отче наш», потом еще раз, и еще...
– Господи! Я же не ради себя! Грешен, прости, но не ради себя!
Небо глядело все той же васильковой синевой, над курганом выл ветер. «Не слышит, – оборвалось сердце. – Или не хочет. Господи, не оставь... Клянусь, не ради...» Что-то неуловимо изменилось, все так же завывали Стрибожьи Внуки, быстро темнело, но странное спокойствие снизошло на душу – Илья со страхом и восторгом понял, что он не один.
– Стал бы я с тобой возиться, если бы ты ради себя просил.
Илья не понимал, откуда пришли слова, словно кто-то, бесконечно усталый, заговорил, ободряя и печалясь одновременно.
– Иди, только не зверись, Илья Иванович.
– Господи...
Но чудо кончилось – тело налилось небывалой, нечеловеческой силой. Заскрежетали цепи, поднимавшийся на курган Девгень в ужасе остановился, глядя, как медленно сгибаются стальные костыли, что склепывали кольца.
– Фома!!! – завизжал хазарин.
Откуда-то с востока послышался нарастающий грохот, земля ощутимо задрожала. Печенеги у подножия холма принялись вопить, засвистели стрелы.
Но Девгень и подбежавший ромей ничего не слышали – словно мышь на гадюку, смотрели они, как багровый от натуги Илья встает во весь рост. Цепи с ног уже расползлись по звеньям.
– Девгень, убей его! – бешено крикнул Фома,, хватая с земли тяжелую булаву.
Цепь лопнула, засвистели разлетающиеся звенья. Стальной костыль ударил хазарина в голову, застряв между глаз. Фома безумными очами посмотрел на мертвое тело товарища по палачеству и с диким воплем кинулся на богатыря.
– Вы что твори-и-и-те, и-и-изверги? – заржал вылетевший на курган Бурко.
В гриве коня запутались стрелы, чья-то незадачливая рука вцепилась в подпругу, да так и поехала дальше без хозяина. Налитым кровью глазом конь обвел место несостоявшейся казни и уставился на кол, потом медленно поднял голову и пристально посмотрел на ромея.
– Убью! – люто завизжал богатырский зверь.
– А-а-а-а!!! Говорящая лошадь! – издал предсмертный вопль Фома.
– Не лошадь, а конь, – обиделся Бурко, опуская тяжелое копыто на голову палача. От подножия кургана прыснули в сторону Днепра те печенеги, что сообразили не заступать дорогу бешеному русскому коню. Стало тихо, только свистел ветер, шевеля ковыли.
– Это кто был-то, такой непонятливый? – спросил в сторону Бурко, вытирая копыто о траву.
Илья не ответил. Перед глазами все плавало, и богатырь потер очи кулаком. Лучше не стало, а рука намокла, горло сдавило так, что не было сил вздохнуть, он размашисто перекрестился трижды, покачнулся, туманящимся взором обвел курган. На подгибающихся ногах воин шагнул к коню, обнял зверя за шею и уткнулся в гриву.
– Бурко... Не бросил, родной, – сипло выдавил Илья, чувствуя, что сейчас разревется.
– Штаны надень, дубина, – каким-то странным голосом ответил Бурко. – И поехали, темно уже.
Илья отпустил коня, посмотрел вверх и размашисто перекрестился. Одежу его палачи бросили тут же, видимо, думая потом поделить. Пока богатырь одевался, конь обошел место казни по кругу, покатал копытом разогнутые и разломанные стальные звенья.
– Слушай, Илья Иванович, ты что с цепями-то сделал?
– Порвал, – честно ответил витязь, подходя к другу.
– Ну? – задумчиво не поверил Бурко, переворачивая согнутый вдвое костыль. – И как это ты ухитрился.
– Не спрашивай, все равно не поверишь. – Илья ласково похлопал коня по спине, а потом вдруг снова обнял за шею. – Эх, друг ты мой гривастый...
– Да что ты меня все лапаешь! – возмутился Бурко и осекся...
По лицу воина катились крупные слеза, Илья как-то странно закашлял и закрыл лицо рукавом.
– Да что со мной, второй раз за эту седьмицу... – Он плакал, не стесняясь, мощные плечи ходили ходуном.
Бурко осторожно ткнул друга мордой в грудь.
– Ну, хватит, хватит, Илья Иванович. Хватит, а то я сам заплачу. А нам, коням, плакать не на пользу...
Илья судорожно вздохнул, вытер глаза. На западе алое солнце садилось в тучи, по степи под теплым вечерним ветром волнами колыхался ковыль. За рекой степь на многие версты разгоралась тысячами костров.
– Много их, – сказал Бурко.
– Завтра ветренно будет, – невпопад ответил богатырь.
– Это да. Ветер с заката, нам в спину. Не знаю... Не знаю, Илья. Что-то мнится мне – скоро нам где-то тут, в ковыле лежать. А вот поверишь – не страшно. И не грустно даже. Как думаешь, Апраксия с детьми уже уехала?
– Нет, – покачал головой воин. – Она мне сама сказала, что будет в Киеве до конца, а не устоим – в Десятинной затворится. Не годится, мол, великой княгине приживалкой скитаться...
– Гордая, – кивнул конь. – Не понимаю я вас, ну да ладно. Так или этак, мы раньше головы сложим.
– Сложим так сложим, – тихо молвил Илья. – Судьба, значит, такая. На то мы и богатыри... Рома.
Некоторое время оба молча смотрели на печенежский лагерь.
– Ты как меня назвал? – кося глазом на друга, осторожно спросил конь.
– Ну, ты вроде говорил как-то, что хочешь, чтобы тебя так звали, – пожал могучими плечами богатырь. – Вот я и подумал...
– А с чего это ты так подумал? – все так же недоверчиво продолжил Бурко свой спрос.
– Ну как чего? Сам посуди, ты не глупей меня будешь, даже, наверное, поумнее, так что ж тебе... – Илья вдруг остановился, потом тихо рассмеялся. – Да что я несу-то! Я тебя обидел, а ты мне жизнь спас.
Ты же мне не просто конь. Если хочешь зваться Романом – буду тебя Ромой звать. И другим велю.
– А-а-а-а, – ответил Бурко, пытаясь собраться с мыслями. – Ну, спасибо, Илья Иванович! Только знаешь что, давай ты меня так звать начнешь, когда мы Калина побьем. А то ведь я пока привыкну, а в бою, если кликнешь, могу и не уразуметь, кого кричат.
– А ты думаешь, мы его побьем? – усмехнулся Илья.
– А ты думаешь, нет?
– Да что-то не верится.
– Уныние – тяжкий грех еси, – наставительно заметил конь. – Так отец Серафим говорит. Пойдем вооружимся да в Киев двинемся. Нас там, поди, заждались. Да, и сними ты у меня с шеи эту веревку. А то кидался тут один не по годам прыткий...
* * *
Угоняй очнулся ночью – над головой на черном бархате неба драгоценными камнями сверкали звезды. Он лежал все на той же кошме, укрытый шубой. Осторожно, чтобы не потревожить уснувшую вроде бы боль, десятник повернул голову. Рядом, возле низкого кривого деревца, безопасно в овраге от урусских глаз, горел костерок. Вокруг костра, кто сидя, кто лежа, спали его дети. Путаясь, он несколько раз пересчитал их – двоих не хватало...
– Загоняй... Загоняй! – шепотом позвал он.
Одна из фигур у костра зашевелилась, и старший сын на коленях подполз к отцу.
– Звали меня, ата?
– Загоняй, я стар, глаза мои мне изменяют. Что-то считаю я вас, двоих досчитаться не могу.
– Разгоняй наверху смотрит, – тихо ответил Загоняй. – А Нагоняй по другую сторону от вас лежит.
– Нагоняй! – старик вспомнил, как младший погнался за чудовищным урусским конем, и резко повернулся.
– Осторожно, ата, – придержал зашипевшего от боли десятника сын. – Хорошо, крепкая у Нагоняя голова. Мы его у того же камня нашли, что и вас раньше. Он от него даже кусок отколол...
Угоняй облегченно вздохнул. В это время откуда-то сверху кубарем скатился третий сын, Разгоняй.
– Брат! – шепотом закричал печенег. – Буди всех, надо коням храп держать, чтобы не заржали! Там урус опять по степи ходит!
У Загоняя глаза из щелочек сделались круглыми, как у тушканчика, – пинками воин поднял братьев, и те кинулись к коням. Над оврагом медленно прошла огромная тень, послышалась незнакомая речь. Странный и страшный всадник, похоже, разговаривал сам с собой, причем отвечал себе, изменяя голос. Урус уже давно проехал, а печенеги все стояли, держа притихших коней.
– Эй, Загоняй, – снова позвал десятник.
– Да, ата.
– Привяжи меня и Нагоняя к коням. Поедем отсюда. Домой поедем, к Жаику [41]41
Жаик – р. Яик (Урал).
[Закрыть]. Пока ночь – должны мы уйти сколько можно. Здесь удачи не будет.
– Против воли хакана пойдешь? – испуганно спросил Загоняй.
Десятник помолчал, собираясь с мыслями.
– Нельзя идти только против воли Вечного Синего Неба. Калин пусть сперва свою голову на плечах сохранит.
* * *
К заветной балке Бурко подъехал чуть за полночь, судя по сопению, намаявшийся за ночь богатырь задремал, и, чтобы разбудить друга, мудрый зверь слегка взбрыкнул и поднялся на невысокие дыбочки. Илья судорожно всхрапнул и едва успел ухватить коня за гриву, чудом удержавшись в седле.
– Просыпайся, млад ясен сокол, приехали, – проворчал Бурко.
– Шутки у тебя, Жеребятович, прямо скажем, неумные, – Илья тяжело соскочил на землю и с опаской заглянул в овраг. – Темно – хоть глаз выбей, ноги бы не поломать. Ты вот что, друг гривастый, посмотри тут пока, а я вот там, пониже, огонь разведу, с факелом дело повеселее пойдет.
– Давай, – мотнул головой конь.
Муромец уже высекал искру, когда Бурко окликнул его:
– Илья...
– Ну? – Богатырь поднял голову и немедленно угодил кресалом по пальцу...
– Все, Илья Иванович? – вежливо спросил конь, когда Муромец наконец замолчал.
– Ты говори, говори, – сквозь зубы процедил Илья, палец распухал, хорошо хоть не сломал ничего.
– Илья, ты вот что... – Бурко как-то странно замялся.
Богатырь, бережно раздувавший малую искорку, что соскочила наконец с кремня на трут, терпеливо ждал, когда его копытный товарищ соизволит досказать.
– Ты, Илья, достань мне чалдар [42]42
Конский убор.
[Закрыть]персидский, пожалуйста, – тихо сказал конь.
От неожиданности Муромец чуть не задул едва разгоревшийся огонек.
– Чего-о-о? – вслух удивился богатырь, – Это который с перьями? Ты ж его не выносишь?
– Он красивый, – просто ответил Бурко. – Так с ним по степи мотаться – дурнее не придумаешь. Но уж коли погибать – так чтобы весь налобник в самоцветах и перьях...
– Ага, – сообразил Илья. – Нет, ну отчего же, дело понятное, только у тебя ведь теперь вместо налобника рыло железное страхолюдное. Ладно, что-нибудь да придумаем, я тогда еще уздечку золотую достану, стремена серебряные, потник шелковый, ну, как положено.
– И седло вызолоченное.
– И седло, – кивнул Муромец, поднимая факел. – Ужо они от одного твоего вида разбегутся. Я пошел.
Оставшись один, Бурко фыркнул, несколько раз ударил землю копытом, выбивая здоровенные комья земли. Вот ведь смешное дело – будь ты хоть десять раз богатырский конь, хоть сто раз грамотный, а останешься один ночью, да не в теплой конюшне, а вот так, посреди степи, и сердце в копыта уходит, и каждый куст невесть чем кажется. Где-то к северу завыл волк, и тут же от реки донесся такой же заунывный ответ. Прислушавшись, Бурко разобрал: старый, опытный вожак велел молодым живорезам уходить с Днепра. Люди опять затевали большую войну, скоро всем степным падальщикам будет вдоволь мяса человечьего и конского. Но до поры нужно затаиться, чтобы не попасть под копье или стрелу, затаиться и выждать. Бурко захрипел, чувствуя, как разгорается в нем древний конский гнев на все серое племя. Встав на дыбы, он яростно заржал, вызывая ночных тварей на бой. Ответа не было, могучий зверь знал, что во всей степи не найдется волка, что встанет поперек дороги богатырскому коню. В овраге загремело, и наружу вылез Илья, нагруженный конским доспехом.
– Ты чего орешь? – удивился богатырь, складывая на землю лязгающие половины накрупника.
– Волков гоняю, – мрачно ответил Бурко.
– А-а-а, – понимающе протянул Муромец. – Дело доброе. Слушай, золоченого седла нет, видно, Алешка утащил. Давай я тебе кипарисовое возьму, то, что с алыми подушками?
Не дожидаясь ответа, он скатился вниз и снова нырнул в пещеру, слабо освещаемую чадящим факелом. Один за другим появлялись на тьму части конского убранства, потом самого Ильи новые доспехи, потом трои копья долгомерныя дубовыя (в меловой норе дерево не гниет и жук его не точит), трои палицы булатныя (если с вражьим богатырем съехаться, то шипастые или пластинчатые маковки только и отлетают, одной не обойдешься), кинжалище булатный же (доброе оружие, если на врага сверху усесться) и, наконец, новый богатырский меч. Последними Илья вынес подаренные киевлянами одежды и сапоги.
– Ну вот, – заметил он удовлетворенно. – Теперь и на честный бой, на побраночку выйти не стыдно.
Богатырь быстро расседлал коня, привычно осмотрел спину, быстро почистил щеткой из жесткой кабаньей щетины, затем накинул новый шелковый потник, точно уложил красивое седло, застегнул, не затягивая, подпругу. Поменял стальные стремена на серебряные, наконец, пришла очередь доспехов. Не сразу Илья понял, как нужно укладывать чешуйчатые половины конского панциря так, чтобы нигде не жало, не терло, не давило, но под руководством коня наконец уладил броню как полагается. Теперь надлежало вооружиться самому, Муромец быстро переоделся в воинское, пристегнул пластинчатые наколенники, на плечи тяжелой лавиной скользнула кольчуга. Ремни брони уже подогнали как надо молодые дружинники, и, замкнув стальные петли на боках, Илья вдруг почувствовал странное спокойствие – русская сталь надежно закрывала сердце. Богатырь прицепил к луке тяжелый шлем, затянул подпругу и взлетел в седло.
– Отожрался ты в погребе, Илья Иванович, – укоризненно переступил ногами Бурко.
– Я там на хлебе и воде тяжкую долюшку свою менял, – невозмутимо ответил Илья. – С голоду опух.
Бурко ржанул, затем ударил землю копытом, Муромец выдернул из земли копья и положил их поперек седла – благо не в лесу, не зацепишься.
– Ну что, в Киев? – больше для порядка спросил конь.
– В Киев, – глухо сказал богатырь, – Там заждались поди.
* * *
Загоняй вел свой десяток на север. Тот, кто хочет уйти из воли могучего Калина, не должен сразу бросаться домой, на этом пути его поймают сторожи. По совету отца старший сын сперва направит коня дальше в урусские земли, и лишь через день пути повернет на восток, к родному Жаику. Там они соберут стада и погонят их через перевалы за Камень. И где степь мешается с лесом, где травы густы, а вода сладка, там Калин их не достанет. Размышляя об этом, немолодой уже воин не заметил, как задрожала земля, и лишь внезапный порыв ветра заставил его поднять голову. Сдавленно захрипел Разгоняй, луна тускло блеснула на начищенных, словно стекло, пластинах стального доспеха, и Загоняй понял, что ни ему, ни братьям Жаика не видать. Словно зачарованный, смотрел печенег на огромного воина, что неведомо как оказался прямо перед ними в ночной степи. От горла до колен гигант был закован в светлую сталь, и зверь под ним (зверь, не бывает таких коней!) тоже неярко светил стальной чешуей. Десять долгих биений сердца все молчали, наконец воин открыл рот, и гулкий голос выговорил по-печенежски:
– Ну, удалы добры молодцы, куда собрались на ночь глядя?
Не было в этом голосе ни ярости, ни злобы, и, страшась упустить надежду, что мелькнула вдруг рыжим лисьим пятном, Загоняй просто и честно ответил:
– Домой бежим, от Калина.
– Ну, – удивился урус. – А чего не с ним, не на Киев?
– Отец сказал – хакану удачи не будет, – с этим урусом нужно было говорить честно, только в этом оставалось спасение.
– Умен у тебя отец! – засмеялся всадник, и глухо вслед ему заржал из-под стальной маски боевой конь. – А сам он где?
– Прямо за мной едет, – вздохнул Загоняй.
– А-а-а, – теперь вижу, ответил урус. – А чего это он к седлу привязан? Эге, да уж не он ли на меня днем с арканом бросался?
Загоняй сжался в комок.
– Эк его, болезного, – покачал головой могучий воин. – Ну, ладно, раз уходите – скатертью дорога.
Загоняй облегченно вздохнул.
– По пути не шкодьте, людей наших не бейте, узнаю – нагоню и порублю. Да вдоль Днепра не ходите, – поучал мужик. – На сторожу наскочить можно. Бывайте.
Он отъехал в сторону, пропуская печенегов. Загоняй тронул коленями присмиревшую лошадку и уже почти проехал мимо уруса, когда новый голос, погромче первого, но глухой, словно из-за стены, спросил:
– А где кочуете?
Загоняй остановил коня и вежливо ответил:
– По Жаику кочуем.
– А-а-а, это у Пояса, – ответил голос.
Печенег почувствовал, что волосы под шлемом становятся дыбом – урус не шевелил губами, слова Доносились из-под страшной лошадиной личины.
– Ну, что уставился? – донеслось из-за стальной морды. – Коня говорящего не видел?
– Не видел, – ответил Загоняй, чувствуя, что сходит с ума.
– Ну смотри, пока можно, – милостиво разрешил стальной зверь. – Так я что говорю, будете вдоль Камня кочевать – в тайгу не лезьте, тамошние урты [43]43
Воины финно-угорских племен Приуралья (манси и пр.)
[Закрыть]из таких луков бьют – коня насквозь пробивают. Понял?
– Да, – прохрипел, кланяясь, Загоняй. – А можно мы поедем уж?
– Езжайте, – милостиво согласился конь.
Загоняй снова толкнул лошадку коленями, и весь десяток рысью прошел за ним, рысью, рысью, от кургана уже вскачь – пусть мотаются в седлах привязанные отец и Нагоняй! Лишь бы подальше отсюда, от Калина с его походом, от страшных урусских алп-еров и их говорящих коней – домой, к Жаику!
Бурко проводил взглядом уносящихся за курган печенегов и скосил глаз на богатыря:
– Эй, Илья Иванович, а ты здоров? – спросил конь.
– Что не так? – спросил Муромец.
Пользуясь остановкой, воин перебирал оперение стрел – к счастью, когда он сверзился в ров, и лук, и тул [44]44
Тул – колчан, короб или сумка для стрел.
[Закрыть]остались на седле. Огромные, с хорошую сулицу [45]45
Сулица – метательное копье длиной от 1 м до 1,5 м.
[Закрыть]стрелы были в исправности – будет чем печенежских воинов попотчевать!
– Да так, – мотнул головой Бурко. – Степняков живыми отпустил.
– Ну, ты меня каким-то уж совсем живодером полагаешь, что ли? – обиделся богатырь.
– Живодером не живодером, а раньше бы ты их просто ссек без разговоров, – сказал конь. – Не похоже на тебя. Слышь, Илья, а ты себя не похоронил ли уже? До срока? Видал я такое, Сухмана помнишь?
Илья закрыл тул и похлопал друга по шее:
– Не похоронил, Бурко, не беспокойся. Просто... – он помолчал. – Не сегодня-завтра тут все мокрехонько от крови будет, Днепр красным потечет. Так чего зря людей губить, пусть и степняков, они-то нам уже не противники. Уходят – и бог с ними. А ссечь бегущих до боя – это уже зверство.
Конь помолчал. Илья и впрямь говорил странно, не припоминалось за ним раньше такого человеколюбия. Обычно с врагами поступали просто: не успел с коня пасть и голову в пыль положить – катиться этой голове по земле кубарем, богатырский меч два раза не рубит. Война есть война, кто не сдался – убивают, этот закон знали и дружинные люди, и дружинные кони. Теперь Муромец отпустил десятерых печенегов, ладно, не перебил, но и в полон не забрал! Пусть раб по пять ногат идет, но ведь есть еще лошади, сбруя, оружие.
Бывало, что вои, чувствуя близкую смерть, не по-воински добрели, просили у товарищей прощения за обиды, а на бранном поле щадили молодого врага... И получали от него стрелу в спину. Но в Илье этой обреченности Бурко не видел, спокойный, добродушный, витязь разве что казался чуть строже, сильнее, что ли, хотя куда уж сильнее. То ли близко прошедшая смерть так его встряхнула, то ли еще что, конь не хотел об этом думать. Главное, его богатырь жив и здоров.
– Ну, поехали, что ли, Бурко Жеребятович?
– И то, – кивнул конь. – Ты, как приедем, расседлай меня, Илья Иванович, хоть до утра посплю, а то захромаю завтра или запалюсь.
Перевалило за полночь, когда по разряду сменилась стража на Софийских воротах. Два десятка воев улеглись спать прямо под башней, два десятка сменных взошли на заборола и стали прилежно вглядываться в темноту, покрикивая время от времени в обе стороны вала протяжное: «Слу-у-шай!» Сбыслав Якунич вздохнул и тронул коленями бока могучего боевого коня. Жеребец дернул головой, норовя выдернуть у зазевавшегося человека поводья, но почуяв, что хозяину не до шуток, двинул вперед ровным шагом. Молодой витязь выпрямился в седле, расправил плечи, резко напряг шею, затем руки, затем живот, силой разгоняя сон. В такое время начальным людям спать нельзя – особенно тому, кто поставлен старшим над всем киевским воинством. Хотя какое это к ляду воинство! Якунич заскрипел зубами, не замечая, что натянул повод, лишь когда конь, негодующе ржанув, приподнялся на задних ногах, воин опомнился и, нагнувшись, скормил другу сухарик, похлопал по шее. Хуже нет – на коне зло срывать, а зла накопилось изрядно. Шесть дней, как он вместе с князем уряжает Киевское войско, и столько насмотрелся глупости и подлости человеческой, что на три жизни хватит.
И просто поднять войско на поход – дело не легкое. Даже дружина – и та не вся на дворе у князя, кто в разъезде, кто по селам-городам разослан, кто еще где княжью службу правит. Боярина со двором поднять труднее, чем какой-нибудь язык [46]46
Язык – народ.
[Закрыть]чужой к дани привести. А уж про смердов и говорить нечего – весной пашут, летом сдернешь – урожай убрать некому будет. А уж сейчас, когда враг под Киевом залег... Как Калин подошел к Змиевым Валам, немало богатых да знатных норовило из города бежать, да князь сразу ворота затворил. Сбыслав по молодости такого Владимира не помнил: скинув золотые византийские ризы и княжий венец, Красное Солнышко возложил на плечи старую броню, взятую отцом в Царьграде, седые кудри прикрыл боевой шлем с золоченым варяжским наглазьем. Ворота на Подол и Печерск были затворены, в башнях засели отроки с луками, улицу перегородили дружинники. Третий выход из Киева вроде бы оставался открытым, но на площади, тускло отсвечивая броней, встали конно верные князю бояре и немногие мужи старшей дружины, а впереди, на старом сивом жеребце, грузной глыбой возвышался сам Владимир. Даже молодые киевляне оробели при виде страшных в своем спокойствии всадников, старые же враз вспомнили то удалое время, когда Красно Солнышко собирал Русь, не щадя и родных братьев. Кто крестясь, кто отмахиваясь от Чернобога, тянули сыновей обратно во дворы, поворачивали подводы и разбегались по домам, помнили: если князь почтет нужным – сам, до печенегов зальет Киев кровью. Город сел в осаду, а князь пошел звать из поруба Муромца, которого сам же когда-то заточил туда за пьяный разгул. Узнав о том, что Владимир просит первого воина встать на защиту Киева, люди, хоть никто не звал, потянулись ко княжьему дворцу. Сбыслав, знавший, как богатырь уже раз отказался воевать за князя, не слишком-то верил, что упрямый Илья Иванович передумает, и когда тот, щурясь, вышел на белый свет, молодой воевода вдруг почуял – горло сдавила вернувшаяся неведомо откуда давно позабытая надежда.
Но Муромец ускакал на Рубеж, ворочать богатырскую заставу, а на плечи Сбыслава рухнул тяжкий груз устроения киевских полков. Проводив Илью, киевляне кричали Владимиру, чтобы дал коней и оружие – биться бы им со степняками. С посадом да дальними пригородами в Киеве жило почти восемь раз по десять тысяч народу. Первыми отбирали мужей, не переваливших за четвертый десяток, и отроков, не моложе восемнадцати весен, потом пришла очередь пятидесятилетних и тех, кому только стукнуло четырнадцать. Всего набралось почти двенадцать тысяч – вроде бы и сила, но князь, выслушав сказку молодого воеводы, лишь мрачно покачал головой и сказал, что это – не вои. Можно посадить смерда на коня, дать ему в руки копье – да только он от того витязем не станет. Пешими же людей выводить в поле – пользы не будет. Пешцы сильны строем, где каждый опирается на плечо соседа, и щиты наползают краями друг на друга, словно чешуя змея. Такое войско может стоять неколебимо и, если надо, идти вперед, медленно, но неотвратимо, словно река в разлив, накатываясь на врага, щетиной копий не подпуская к себе никого. Но на Руси пешей ратью умели биться лишь варяги да перенявшие у них эту сноровку новгородцы. Варяги ушли в Царьград четыре года назад, а новгородцы, даже если и поторопятся, все равно в Киев не поспеют.








