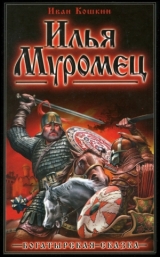
Текст книги "Илья Муромец."
Автор книги: Иван Кошкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
– Ладно, не с ярмарки едем, с границы.
Держа шелом в правой руке, Илья шагнул в прохладу каменного терема. Из сеней мышами прыснули служанки. Сквозь затянутые слюдой окна пробивалось достаточно света, и богатыри засмотрелись на дивные настенные росписи.
– Ишь ты, закончили, – улыбнулся Алеша. – Самсон мне гривну должен, говорил – еще год возиться будут.
– Красота, – шепотом сказал чувствительный Добрыня, разглядывая выложенного цветным стеклом Архистратига во главе небесного воинства.
– Угу. – Илья придирчиво осмотрел доспехи и оружие архангела. – Все на месте, все пригнано. Знающий человек делал.
– Да ты на лики посмотри, Илья! Словно светятся! На битву едут, а умиротворенны и не гневны, но жалостливы...
– На то они и ангелы, – кивнул Муромец. – На тебя в бою посмотреть – обделаться с непривычки можно. Глаза выкачены, борода торчком, пена изо рта хлещет, а уж орешь ты такое – уши вянут.
– Да ну тебя, – отмахнулся Добрыня.
– Ты, Илья Иванович, себя со стороны не видел, – поддел старшего Алешка, пристально разглядывая сцены адских мучений с голыми грешниками и грешницами. – Вы когда с Бурком на двоих ругаться начинаете, вообще пожалеешь, что глухим не родился.
– Что-то князя не видно или не доложили ему? – поспешил перевести разговор Илья.
– Князя нет в Киеве.
Братья дружно развернулись на незнакомый женский голос. Некоторое время все трое смотрели молча, затем Илья вдруг почувствовал, что живот втягивается сам собой, а грудь расправляется совсем уж в неимоверную ширь. Добрыня судорожно провел по спутанной бороде рукою и одернул плащ так, чтобы не была видна дыра у колена. Похабник Алеша длинно и многовосхищенно свистнул. Перед ними стояла молодая женщина явно не русского облика и неописуемой красоты. Телом незнакомка была необильна, волос имела черный, хотя из-под убора почти не видный, кожу белую, как снег, а глаза такие, что хотелось или спрятаться, или пойти совершить какое-нибудь деяние – гору срыть, змею голыми руками шеи к хвосту привязать или дворец каменный за одну ночь построить.
– А-а-а-а... Э-э-э-э, – выразил общую мысль скорый на красное слово Добрыня.
– Я Апраксия, киевская княгиня, – с царственной простотой представилась женщина. – Мы не встречались раньше, но, мне кажется, я могу назвать вас по именам. Ты, несомненно, Илиос, глава росского войска, первый из катафрактов [19]19
Катафракты – конные воины в тяжелых доспехах, сражающиеся длинными копьями и мечами. В Европе этот род войск, обычный для государств Азии и Дальнего Востока, впервые появился в армии Римской империи. Византия, унаследовавшая и развившая военную организацию поздней Римской империи, почти во все времена имела в своем войске отряды этих элитных воинов, набираемых из знати.
[Закрыть]. Ты – Змееборец, Добрый по имени. Ты – Алексиос, повергший демона на крылатом коне. Муж мой много о вас рассказывал.
– Ох, представляю, что князь про нас наговорил, – тихонько высказал общее опасение Алеша.
Княгиня улыбнулась:
– Он рассказал достаточно, чтобы я могла радоваться нашей встрече. Мне, слабой женщине, дано увидеть героев, подобных воителям древней Эллады, тем, кто сокрушал чудовищ, побеждал варваров и плавал в Колхиду за золотым руном...
Илья почувствовал, что сапоги волшебным образом отрываются от пола, а грудь распирает такой гордостью, что кольчуга трещит. Алешка смотрел на княгиню без обычного похабства, но с детским восхищением. Добрыня покраснел, побледнел, потом махнул рукой:
– Да ладно, чудовищ... Одного змея, в общем, только и побил. Да и то со второго раза. Никита Кожемяка в старые времена, говорят, такого вообще запряг...
– Да и Тугарина я только с Божьей помощью и осилил, да еще сподлил под конец немножко, уж больно силен паскудник был, а мне тогда и двадцати не стукнуло...
– А в Колхиду мы, если честно, не за руном плавали, – глядя в пол, прогудел Илья. – Там дело княжеское было, ну и на зипунишки подсобрать...
– Скромность украшает могучих мужей, а если это скромность доблестных, то другого украшения и не надо, – еще ослепительней улыбнулась Апраксия. – Владимир наблюдает за строительством церкви на другом берегу Данапра. Он обещал вернуться к вечеру...
– Ну, еще бы, тут только дурак к вечеру не вернется, вернее, к ночи, – не удержался Алешка и немедленно заработал подзатыльник от Ильи и локтем в бок от Добрыни.
Княгиня мило покраснела, закрылась покрывалом и засмеялась. Алеша, потирая затылок, присоединился, потом захохотал Добрыня и, наконец, заржал и Илья, чувствуя, как тает лед полутора лет войны.
– Будьте моими гостями, – отсмеявшись, сказала княгиня.
Стол был накрыт в верхних палатах, братья с ходу набросились на еду. Княгиня, деликатно скушав кусочек рябчика и запив его вином, с улыбкой смотрела, как богатыри молотили все, до чего могли дотянуться.
– Я вижу, у вас на Заставе не едят досыта.
– Да нет, почему, едим. Только раз на раз не приходится. Когда тихо – можно и тура забить, рыбки половить. Когда Степь озорует – на одной тюре [20]20
Тюря – похлебка из замешанной на воде муки с солью. тюрю не варили, а ели прямо холодную. По свидетельствам иноземцев, на походе тюрей питались не только простые воины и слуги,но и дворяне, а иногда и бояре.
Печенегов (визант.).
[Закрыть]сидим.
– Странно, мне казалось, что ваши крепости стоят цепью и в любой момент подвезти припасы можно к каждой из них. Ведь если Рубеж можно рассечь и отрезать один город от другого, теряется сама цель такого строительства.
Богатыри дружно перестали жевать и уставились на Апраксию. Речи та вела совершенно не женские. Княгиня усмехнулась:
– Не удивляйтесь, хорошая императрица должна хотя бы разбираться в делах своего государства. Особенно если ее супруг правит не с трона в столице, а из седла, – она зябко передернула плечами.
– А-а-а, – понимающе кивнул Илья. – Тогда понятно. Только изволишь ли видеть, Застава – это не крепость. Мы впереди Рубежа, прямо в степи стоим, да и не на одном месте. Где тонко, туда и кочуем.
– То есть как, – удивилась Апраксия, – без города, без стен? В чистом поле?
– Именно так, – кивнул Алеша. – А наши стены У нас на боку привешены, – он хлопнул по рукояти широкого меча.
– То есть вы становитесь там, где ожидается натиск пацинаков [21]21
Печенегов (визант.).
[Закрыть]?
– Изволь видеть, – Илья сгреб блюда с одного края стола, освобождая место. – Вот это – Днепр, – он плеснул полосу вина по мраморной столешнице. – Это – Рось, – вторая полоса, поменьше.
– Э-э-э, нет, тут Рось не так загибается, – поправил пальцем Алеша.
– Ты меня еще поучи!
– Не спорь, – вмешался Добрыня. – Тут Алеша прав. Города порубежные и крепости есть на обоих берегах, – пампушки встали по обе стороны винной полосы.
– А Застава наша на левом берегу, на полдня пути от Днепра, – кусок каравая встал далеко от пампушек. – Потому – мы богатыри, нас они, даже когда ордой идут, десятой дорогой обходят.
– Интересно, но если поставить крепости здесь и здесь...
Владимир вернулся, когда солнце уже садилось. Алеша спал на лавке, заботливо укрытый медвежьей шкурой, Апраксия позволила не волочь его в гридницу. Добрыня и Илья сидели ошеломленные. Княгиня успела поговорить и о степной жизни, и о семьях, о Царьграде, и о Киеве, о соборах и теремах, построенных и тех, что еще предстояло построить.
– Ну, я вижу, вы уже познакомились, – растерянно сказал князь.
Апраксия, оторвавшись от чертежа нового, в три этажа, терема, который она обвела по примеру Ильи хиосским вином на столешнице, радостно кинулась на шею мужу. Богатыри, окончательно ошалевши от такой непривычной открытости семейной, дружно уставились в потолок.
– Это удивительно, но они в точности такие, как ты описывал, – весело крикнула в ухо мужу княгиня и убежала во внутренние покои.
– И вот так каждый день, – с довольным видом пожаловался Владимир. – Сперва боялся, что староват уже для такого, а теперь вроде привык. Рассказывайте, что там в Порубежье.
– Да мы, княже, все уже твоей княгине рассказали. – усмехнулся Добрыня. – А толковей ее и мужей поискать.
– Так что дело к ночи, – Илья ухмыльнулся уже совершенно по-Алешиному. – Чего мы тебя держать за полночь будем?
– Идите, – махнул рукой князь.
Братья поклонились, Илья поднял на плечо спавшего мертвым сном Поповича. В дверях Муромец обернулся.
– Княже, – негромко позвал он.
– Чего? – поднял голову от какой-то грамоты Владимир.
– Хорошая у тебя жена, княже, – Илья запнулся, подбирая слова, затем махнул свободной рукой. – В общем, правильная жена. Прямо скажу – великая княгиня! Такая, знаешь...
Богатырь потряс могучим кулаком, разом выражая восхищение красотой и государственным умом Апраксии.
– Иди, иди уж, – довольно улыбнулся в бороду князь.
Тогда Владимир только хмыкнул и махнул рукой, Давая знак нахалу удалиться. Но, как ни странно, женившись в бог знает какой раз, князь остепенился, перестал устраивать похабные забавы, по вечерам спешил домой, в терем. Может быть, сказывался возраст, а может, и что-то еще. И в палатах у князя теперь стало по-другому – и почище, и потише, и покраше.
Пиры стали беднее на меды и вино, но обильней на пироги, а скоморохи отныне не столько похабничали, сколько смешили. Илья вдруг обнаружил, что он и сам стал часто заглядывать к князю, чего раньше за собой не замечал. Не имея своего угла, он обычно ночевал в гриднице, а то в корчме или вообще в непотребных местах, если не выезжал с Бурком попросту в поле за Днепр, но теперь почему-то потянулся к чужому теплу. Добрыня, давно женатый, то ли с насмешкой, то ли с непонятной ревностью пенял старшему брату, что вот у них-то с Настасьей тот бывает через месяц на третий, но Илья ничего не мог с собой поделать. Как-то раз озабоченный Бурко отвез друга в степь и там строгим голосом рассказал до жути печальную историю о Тристане и Изольде, после чего посмотрел большим умным глазом пристально и спросил, сделал ли Илья выводы. Илья, по обыкновению, шутейно послал коня длинной тройной дорогой, но сам задумался. Думал долго, пока Бурко не похлопал его копытом по спине и не сказал, что уже вечер. Тогда Муромец решил, что на Тристана он никак не похож. И не в том дело, что Артуров рыцарь был смазлив на рожу, а Илья совсем наоборот. И не в том, что Тристан убил дракона, а из Владимировой дружины таким мог похвастать разве что Добрыня. И даже не в том, что Тристан был королев племянник, а Илья – из ратаев [22]22
Ратай – пахарь.
[Закрыть], деревенщина, короче сказать. Просто чувствовал старый богатырь, что любит Апраксию не как обычно, а как сестру, которой у него никогда не было. Наверное, и князь это понимал, потому что как-то раз, отозвав богатыря в сторону, посмотрел снизу вверх, в глаза, и спросил:
– Ты, Илья, мне вот что скажи... Ты ко мне в терем... Ты просто так ходишь или еще зачем?
Илья, не сразу поняв, почесал в затылке:
– Ну, не просто так, конечно. Тебе доложиться, ну, песни там послушать, на пиры опять же. Или с Апраксией поговорить.
– А с Апраксией о чем говоришь? – не отставал пытливый Владимир, наставив строго бороду в грудь Муромцу и стараясь что-то высмотреть во взгляде Первого Богатыря.
– Так это, умная она у тебя, – как-то особенно незло улыбнулся Илья. – Ее просто послушать приятно. И знает уйму всего, и совет может дать. А давеча вот спрашивала, когда у нас сыновей на коня сажают, она же на сносях.
Тут Илья рассмеялся.
– Ты чего ржешь? – озабоченно спросил князь.
– Да она меня тут спрашивала, чего, мол, я неженатый? Говорила, что, если русские не нравятся, она из Царьграда кого-нибудь вызвать может или к варягам сватов послать. Нехорошо, мол, Первому Катафракту без жены ходить.
– А ты что?
– Да я так, шутейно ответил. Сказал, что на Руси женатый, одну ее беречь должен. А ты чего спрашиваешь-то, княже?
Владимир посмотрел в сторону.
– Да подходил туг один, Твердята, может, слышал?
– А, кособрюхий... Не понимаю, княже, зачем ты их при дворе держишь. Ни в бой, ни в совет, только пузо перед собой таскать.
– Зачем держу – не твоего ума дело. Говорил он, что вот ходит-де к твоей жене Илейка, а зачем ходит – непонятно, не пошли бы слухи нехорошие, что князь у нас теперь...
– Вон оно что... – Терем качнулся, белый мрамор стен почему-то покраснел, и словно со стороны услышал Илья свой голос, глухой и низкий: – А ты сам-то как думаешь?
– Ты на князя не рычи, – спокойно ответил Владимир. – Твердяте сейчас батогов на конюшне прикладывают, потому что думаю я – не о моей чести он заботится, а о том, чтобы я твою голову снял. Хочу у тебя спросить, Первый Катафракт, не как князь у дружинника, а как у мужей принято.
Красная пелена сменилась розовой, а потом и вовсе развиднелось.
– Ты Данилу Ловчанина помнишь, княже? – тихо спросил Илья, глядя в сторону.
Князь вынес удар, не дрогнув.
– Помню.
– Так вот, князь Владимир Стольнокиевский, тогда мы все, сколько было нас на Заставе, дали клятву друг другу, что никогда ни один из нас даже в мыслях больше такого не совершит. Понимаешь меня? А слово я держу. Хорошо у тебя в тереме бывать, спокойно тут, жизнь другая, не такая, как у меня. Потому и приходил. Ни своей, ни ее, ни твоей чести никогда я порухи не делал, если хочешь, откажи мне от дома, только уж сделай это на людях, раз слухов боишься.
Князь облегченно вздохнул:
– Ну и слава богу. Слову твоему верю, а Твердята давно напрашивался. Приходи когда хочешь, Первый Катафракт, мы тебе всегда рады.
Княгиня тогда ничего не узнала, а повторять судьбу Твердяты, который полгода на коня сесть не мог, никому не хотелось. Илья продолжал бывать у князя, да и остальные богатыри приходили посидеть за столом у Апраксии. Ромейка любила слушать молодецкую похвальбу степных порубежников, по-детски восхищаясь рассказам о небывалых подвигах, в которых почти не было неправды. Похоже, она и впрямь примеряла богатырей к героям старых эллинских сказаний (Илья и остальные заставили Бурка пересказать им сказки и о Геракле, и об аргонавтах, и о прочих староромейских мощноруких душегубцах) и не раз заступалась за буйную братию перед мужем.
Сейчас Илья просто стоял и смотрел на Апраксию, не зная, что сказать. Княгиня потяжелела за эти годы, два сына – это не шутка, но от красоты ее все равно перехватывало горло. Одета она была, в отличие от мужа, просто, лишь тонкий золотой обруч поверх белого покрывала на волосах да тяжелые резные колты у висков отличали ее, платье синего шелка было без узоров. Не место ей было здесь, но Апраксии, похоже, и не думала об этом.
– Скажи хоть, где сесть можно, Илиос, не стоя же разговаривать будем.
Илья покачал головой.
– Уж и не знаю, княгиня, куда посадить такую гостью. Скамей тут у меня, сама видишь, не имеется. Разве вот на сундук – он чистый, я на нем книги держу.
Княгиня села на краешек сундука, выпрямив спину.
– Садись и ты, Илиос, как говорится, в ногах правды нет.
Топчан едва возвышался над землей, так что княгиня лишь чуть-чуть подняла голову, чтобы видеть лицо богатыря.
– Владимир сказал мне, что ты отказался выйти из погреба?
– Да. – Илье не хотелось говорить об этом, потому и ответил коротко.
– И ты знаешь, что города нам без тебя не удержать?
– Вам и со мной его не удержать. Семь тем – не шутка.
– Я понимаю. – Илья вдруг увидел, что княгиня сжала руки так, что побелели косточки на пальцах. – Но ты мог бы вернуть своих товарищей. Алексиоса, Добрыню, дружину...
– Не знаю. Если правда то, что о них говорят, может, и не пойдут они никуда.
– Но все же можно попробовать! Илиос, в городе восемь тем народа, но тех, кто может держать оружие, и пятой части не будет, и то, если вооружить всех, от двенадцатилетних подростков до стариков! Неужели тебе все равно... – она запнулась. – Как бы ты не был обижен, нельзя же так... – тихо закончила княгиня.
«Разразил бы Ты меня сейчас, Господи, что Тебе, молнии жалко», – с тоской подумал богатырь. Умом он понимал, что сейчас бы и выйти на свет божий, надеть доспех и сделать то, что можно, чтобы степнякам если и ворваться в Киев, то лишь через него, убитого. Но чей-то дрянной голос нашептывал гаденько, удерживал, не пускал.
– Зря ты пришла, княгиня. Не пойду я, – глухо сказал Илья. – Уезжай, пока можно. Бери детей и уезжай, к брату, в Царьград.
Сказал – и пожалел. Княгиня поднялась с сундука, и богатырь вдруг понял, что сейчас он, Илья Муромец, Первый Русский Богатырь, не осмелится посмотреть Апраксии в глаза.
– Уехать? Мне? Ты забыл, видно, с кем говоришь, Илиос. Я – великая княгиня русская! Здесь мой дом, здесь теперь моя Родина. Приживалкой к брату ехать? Княжичей туда везти? Ты, верно, обо всех по себе судишь. Когда мой муж встанет с мечом в воротах Киева, мы – я, и дети мои, и мои боярыни – войдем в Десятинную [23]23
Десятинная – одна из первых церквей Киева, стояла на-против княжеского дворца. Разрушена во время Батыева нашествия.
[Закрыть]и затворимся там. Пусть я умру, сгорю, но в своем доме, на своей земле, как честная княгиня, а не жалкая попрошайка.
Апраксия резко повернулась и шагнула к выходу. У двери она обернулась, и голос ее, как плетью, хлестнул богатыря:
– Ты знаешь, Илиос, я всегда заступалась за вас перед мужем. Владимир говорил: Алексиос – развратник и хвастун! Но он убил демона на крылатом коне, отвечала я. Добрыня заносчив и высокомерен. Но он победил дракона! Самсон – скуп, Казарин – ленив, Дюк кичится своим богатством, Поток спутался с колдуньей! Но они – богатыри, они – наши защитники. Он говорил: Илья Иванович – пьяница, буян, наглец. Как ты можешь, отвечала я, это твой лучший воин, он очистил дороги от разбойников, он спас Чернигов, он заслоняет нас всех от Степи. Я – дочь басилеев, мой род восходит к кесарям, что уже тысячу лет лежат в своих гробницах, и я гордилась, посылая за ваш стол свой мед, мне казалось, что в нашем зале пируют герои, равные героям Древней Эллады! А сейчас... Знаешь, что я сейчас думаю? Может быть, прав был мой муж, а не я? Может, он действительно знает вас лучше, чем слабая женщина? И те, кто казались мне героями, – просто очень сильные убийцы, пьяницы, развратники, грабители? Тебе выбирать. Прощай, Илиос, не думаю, что мы еще встретимся.
Княгиня хотела хлопнуть дверью, но перекошенные петли поддавались с трудом, и она просто дернула кольцо, слегка сдвинув за собой створку.
– Ну, вот и дождался, Илья Иванович, – вслух подумал богатырь.
Конечно, кто-кто, а он отлично знал, что ни он, ни Алешка, ни Самсон, ни даже гордый боярин Добрыня никогда не были героями, такими, как Геракл, или Александр Македонский, что летал по небу, или Ланселот. Их дело – держать Степь, чистить дороги, собирать дань, примучивая непокорных... И все-таки... Все-таки что-то ведь было! Ведь звали его воеводой в Чернигов, не пошел! Не пошел на теплое богатое место, поехал в Киев, к Владимиру, чтобы каждое лето, годами бодаться со степняками, бегать до Воронежа, отбивать полон, перехватывать орды, мириться, нападать... Ведь вышел же тогда Алешка, мальчишка совсем, один против Тугарина! Разве ради денег Сухман один дрался против отряда степняков, из-за горькой обиды даже доспеха не надев! Было! Или нет? Илья упал на колени, ударил кулаком в кирпичатый пол. «Господи, подскажи!»
Он не слышал, как в третий раз отворилась дверь.
– Ну-ка, встань, русский богатырь. Встань, колени протрешь.
– А ты кто такой? – проревел богатырь, поворачиваясь к двери. – Ходят тут...
Он запнулся на полуслове, ошарашенно вперившись в тех двоих, что стояли перед ним. Он не удивился бы, войди в погреб отец Серафим, или матушка, или батюшка. Но увидеть тех, кто, кряхтя, усаживались на сундук, Илья никак не ожидал. Потому что первого встречал лишь раз в жизни, давным-давно, а про второго думал, что тот много лет мертв...
– Дедушка? Никита? А вы-то какими судьбами?
Два старика наконец умостились на сундуке, даже сидя опираясь на посохи. Двое – тот безымянный старик, что подсказал, как найти Бурка, и калика перехожий, поднявший от роду не ходившего тридцатитрехлетнего Илью на ноги, старый, как сказка, далеких времен богатырь, великий Никита Кожемяка.
– А такими, – Никита пожевал губами, передвинул руки на потемневшем, вытертом посохе.
Посох Илья помнил – на него он оперся, когда по велению калики сделал первый в своей жизни шаг, чтобы принести странникам воды. Первый, потому что на второй Никита выдернул посох из рук и легонько подтолкнул его, калеку, вперед: «Иди, молодец!»
– Такими, что вот сижу я и думаю, а на хрена, прости господи, я тебя ходить научил. Сидел бы у себя на печи, глядишь, подох бы уже, а мне бы краснеть не пришлось.
Муромец медленно поднялся, обида давила горло.
– Ты, дед, говори, говори, да не заговаривайся.
– Ишь, грозный какой, – усмехнулся Никита, глядя на возвышавшегося над ним гиганта. – Ты уж поопасней, Илюшенька, пузом играй, а то я человек старый, еще не ровен час со страху что-нить стыдное приключу.
– Суро-о-о-ов, – протянул молчавший до сей поры старичок. – Одно слово – богатырь.
– Святорусский, – добавил Никита.
– Угу. Святость, я мыслю, спереди, в мотне привешена.
– Не-е-е, в мотне другое. Но оно ему, кажется, тоже без надобности.
– Кажется – креститься надо, – огрызнулся Илья.
Странное дело, с той поры, как встал на ноги, мечтал отыскать того, кто подал тогда ковш простой воды, спасибо сказать, может, чем еще отблагодарить, но вот встретился и не знает, куда глаза девать от ехидного старика.
– Обижен, – знающе покачал головой дед, что нашел для Ильи Бурка. – Вусмерть просто. Сидит наш Илюшенька в погребе глубоком и думает: а что это меня все не любят, все обижают, слово доброго никто не скажет?
– Да брось, дед, кто такого здорового обидеть сможет? – подхватил злорадный калика. – Если кто и мог, он, думаю, тех давно позашибал.
– Не то говоришь, Никита, не то, – ухмыльнулся дед-коневед. – Обиженность, она не от вражьих подлостей проистекает. Тут, я думаю, обиженность внутре сидит. С рождения. Оттого-то маленький и грустный такой. Уж он и так, и эдак, и дома по бревнам раскатает, и с церквей маковки посшибает, и с девками напохабит – ан нет, не любят его люди, не понимают.
– И где им понять, – задумчиво продолжил Никита. – Такую душу глубокую, такие стремления высокие, такие помыслы чистые... Вот и три дня назад, опять же, уж казалось, через себя перепрыгнул, а народ только глубже по щелям забивается. Хоть бы один вышел, поклонился в ноги, сказал бы: «Спасибо тебе, Илюшенька, за непотребство твое окаянное, за мерзости неслыханные, за похабство злопакостное...»
– А за что другое им никак спасибо не сказать? – зло прищурился Илья.
– А разве не говорили? – как-то совсем по-другому, печально спросил Никита.
Илья замолчал. Говорили. И как говорили! В Чернигове старики в пояс кланялись, бабы ревели и детей подносили... Когда Соловья в Киев привез – сам Владимир с крыльца навстречу никому не известному мужику сошел, обнял, в плечо (выше не дотянуться все равно) поцеловал. А уж если из Степи с победой приходили – и хлеб с солью, и полотно под копыта стелили, ребятишки рядом бежали, а если кого на седло брали, те и обмирали, как воробьи, от радости.
– Говорили, Илья, говорили, – тихо сказал второй дед. – И от души говорили. А помнишь, Владимир тебя при всем народе спросил: что тебе, богатырю русскому, защитнику, надежде, опоре, надобно? Что ты ответил?
– Я же в шутку!
– «Дозволь, княже, в корчмах по Руси пить да гулять бесплатно» – вот что ты ответил! – безжалостно докончил Никита. – И уж погулял, погулял, Илюшенька, и не в шутку погулял.
Илья замолчал. Отвечать было нечего. То есть было, конечно, но богатырь понимал, что вот тут, этим старикам, ни про обиду, ни про службу верную, ни про богатырство свое да княжую неблагодарность лучше не говорить. Старики, давно стоявшие одной ногой в могиле, просто отмахнутся как от мухи и снова станут загонять острые гвозди правды в душу.
– Ну, что скажешь, Илья Иванович? – требовательный голос Никиты заставил Илью вжать голову в плечи.
– Да я... Я ж не убивал никого, ну, может, покалечил, да не насмерть... – забормотал богатырь.
– Не насмерть. Вакула, которому ты руку из плеча выставил, когда он тебя на улице просил не буянить, боле работать не может – хорошо, сыновья подросли. И сколько таких вакул! А что не насмерть... Когда на Десятинную новый купол ставили, взамен того, что ты по пьяному делу отстрелить изволил, тогда Семен-сусальник сорвался. Совсем разбился. У царьградских мастеров обучался, шесть церквей золотом покрыл, не считая палат в Берестове. И нет человека. От пьяной шутки твоей.
– Мне-то что, – снова огрызнулся Илья, чувствуя все тот же мерзкий голос в голове.
Кажется, не он один его почувствовал.
– А ну-ка, Илюшенька, посмотри мне в очи, – вдруг приказал Никита.
Муромец хотел не покориться. Хотел прогнать надоедливых старцев, но в душе уже зрело понимание, что если сейчас деды уйдут, уйдет надежда вернуть все по-старому. Медленно богатырь опустился на колени. Медленно опустил голову, борясь, встретил взгляд старца.
– Ну, будет, Илья, – вдруг совсем по-другому, каким-то добрым голосом сказал калика. – Не мне бы с тобой говорить, а отцу Серафиму, да далеко он сейчас, когда успеет. Ты не бойся, не так это страшно, повиниться. Перед людьми, перед собой, перед Богом. Хочешь – век обиду храни, лелей, растравляй душеньку, с ней ложись и вставай. И вся жизнь мимо пройдет. Но из любой ямы можно на свет подняться, грех в ней оставаться. Ну-ка, ВСТАНЬ, ИЛЮШЕНЬКА, ВСТАНЬ НА РЕЗВЫ НОЖЕНЬКИ!
Илья вскочил, не помня себя, вскочил как тогда, пятнадцать лет назад в Карачарове. Что-то сдавило горло, что-то потекло по щекам. Он не знал, что такое слезы, не плакал даже тогда, когда сидел на печи и, глядя в окно с черной тоской, видел, как живут другие люди, и знал, что у самого такой жизни не будет никогда.
– Вот и хорошо, вот и поплачь, Илюшенька. Поплачь, хоть раз в жизни каждый поплакать должен, – тихо молвил старик, слушая страшный, словно хаканье дикого лесного зверя, плач немолодого уже мужика.
Илья не знал, сколько он стоял на коленях перед гостями, но горло освободило как-то сразу. Он вытер лицо и уже иначе, по-новому посмотрел на старцев. Дед-коневед совсем не изменился. Мелкий в кости, бурый на лицо, словно из глины, все в том же заплатанном кафтане, в той же шапке, надвинутой на густые белые брови. А вот Никита стал еще старше, хоть и казалось тогда, что это невозможно. Высохшая кожа обтягивала кости, рубаха болталась на худых плечах. Уже не было вериг под одеждой – свое тело и то носить было невмочь! Кто бы и подумал, что этот самый человек когда-то, невообразимо давно, запряг в плуг и загнал в море Змея, которому Добрынин приходился малым змеенышем!
– Спасибо, дедушка Никита, – улыбнулся Муромец. – Второй раз ты меня на ноги ставишь.
– Такое мое дело, – кивнул старик. – Ну, так как, пойдешь на свет божий?
– Пойду. Не в службу тебе, дедушка, позови князя Владимира. Негоже мне своей волей из погреба княжеского выходить, пусть уж он сам изречет.
– Не гордишься ли? – остро посмотрел на него Никита.
– Нет. Просто хочу по правилам все сделать.
– Ну, добро. – Никита вдруг неожиданно молодо соскочил с сундука и подтолкнул своего спутника локтем. – Вот видишь, не зря со Святых гор спускались! А ты говорил...
– Ничего я не говорил, – проворчал второй старик. – Я-то знал, что ему только уши надрать – и все путем будет.
Оба быстро, не по-старчески шагнули к двери. Уже выходя, коневед обернулся:
– Как Бурко, не шалит?
– Нет, – ошарашенно ответил Илья.
– Ну и добре. И ты его не обижай. Таких коней больше нет.
– Дедушка, – бросился к нему Илья. – Я все спросить хотел, как тебя звать-то?
– Незачем это тебе, – усмехнулся старик и вдруг одной рукой прихлопнул дверь так, что от косяка земля посыпалась.
Илья помотал странно посвежевшей головой. И дурак же он был, и сам мучился, и других обижал – а оно вон как все просто! Теперь бы только Владимира дождаться да не сгрубить ему по обыкновению. Богатырь встал, расправил с хрустом плечи... В том, что Владимир придет, он не сомневался. Чтобы чем-то занять себя, собрал в мешок книги и свитки, покидал туда же одежку, переставил зачем-то в угол сундук. За всеми этими заботами его и застал стук в дверь. Так обычно стучал Чурило, опасавшийся побеспокоить лишний раз могучего узника, поэтому Муромец, не сообразив, крикнул: «Входи уж, чего мнешься!» И только услышав, как властно, не по-чуриловски, заскрипела створка, Илья обернулся. Князь пришел один. Теперь, когда свиты не было и Владимиру уже не нужно было смотреть орлом, он выглядел усталым и постаревшим. Войдя, князь сел на сундук и уставился в пол. Некоторое время молчали оба – богатырь и государь. Наконец Владимир вздохнул:
– Ну ладно, чего тянуть. Только что гонец был – Калин к Змиевым Валам двинулся.
Князь посмотрел пристально на Илью, затем медленно встал. Муромец, чувствуя, что сейчас произойдет что-то не то, вскочил с топчана, но было поздно. Богатырь увидел то, чего уж тридцать с лишним лет не видел никто после свейского короля. Спина повелителя Руси, великого князя киевского Владимира Красно Солнышко согнулась, и он в ноги поклонился Илье. Тот шагнул вперед, не зная, что делать. Владимир также рывком выпрямился и уже по-другому, спокойно и уверенно сказал:
– Ты уж прости меня, Илья Иванович, если не прав был.
Илья развел руками, словно не знал, то ли обнять князя, то ли пришибить. Потом вдруг махнул рукой и поклонился в ответ.
– Да и ты меня прости, княже.
Оба опять замолчали, не зная, что делать дальше.
– Ну, так это, может, пойдем отсюда? – спросил Илья.
– И то, пока не забеспокоились.
Илья шагнул к двери первым, отворил ее для Владимира. На золото платья посыпался песок. Князь поднял голову и взглянул на разбитый, покореженный косяк.
– Я починю, – быстро сказал Илья. – Ну, может не сам, но мастеров найму. Немецких. У меня на Почайне горшок с дирхемами зарыт.
Князь пожал плечами, фыркнул и вдруг в голос, по-молодому захохотал. Илья почесал затылок, неуверенно улыбнулся и тоже засмеялся. Смеялось обоим легко, так что наверх Илья выполз, опираясь на стену и придерживая другой Владимира, который уже с трудом стоял на ногах.
– М-мастероов... Не... Не-ме-ецких, – в перерывах между приступами гоготания сипел Владимир.
– А... А ты-ы... каких хотел? – точно так же задушенно отвечал Илья. – Если наших... ки... киевских... так они ключами... от погреба твоего... завтра на торгу промышлять станут... «А вот кому ключи от княжо... княжого подвала! А от тюрьмы да от сумы не зарекайся!»
Обоих скрутило еще сильнее, так, хохоча и задыхаясь, вывалились во двор... Глаза не сразу привыкли к свету, Илья, пошатываясь, прикрыл их ладонью козырьком... И хохот сразу отрезало.
Площадь перед теремом была полна народу. Люди стояли тесно, плечом к плечу, на мощеном дворе, на улицах, что вели к Десятинной, кто помоложе, забрался на крыши и заборы. Все смотрели на него, смотрели с надеждой, со страхом, с радостью. Купцы и ремесловые мастера, мужики, дружинники, молодые и старые, мужчины, женщины, дети. Илье вдруг стало страшно, настолько страшно, что захотелось убежать обратно в погреб, захлопнуть за собой не раз обваленную дверь и крикнуть Чуриле, чтобы запер с другой стороны.
– Что же ты не сказал, княже, – тихо прошептал он.
– Из гордости, – так же тихо ответил Владимир. – Хотел, чтобы ты по моему слову из погреба вышел.
– А и хорошо, что не сказал, – Илья искал в толпе знакомые лица. – Бог знает, вышел бы тогда... – вон стоит среди молодых воинов Сбыслав.








