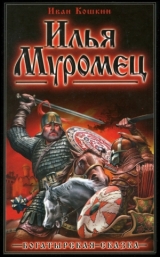
Текст книги "Илья Муромец."
Автор книги: Иван Кошкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
– Да, – спокойно ответил конь. – Куда ты – туда и я.
– Добро, – кивнул Илья. – Эй, вы чего там шепчетесь?
Самсон и Алеша повернулись к старшему брату, и лица их Илье не понравились.
– Поток убит, Казарин убит, Рагдай, Потаня, Гриша, Соловей, Ушмовец... Всех не перечислить, – Алеша говорил спокойно, но его глаза странно сияли. – Илья, ты сам сказал, не буйны головы ставим в заклад, а Русскую землю.
– А раз так, – продолжил Самсон. – То грех нам о своих дурных головах печься. Не отстань от нас, брат!
– Вы что задумали? – севшим голосом спросил Муромец.
Алеша и Самсон обнялись, поцеловались и, повернув коней, пустили их на копья, чуть не с места взяв в скок.
– Куда? – страшно крикнул Илья.
Но воинов было уже не остановить. Тяжело направить коня на острую сталь, зверь тоже хочет жить, противится смерти. Но боевые жеребцы, как и боевые люди, случается, вдруг решают: «А-а-а, пропадай голова с копытами!» – и в этот миг не то что на копья – на каменную стену бросятся. Богатырские же кони, редкой породы звери, умели чувствовать мысли своих хозяев, быть с ними заодно, и никакая сила на свете не остановила бы сейчас Серка и Соловка, что решились умереть с Алешей и Самсоном.
– КУДА? – ревел Муромец. – КУДА ВАС НЕСЕТ?
– Илья, за ними, – закричал-заржал Бурко. – За ними, или все напрасно!
И, не дожидаясь хозяина, богатырский конь прыгнул с места в дикий, стелющийся скок, сотрясая землю тяжелой поступью. Словно во сне, Муромец видел, как Алеша и Самсон всей своей тяжестью, всей тяжестью могучих скакунов вломились в строй хаканских нукеров, своими телами ломая и пригибая копья.
Иногда говорят: «Что толку сложить голову – пусть враг складывает!» Бают еще: «Мертвым все равно, чей верх». Но из года в год, из века в век бояны поют о тех, кто не пожалел своей жизни, добывая победу своим.
Серко и Соловко погибли первыми, приняв каждый по десятку копий в широкие, с ворота, груди, но и мертвые, с кровью, хлещущей из ноздрей и из пастей, кони сделали несколько шагов, пока не рухнули, давя железных нукеров. Самсон, обломив копье, вонзившееся в живот, бросился дальше, рубя древки мечом, перешибая кулаком, он бился, пока еще семь пик не вонзились в грудь и бока. Хрипя, иудей, предсмертным усилием притянул к себе нукера и швырнул его вперед, вражьим телом склонив еще несколько копий. Попович прошел до конца, его меч плел сверкающую паутину, обрубая пики, он бился, обламывая копья, что пробили грудь и живот, окровавленный, страшный, ростович убивал рукой тех, кого миновал клинок. На последних шагах, чувствуя, что силы уходят, Алеша рванулся вперед, с ревом ухватил семерых, круша в каменных объятиях, и, отбросив трупы, рухнул на землю, заливая ее горячей кровью. Все шесть рядов оказались проломлены сразу, и в эту брешь Бурко с диким ржанием внес рыдающего Муромца.
– Ну? Ну, где ты, великий хакан? – орал обезумевший от боли в сердце богатырь. – Куда теперь спрячешься?
Калин не собирался прятаться, трусы в Степи царями не станут. Калин налетел сбоку, его жеребец – могучий, широкогрудый, ударил Бурка, вцепился зубами в шею, и Муромец еле отбил удар царской сабли. Но хоть конь Калина был молод и свеж, не было у него ни опыта, ни разума Бурка. Русский скакун не стал вырывать из вражьих зубов свое горло, вместо этого он страшно ударил кованым копытом в ногу хаканскому зверю. Удар пришелся вскользь, но степной конь отпрыгнул, и всадники закружили один вокруг другого, ловя момент, чтобы броситься, достать врага клинком. Нукеры, окружившие вершину, топтались на месте, то ли не хотели мешать своему хакану прибить одного уруса, то ли пугал их гнев чужого алп-ера, от которого дрожал воздух над курганом. Внезапно Калин осадил коня и громко крикнул:
– Ко мне!
Он, видно, ждал этой минуты, выгадывал, когда к нему подойдет помощь, ибо нукеры расступились, и на холм взлетели два могучих ольбера в стальных доспехах. Хакан победно ухмыльнулся, но улыбка погасла, когда Калин увидел в руках у Муромца лук. Не было в степи человека, что не слышал бы про исполинское оружие страшного уруса, и ольберы осадили коней, не зная, как поступить. Это промедление стоило им жизни: первая стрела снесла голову левому, вторая – разорвала пополам правого, и попятились от поднявшегося ветра царские телохранители. С тяжким грохотом упал на землю отброшенный лук, а в руке у Муромца уже снова сверкал меч. Он налетел на Калина, словно буря, забылись слова доброго священника Георгиоса – ярость и боль переполняли старого богатыря. Удар – долой щит! Удар – и валится срубленный наплечник! Удар – и рука, в которой царь держит саблю, немеет. Калин уже не пытался достать уруса, он лишь защищался, отступая, а Илья рубил, как никогда не рубил до того, выкрикивая имена тех, кого больше не было:
– За Алешу!
– За Самсона!
– За Потока! Рагдая! Казарина! Соловья!
– Погоди! – крикнул, пятясь, хакан. – Ведь ты мог бы...
Илья так и не узнал, что он мог бы, добрый меч, откованный русским кузнецом, рассек железный ворот доспеха, и голова Великого Степного Царя взлетела в воздух. Муромец поймал ее за волосы, и нукеры убитого хакана сперва попятились, а потом и вовсе кинулись к коням, бросая пики. Богатырь окинул взглядом равнину, где еще кипел жестокий бой, хотя многие – и русичи, и степняки – прервали сечу и смотрели на курган. Илья вздел Бурка на дыбы и, потрясая отрубленной головой, закричал что есть мочи, чтобы слышало все поле:
– КАЛИН МЕРТВ! НЕТ БОЛЬШЕ ВАШЕГО ЦАРЯ!
А от Ситомли уже поспешал на помощь великий князь, ведя за собой Смоленский и Черниговский полки.
Первыми сломали ряды печенеги, они пробивались из сечи и, нахлестывая коней, уходили на север. Наемные кыпчаки держались дольше, но в конце концов разбили и их. Русское войско, все, у кого кони еще могли скакать, бросились вслед за бегущим ворогом. Степняков гнали до Вышгорода, где те наконец остановились, доскакав до обоза, окружили себя возами и приготовились стоять до конца. Навсегда запомнили русские воины, как выехал из укрепления старый Обломай – без шапки, без сапог, повесив на шею золотой ханский пояс. Дребезжащим от слез голосом он поздравил князя Владимира, которому Апраксия недавно принесла второго сына. Протянув руки к князю, хан сказал, что сегодня утром он был выше Красна Солнышка, потому что его Небо наградило девятью сынами. Ныне же не осталось ни одного, и два старших внука тоже погибли. Если великий князь хочет мести – так тому и быть, но степные воины будут защищаться до последнего, и прольется еще очень много крови. «Сегодня вы сломали хребет нашим ордам, – умолял хан. – Возьмите выкуп, возьмите заложников, снимите мою старую голову, но отпустите оставшихся, или жены и дети в степи этой зимой перемрут от холода». Тяжело молчали русские витязи, и сам князь, казалось, уже думал: снять ли с хана голову здесь, или сперва помучить, но потом вдруг повернулся к Муромцу:
– Ну, что делать будем, Илья Иванович?
– Это твоей княжеской милости решать, – устало ответил богатырь.
– Я к тебе обращаюсь за советом, – спокойно сказал Владимир. – Ты убил Калина, твои богатыри до него пробились. Не перекладывай все на меня, Первый Катафракт!
– Тогда вот что я скажу, государь, – тихо начал Муромец. – Как батюшка твой хазар добил – пришли к нам печенеги. С Калиным, видишь, кыпчаки были – злее и крепче. Боюсь, вырежем печенегов – будут нам новые соседи, хуже прежних. Да и...
Он запнулся.
– И что еще? – спросил Владимир, которому, похоже, слова богатыря казались разумными.
– Не по-христиански это, – еще тише сказал Илья. – Повинную голову сечь. Помнишь, он у нас в пограничье хотел на землю сесть, сына твоего на княженье просил... Кровь, конечно, не вода, но от резни только хуже будет.
– Вот и я так мыслю, – кивнул князь. – Возьмем с них выкуп, сыновей или внуков в залог – и пусть катятся на все четыре стороны...
* * *
В Киеве отпевали павших, а телеги с мертвыми все шли и шли к городу – от Васильевского шляха, от Кловского урочища, от Ситомли, от Вышгорода. Тяжело досталась победа, и кровавый рубец этой войны не зарастет еще долго. Мертвых печенегов свозили безымянно в большие ямы, даже не обирая трупы – некому, лишь собирали оружие и доспех, что пойдет в княжьи запасы.
Илья выехал из города ближе к вечеру. В княжьем дворце правили тризну по мертвым, но ему не хотелось быть на пиру – ни старым обычаем, ни новым. Алешки больше не было, не было Потока, Казарина, Самсона, Соловья – многих он знал уже двадцать лет и не зря называл братьями. С ними ушла какая-то часть души, и Первому Богатырю нужно было побыть одному, вот разве что с Бурком, который давно уже понимал друга без слов. Они ехали молча, потом Муромец спешился и пошел рядом с конем. По полю скакали малые дозоры – воины отгоняли волков, что сбегались отовсюду на запах крови, завидев богатыря, молодые воины кланялись и проезжали дальше. У Васильевского шляха Илья увидел витязя – ведя в поводу коня, тот шел, вглядываясь в убитых, что еще не успели увезти.
– Эй, добрый молодец, ты ищешь ли кого? – окликнул Муромец.
– Ищу, Илья Иванович, – ответил печальный голос.
– Сбышко, ты? – удивился богатырь. – Кого же?
Выслушав рассказ молодого воеводы, Илья вздохнул:
– Так ты его отыскать хочешь?
– Да, господин, – ответил воевода, и снова пошел вдоль склона, вглядываясь в тела.
– А кого-нибудь из его воев нашел уже? – нагнал дружинника богатырь.
– Нашел, – кивнул Сбыслав. – Даже Мыша его нашел. А вот братку все никак не отыщу.
– Да где ж его отыщешь, – тихо сказал Муромец. – Его небось на куски саблями разнесли. Боялись его печенеги.
Сбыслав остановился, как-то поник весь.
– Да я знаю, – всхлипнул молодой воевода. – Только как же... Как же я его брошу?
Витязь повернулся, подошел к Муромцу и вдруг уткнулся лицом богатырю в грудь, могучие плечи его вздрагивали.
– Ничего, Сбыслав, поплачь... – тихо сказал Муромец. – Поплачь, что уж тут сделаешь. Это незазорно – поплакать.
* * *
Двадцать пять лет пролетело после Великой Битвы под Киевом. Преставилась княгиня Апраксия, на четыре года пережил свою жену великий Владимир. Сразу разгорелась в Русской земле великая усобица, и сыновья Владимира, прижитые от разных жен, с мечами пошли друг на друга. Годы длилась братоубийственная война, и пали многие, прежде чем утвердился на Киевском столе законный князь. И хотя еще полыхали малые смуты, все же народ вздохнул свободнее, и Киев после боев стали отстраивать.
То весеннее утро было прохладным и ясным, через Золотые Ворота в Киев шел поток возов, рысили конные, шагали пешие путники. Стража, что зорко смотрела – не прошли бы в город с оружием, вдруг встала в недоумении. По дороге, прямо посередине, между колеями, ехал странный всадник. И конь, и ездок были велики, даже громадны, больше любого конника здесь же на дороге, и так же невероятно стары. Длинная седая борода человека свисала на облитую начищенной кольчугой грудь, конь же, когда-то бурый, теперь стал словно бы желтым, поседев вместе с хозяином. Плечи старца были широки, а руки хоть и костлявы, но хранили еще страшную мощь, на боку воина висел длинный тяжелый меч в потертых красных ножнах, за спиной в налучье покоился лук, схожий размером с ромейским дальнометным орудием. Всадник спал, и могучий храп его разносился над дорогой, конь же ступал спокойно и уверенно, словно и сам знал, куда хозяину надобно.
– Эй, это, тпру, – неуверенно сказал молодой стражник, заступая дорогу странному всаднику и протягивая руку к поводьям.
Конь посмотрел искоса большим умным глазом, открыл пасть со страшными бурыми зубами и чистым русским языком ответил:
– Я те щас так тпрукну – штанов не удержишь.
Молодой стражник сел в пыль, хлопая ртом, а конь встряхнулся и проворчал вверх:
– Просыпайся, млад ясен сокол – приехали.
Старик открыл неожиданно ясные глаза и ласково спросил:
– Что, Бурушко, уже Киев?
– Киев, Киев, – ворчливо ответил конь. – Что-то нас пускать не хотят. Ты уж с ними сам говори, они, похоже, говорящего коня в жизни не видели.
– Дядько Чурило, дядько Чурило, – бросился к башне самый молодой из воинов.
Остальные стояли в воротах и во все глаза смотрели на чудного воина и удивительного, не иначе волшебного коня. Движение остановилось, к воротам стали подходить возничие, узнать, в чем тут дело, подходили – и оставались, чтобы досмотреть, чем это все кончится. Из башни вышел сотник Чурило – старый, толстый, бывалый, что служил когда-то еще у самого Владимира на порубе, о чем часто рассказывал молодым.
– Ну, что тут? – грозно рыкнул он, раздвигая воинов.
С минуту он подслеповато щурился на дряхлого витязя, а затем вдруг задрожал челюстью:
– Это что же, – растерянно и как-то радостно залепетал мужик, меняющий шестой уже десяток. – Это ж... Да что вы стоите, невежи, стройтесь быстро!
Стражи недоуменно переглянулись, но встали по краям ворот, со щитами и копьями, словно встречали посла, а то и князя. Народ молчал, не зная, что думать. Чурило вышел на середину ворот и вдруг поклонился в пояс, хоть и тяжко это было при его-то брюхе.
– Исполать тебе, сильномогучий богатырь, – торжественно сказал красный от натуги сотник. – Славный Илья Муромец, свет Иванович.
Толпа ахнула – шутка ли, едешь в Киев на торг, а у Золотых Ворот живая былина стоит! Старый воин степенно поклонился в ответ и весело ответил:
– И тебе исполать, Чурило, свет Пленкович, вижу, уже в сотниках ходишь. Позволь старику в город проехать.
Чурило широко повел рукой к воротам:
– Проезжай, витязь, твоим мечом этот город стоит!
Илья, посмеиваясь, въехал в ворота, Чурило молча смотрел ему вслед, в глазах старого сотника стояли слезы. Самый младший воин подергал начальника за рукав:
– Дядько Чурило, а это правда Илья Муромец? Он же помер давно...
– Цыть! – сотник рявкнул так, что заржали кони у ближних возов. – Помер, как же... Как он может помереть, дурень? Мы с ним бывало... Эх, все равно ничего ты не поймешь...
Илья ехал по знакомым деревянным мостовым, смотрел по сторонам и узнавал город. Пусть в усобицах многие улицы выгорели – избы уже отстроили заново, церкви и терема стояли, где и раньше, а вон уж строится новое. Свернув от Десятинной на Спуск, витязь проехал немного по крутой улице и остановился у старого, из могучих посеревших бревен, терема, постучал в ворота. В калитку выглянул седой привратник, увидел, кто приехал, и закричал во двор:
– Отворяйте, отворяйте ворота! – и, обернувшись к богатырю, торопливо затараторил: – Я сейчас, сейчас, Илья Иванович, сейчас матушку кликну!
Илья спешился, похлопал Бурка по шее и вошел с ним в распахнутые ворота. На широком дворе выстроились слуги, замашка которых выдавала бывших воинов, с крыльца спускалась статная высокая женщина. Седая, но хранящая следы былой красы, она поддерживала под руки огромного ветхого старика. Илья бросился навстречу, принял на руки легкое уже тело и осторожно усадил на лавочку.
– Вот он, богатырь мой, – с бесконечной нежностью сказала женщина. – Здравствуй, Илья Иванович.
– Здравствуй, Настасья Микулишна, – ответил Илья и троекратно расцеловался с хозяйкой терема. – Как Добрыня?
– Все спит, – вздохнула та, – а как проснется... Все о тебе спрашивает, об Алеше, о князе, о братьях...
Она утерла глаза передником.
– Не помнит уж ничего.
– Илья...
Голос старика был слабым, и Муромец опустился на одно колено, взял руки брата в свои. Добрыня открыл глаза, и вдруг в них мелькнул прежний разум.
– Здравствуй, брат, – звучно, как встарь, сказал Змееборец. – Ты как, решился?
– Решился, – улыбнулся Илья, пожимая легонько сухие ладони.
– Бог в помощь, – степенно кивнул Никитич. – Дело великое, я вот, видишь, не собрался. Молись за нас, Илюшенька, и за живых, и за покойных.
Муромец кивнул.
– А ты, Бурушко, что делать будешь? – поднял голову Добрыня.
Конь шагнул вперед и осторожно ткнулся мордой в плечо старого богатыря.
– Буду воду возить, Добрыня Никитич, а по вечерам Илья мне почитает, отец-настоятель сказал, что можно.
– Вот и хорошо, – по-детски улыбнулся Добрыня, уронил голову на грудь и тихонько засопел.
– Уснул, – прошептала Настасья. – Ну, Илья Иванович, пойдем в дом, поешь с дороги.
– Нет, Настасьюшка, – покачал головой Илья, – мне пора. Я лишь с вами зашел попрощаться. Где Никитушка-то?
– В Царьград с посольством пошел, – гордо сказала Настасья.
– Весь в отца, – усмехнулся Илья. – А Сбыслав, а Улеб-меньшой?
– В Червенских городах воюют, – вздохнула Микулишна.
– Как вернутся – накажи им меня навестить, – сказал, поднимаясь, Илья.
Он снова расцеловался с Настасьей и, не оглядываясь, пошел со двора.
Из города богатырь ехал споро – здесь ему делать было больше нечего, в воротах попрощался с Чурилой и повернул на юг, мимо Кловского урочища. Перекрестился на Сигурдову могилу, спешился у каменного креста над богатырским упокоем. Вот уже засверкали на солнце золотые купола, и перед Ильей встали ворота Печерского монастыря. Из калитки вышел могучий дородный муж в монашеской скуфье и встал, сложив руки на животе. Илья слез с коня, подошел к монаху и низко поклонился.
– Здравствуй, отец Кирилл.
– То раньше было, – покачал головой старый новгородец. – Ныне я брат Феофан. Иди, отец-настоятель тебя ждет, а Бурушку я сам расседлаю.
Илья, перекрестившись, вошел за ворота, чувствуя, что тревоги остаются позади. Два молодых монаха, работавших во дворе, отложили топоры, поклонились и вернулись к работе.
– Вот я и дома. – вздохнул Илья.








