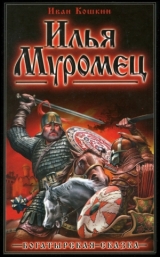
Текст книги "Илья Муромец."
Автор книги: Иван Кошкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
– Ну, что надо, жид?
Выгоревшая, утоптанная заднепровская земля встала вдруг стеной и больно ударила богатыря по всему. Выплюнув пыль, Михайло перевернулся на спину и снова увидел склоненные над ним проклятые черные глаза, нос и пейсы. Из-под носа слегка картаво донеслось:
– Ты шо-то сказал, казарская морда?
– Ну, мать твою, – просипел Казарин и, оттолкнувшись спиной, кинулся на больно умного чужака.
Добрыня, Илья и Дюк как раз сели пополдничать, когда снаружи донеслись яростные вопли, звуки ударов по чему-то твердому и прочий боевой шум. Дюк, как самый молодой, сорвал со столба меч и первым выскочил наружу. Илья, степенно оторвав от свеже-зажаренной дрофы огромную жилистую ногу, вышел за ним, последним, прихватив кубок с хиосским вином, неспешно выступил Добрыня. Богатыри, те, что не спали богатырским сном и не ушли куда-то с утра, гоготали на площади. Посередине, на утоптанном до каменной твердости черноземе, Михайло и какой-то долговязый черный парень яростно мутузили друг друга, стараясь то вывернуть руку, то придушить, то выдернуть ногу. Наконец, оба упали наземь и продолжили драку уже лежа. Дюк присвистнул и указал Муромцу на глубокие выбоины в земле.
– На кого ставишь, Илья Иванович? – спросил, обернувшись, Неряда.
– На кого? – Илья откусил еще кусок от жилистой ноги. – А ты на кого, Добрыня?
– На Михаила, конечно, – пожал плечами Змиеборец. – А ты?
– А я, пожалуй что, и на жида, – задумчиво смерил взглядом дерущихся Муромец.
– Я не жид! – возмущенно вскинулась из облака пыли взлохмаченная длинноносая голова.
Малого промедления хватило Михайле, чтобы припечатать противника к земле и завернуть ему руку за спину.
– Нечестно! – возмущенно прохрипел воткнутый лицом в пыль чужанин.
– Почему нечестно? – удивился Михайло, заворачивая ему вторую руку к первой.
– Ну-ка, Мишка, отпусти его, – приказал Илья. – Давай-давай, проиграл – так умей признать.
– Да почему проиграл-то? – возмутился Михайло.
– А потому, – подошел Алешка с воняющим рыбой мешком на плече, – что ты, богатырь русский, должен был чужака сразу в бараний рог согнуть, а не в пыли с ним кувыркаться.
– Он на меня врасплох наскочил! – начал было Михайло и осекся.
– Так-так-так, – протянул Добрыня. – Это, значит, так мы на часах стоим, что нас всякий-який врасплох застать может.
Михайло понял, что попался, и хмуро отпустил чужака. Тот немедленно вскочил, отряхнул длинный черный кафтан и низко поклонился Илье.
– Значит, говоришь, не жид? – протянул богатырь, легонько прихватывая пришельца за нос. – А кто тогда?
– Дья иннудей, – прогнусавил носатый.
– Кто-кто? – отпустил нос Илья.
– Иудей, – дерзко блеснул глазами чужак.
– А это не один хрен? – удивился Муромец.
– Ну, вообще говоря, один, но жид – это обидное прозвище, – неведомо когда подошедший, Бурко посмотрел на иудея поверх плеча Ильи.
– А-а-а, – протянул доверявший другу во всем Илья. – Так зачем ты к нам пожаловал, удалой добрый иудей?
Чужак набрал воздуху, потом выдохнул, потом снова набрал...
– Хочу с вами постоять за землю Русскую! – выпалил он.
На миг над площадью повисло молчание, затем, словно гром, загремел богатырский хохот. Ржали все, даже степенный Добрыня и высокомерный Дюк. Иудей покраснел, побледнел, сжал кулаки.
– Я сильный! Я смогу! – выкрикнул он.
– Уффф, насмешил, – сквозь слезы выдавил Добрыня. – А того ты не знаешь, что к нам на Заставу без напутствия князя Владимира никто не приходит? Покажи-ка грамотку княжую. Ты у него и не был небось.
– Был, – упрямо ответил чужак. – Ну, не у него в палатах, но когда он на торг приехал, я к нему в ноги бросился и говорил с ним.
– И дружина допустила? – поднял бровь Муромец.
Иудей замялся.
– Ну, не пускали, конечно, но я два копья сломал случайно, а потом, когда они стрелами хотели, за меня поп вступился, маленький такой, сухой весь, и просил князя выслушать.
– И что князь? – почему-то Илья сразу поверил дурному рассказу.
Иудей опустил голову и тихо сказал:
– Сказал Владимир, что нечего мне на Заставе делать. Не гожусь я. Мол, Илье Ивановичу такие не надобны.
– Значит, не надобны? – протянул Илья, переглянувшись с Добрыней и Алешей.
И так велика была любовь братьев к князю, что разом повернулись они на Киев и, дружно свернув кукиши, помахали ими в сторону земли Русской.
– Это мне решать, кто мне здесь надобен, а кто нет! – проревел Илья.
– Ну, ладно, – немного успокоившись, продолжил он. – Но смотри, богатырем не сразу становятся. Ты верхом-то хорошо? Вижу, что нет. Из лука тоже вряд ли стрелял. Да и мечом...
– Я лечить хорошо умею, – вскинулся пришелец.
– Не перебивай, – строго сказал Добрыня. – Будет тебе испытания год и один день. В этот год будешь ты не богатырь, а просто добрый молодец. Уроки исполнять станешь разные, а если время останется – будешь учиться оружием и конем владеть. Если не захочешь – в любой день скатертью дорога, держать не станем.
Иудей низко поклонился.
– Значит, слушайте все, – начал Илья. – Сей добрый молодец... Тебя как зовут?
– Самсон, – торопливо сказал парень.
– ...Самсон, отныне – отроком [27]27
Отрок – в данном случае не подросток, а одно из низших званий в дружине.
[Закрыть]у нас. Посему вся работа в лагере – на нем.
Богатыри одобрительно загудели.
– Утром и вечером станет он учиться верхом ездить, мечом рубить, из лука стрелять – тут все ему помощники. Вот. Парня не обижать, звать иудеем.
– Как-то непривычно все же, – пробормотал Дунай. – Чтобы иудей на русской заставе?
– Ну вот и посмотрим, как он будет, – поставил точку Илья.
Для Самсона начались черные дни. Хоть богатыри в быту были неприхотливы, все же работы по хозяйству было выше головы. Самсон таскал воду, рубил дрова, убирал за конями, мыл нехитрую посуду, готовил на всех, стирал, а утром и вечером до изнеможения махал мечом, бегал, прыгал, метал копье, стрелял из лука. Тяжелее всего давалась верховая езда, богатыри, сидя по шатрам, спорили, сколько в этот вечер раздастся глухих ударов, возвещающих о том, что Соловко опять показал отроку, кто из них двоих главный. Скрипя зубами, приползал за полночь Самсон в свою палатку, а уж чуть свет поднимался снова. Первым не выдержал Казарин, пришел как-то вечером к братьям, сел, по-степному скрестив ноги, и занудел, что нельзя так над парнем издеваться. Илья только посмеивался. Прошло лето, настала осень, Самсон трудился неустанно. Уже меч в руке сидел не как палка, уже копье летело почти туда, куда надо, уже Соловко засомневался, а он ли хозяин отроку или наоборот. Выпал снег, река встала. Безжалостный Илья начал учить иудея купаться в проруби, предварительно пробив лед кулаком. Как-то раз Самсон нырнул надолго, был снесен течением и минут пять заставил богатырей поволноваться, пока в ста саженях ниже не взорвался лед, и молодец не вылетел из проруби, хватая ртом воздух и покрываясь ледяной коркой. Тут уже вся Застава пришла просить за парня, но Илья был неумолим. Однако не судьба была иудею отработать год и день. По весне печенеги снова стали наезжать к Днепру, и одна шайка, на свою беду, наскочила на Самсона. Отрок стирал в апрельской воде попоны, когда по берегу с гиканьем налетели всадники, ладя утащить глупца на аркане. Самсон, не будь дурак, выдернул с корнем молодой дубок и тремя ударами отправил пятерых вместе с конями в холодный Днепр. Корнями отмахнулся от пущенных стрел и, поминая царя Давида с его кротостью и царя Соломона с его мудростью и бабами, кинулся на ошалевших степняков. Когда с Заставы на вопли прискакали Михайло с Алешей, печенегов и след простыл, но семерых Самсон связал их же поясами. В тот же день Илья опоясал нового богатыря мечом, и разленившаяся Застава снова принялась исполнять службы по очереди. Служил Самсон старательно, дрался храбро, а вскоре выяснилась и еще одна великая польза нового богатыря. В начале лета из Киева пришел, как всегда, обоз с мукой, солью и прочим полезным товаром. Богатыри уже поскидывали мешки, и Илья собирался отпустить обозников, когда из атаманского шатра появился Самсон с охапкой свитков и бирок с зарубками. Он заставил богатырей перекидать мешки обратно на телеги, после чего сказал сгружать по одному, а сам принялся сверяться с бирками и свитками. Когда сгрузили последний тюк, Самсон медленно поднял голову и посмотрел в глаза старшине обозников. Мужичонка вжал голову в плечи и попятился.
– Это шо? – мягко спросил Самсон, указывая длинным пальцем на кучу мешков.
– Так это... – забормотал мужичонка. – Довольствие ваше...
– За месяц? – еще мягче осведомился Самсон, заглядывая сверху вниз в глаза мужичонке.
– За год – пискнул тот.
– Да ну? – с неизбывной добротой в голосе изумился иудей.
– Батюшка, не погуби! – бухнулся в ноги богатырю обозный. – Я человек подневольный, сколько велели, столько везу!
– А в чем дело, Самсонушко? – недоуменно вопросил Неряда.
– В чем дело? – повернулся Самсон к товарищам. – Это таки очень интересное дело, шобы мне сейчас столько кротости, сколько у царя Давида! Вот сия бирка с печатью великого князя нашего Владимира Святославича говорит мне, шо на богатырскую Заставу в год отпускается тысяча пудов муки, да триста пудов зерна пшеничного, да триста пудов зерна ржаного, да гречихи триста пудов, да соли двадцать пудов, да меда двадцать бочек сорокаведерных, да... – Самсон задохнулся от негодования. – КТО МНЕ ПОКАЖЕТ, ГДЕ ТУТ ТЫСЯЧА ПУДОВ МУКИ???
– Да тут и двухсот не будет, – ошарашенно почесал в затылке Неряда.
– А ну, дай посмотреть, – подскочил к Самсону Соловей Будимирович.
– И вправду, тысяча, – поднял он от бирок потемневшее лицо. – Это что же получается, а?
– Что-что, – прорычал Илья, – кто у нас за кошевого?
– Да какой из меня кошевой, – забормотал Дюк.
– Да уж вижу, что никакой! – в сердцах бросил Муромец. – Свои товары небось не так считаешь.
– А я говорил, между прочим, что нельзя так обоз принимать – свалить, и все! – зло ответил Дюк. – Говорил? А ты что ответил? Невместно, мол, богатырям каждое зернышко считать!
– Мало ли что я говорил! – возмутился Илья. – Мог бы потом перечесть! Ведь из года в год все меньше привозили.
– Ну... Да, – повесил голову кошевой.
– Что делать будем, брат? – озабоченно спросил Добрыня. – Так этого оставлять нельзя.
– И я так думаю, – кивнул головой Муромец. – А ведь если они, сволочи, нас так обкрадывают, то каково порубежникам и воям в крепостях?
Добрыня потемнел лицом.
– Думаешь, это князь?
– Да какой князь, – махнул рукой Илья. – Владимир гордый, но не подлый. Поручил небось какому кособрюхому, а тот на нашем харче терема себе строит. Значит, так. Алешка, остаешься за старшего, Добрыня, Дюк, Самсон, со мной. Поедем к князюшке правду искать.
– Я? – ахнул Самсон.
– Ты, – кивнул Муромец. – И не жмись так, ты теперь такой же богатырь, как и мы все, хоть и жи... иудей. Сам кашу заварил, сам и расхлебывай, и ничего не бойся, при нас Владимир на тебя не цыкнет. Да, и этого, – он кивнул головой на обозного, – с собой возьмем.
В Киев все четверо влетели, словно буря, коней привязывать и не подумали, и богатырское зверье, чуя настрой хозяев, принялось нагонять страху на гридней, вращая кровавыми глазами и выковыривая копытами камни из мостовой. Подойдя ко княжьим палатам, Илья уже занес было ногу, но, опомнившись, осторожно постучал. С косяка посыпалась пыль.
– Ну, входи, входи, – послышался недовольный голос. – Опять, что ли, какая буча на Рубеже?
Внутри пискнуло, хлопнула дверь. Илья, ухмыльнувшись, распахнул створки. Владимир сидел за столом в расстегнутом кафтане, на столе валялись грамоты, книги, чертеж Рубежа и женская нижняя рубаха.
– Здравствуй, князь Владимир Стольнокиевский.
Войдя в горницу, Илья, Добрыня и Дюк перекрестились на красный угол по писаному, а Самсон, прячась за спины старших, низко поклонился.
– От государевых дел тебя, вижу, оторвали, – сокрушенно покачал головой Илья.
– Ну ладно, не скоморошествуй, – поморщился князь.
– Жениться бы тебе, княже, наследников, что ли, заводить уже, – учтиво съехидничал Добрыня.
– Тебя не спросил, – огрызнулся князь. – Говорите, зачем пожаловали? По чьей воле Рубеж бросили?
– На Рубеже сейчас Алеша смотрит, – спокойно сказал Илья. – А мы к тебе, княже, по делу. Давай, Самсон.
Самсон робко выступил вперед.
– Ну, дожили, – в сердцах бросил Владимир. – Жидов на заставу берут.
Самсон покраснел.
– Он не жид, – разглядывая потолок, прогудел Илья. – Он иудей. Мы его так кличем.
– А не один хрен? – удивился Владимир.
– Для нас нет, – опустил глаза встреч Владимиру Муромец. – Он нам брат меньшой и русский богатырь. Хоть и с пейсами.
– Ну, тебе виднее, – согласился Владимир. – Так что у тебя ко мне за дело, РУССКИЙ богатырь Самсон?
Самсон торопливо свалил на стол охапку бирок.
– По твоему, княже, указу, тому пять лет, положено отпускать на Заставу на год тысячу пудов муки, да триста пудов зерна пшеничного, да триста пудов зерна ржаного...
– Вы что, белены объелись?! – рявкнул князь так, что Дюк и Самсон подпрыгнули и даже Добрыня попятился.
– А ты, княже, дослушай, сделай милость, – набычился Илья.
С полминуты князь и богатырь мерили друг друга взглядами, да так, что Дюк и Самсон жались к стенам, а Добрыня собрал в кулак всю смелость, чтобы не спрятаться за брата.
– Ну, ладно, продолжай, – сдался князь.
– А в этом году, – заторопился Самсон, – пришло на заставу двести пудов муки, да сто пудов ржаного зерна, а пшеницы совсем не было, а гречиха мышами траченная, а соли – один пуд, а меду не было, а полотно подмокшее да тленное, а кожи на сапоги не было, а наконечников на стрелы – пуд вместо пяти, а ясеня на древки не было, осину прислали, а вместо ста щитов расписных – десять некрашеных, и не дубовых со стальной оковкой, а липовых, кожей обтянутых, да и та трескается, а...
– Достаточно, – тихо сказал Владимир. – Ты что же, Илья Иванович, думаешь, я у своих воев ворую?
– А мне думать не положено, – ответил Илья. – Я что вижу, то говорю. Ты лучше вот что рассуди, княже, если уж нас, богатырей, так не стесняясь обкрадывают, то что воям в крепостях достается? Совсем наги и босы сидят?
– Так. – Владимир побарабанил пальцами по столу. – Оставайтесь здесь. Поесть вам принесут.
Князь встал, быстрым шагом вышел, из-за двери донесся его рыкающий голос.
– Ну, браты, теперь садитесь и отдыхайте, – шумно выдохнул Илья. – Давно я его таким не видел, даже самому страшно стало.
– И что он сделает? – испуганно спросил Самсон.
– В котел со смолой, – вяло ответил Добрыня. – Или на кол. Когда княже добрые дела творит – только держись.
Прошел час, со двора раздался дикий вопль. Илья выглянул в окно, перекрестился.
– Все-таки на кол. Смолу долго греть надо.
Дверь распахнулась, в светлицу вошел Владимир.
Кафтан князь где-то сбросил, рукава рубахи были завернуты выше локтя, на белом полотне краснели пятна крови. Государь сел во главе стола, повесив голову, затем устало осмотрел богатырей.
– Нет, ведь главное, чего ему не хватало-то? Три города в кормление [28]28
То есть казненный имел три города, доходы с которых шли ему в качестве платы или награды за службу.
[Закрыть]дал, только и делов – отправляй вовремя жалованье на Рубеж. А он, гад подколодный, пять лет...
– Сам допрашивал, княже? – участливо спросил Илья.
– Да разве нынешние умеют, – отмахнулся Владимир. – Поели?
– Да как-то не с руки было.
– Ну, тогда вместе поснедаем.
Бледный Самсон шумно сглотнул, и князь как-то по-новому посмотрел на иудея.
– Стало быть, ты недостачу нашел? Эти остолопы пять лет на тюре сидели, а стоило ж... иудея взять?
– Да мы как-то на слово верили, – тихо сказал Илья.
– На слово... – проворчал Владимир. – Мимо моего слова – столько еще... Не могу же я сам вам мешки считать. Слышь, Илья Иванович, а зачем он тебе на Заставе – али мечей мало? Дай мне его сюда, мне позарез ключник новый нужен. Чтобы честный был. А то – с товарами своими пошлю за море.
– Нет, княже, не вели казнить, – раньше старшего выпалил Самсон. – Нельзя мне. Не бери с Заставы!
– Что так? – удивился князь.
– Мы... Мы не просто так торгуем, – потупился Самсон. – Деньга деньгу ведет, так у нас говорят. Если ты мне еще власти дашь, завтра у меня в долгу пол-Киева будет, и даже ты ничего тут не сделаешь. А я не хочу. Я за Русскую землю хочу...
– За что? – полезли на лоб глаза князя.
– За Русскую землю, – еще тише ответил Самсон.
– Забирайте его и катитесь обратно, – махнул рукой князь.
– А недостачу нам когда покроют? – уже требовательно спросил иудей.
– Сегодня! Уйдете вы или нет?!!
Братья подхватили Самсона под руки и бегом вытащили из светлицы. Уже в поле, возвращаясь на Заставу, Илья спросил:
– А насчет пол-Киева в долгу – это ты врал или как?
– Не врал, – помотал головой Самсон. – Одно дело ведешь, на другое деньгу копишь, третье высматриваешь, про четвертое вынюхиваешь. Вот я и ушел. Не хочу всю жизнь в лавке стоять. Совсем ушел.
– Поди ж ты, – подивился Дюк. – А я уж думал тебя было в долю взять.
– Нельзя мне, Дюк Степанович, – повторил Самсон.
– Ну, нельзя так нельзя...
Сейчас Самсон, уже давно не отрок, стоял перед Муромцем руки в бока и, похоже, не знал, с чего начать.
– Ну... – сказал было иудей и вдруг шмыгнул длинным носом и, махнув рукой, вышел из шатра.
– Переживает, – прислушался Алеша к громкому то ли ржанию, то ли карканью. – Чувствительный. Ничего, сейчас вернется.
– Ишь ты, – покачал головой Добрыня, – вот уж не думал, что он так к тебе привязался.
– Что он, собака, что ли, привязываться, – обиделся Илья. – Просто человек так радуется.
– Ну, пусть радуется. Так зачем приехал, Илья Иванович? – И холодом вдруг повеяло в шатре от этих слов.
– Ты чего, Никитич, – ошарашенно повернулся к брату Алеша. – Он же к нам из поруба прямо... Чего ты?
– Из поруба? – криво усмехнулся Никитич. – Да от него гарью несет за версту. Нет, не прямо к нам Илья Иванович прискакал. Ездил он силу Калина поразведать, так?
– Так, – недоумевающе кивнул Илья. – А что такого-то? Силы у него – степи не видно...
– Вот то-то и оно, Алешка, – покачал головой Добрыня. – Зачем бы ему Калина сведывать? Воевать хочет Илья Иванович. И к нам приехал – на помощь Владимиру звать!
– Не Владимиру, а Киеву! – возмутился Илья.
– А что мне за дело до Киева? – зло вскинул голову Змееборец.
– Да ты что, Добрынюшка? – опешил Илья.
– Да понимаешь, Илья Иванович, – Алеша не смотрел в глаза брату. – Неохота нам головы за Владимира класть. Надоело. Сам говоришь, у Калина силы видимо-невидимо.
– Да вы что, братцы? – Илья не верил своим ушам.
Полог откинулся, в шатер шагнули Самсон и Казарин.
– Чего с дороги про дела говорить-то? – Степняк раскинул на коврах полотенце. – Поснедаем, меду попьем, а уж на сытое пузо и речи другие.
– Тут у нас всего вдоволь – шербет хорасанский, инжир мингрельский, изюм – ах какой! Вино хиосское, мед русский, а вот это с Колхиды – быка валит! – Самсон хозяйственно раскладывал снедь. – Садитесь, богатыри, таки в ногах правды нет, а с дороги гостя не накормить – за это Бог обидится, и шобы с нами такого никогда не было.
– Хорошо живете, богатыри. – Илья сел к столу, но к кушаньям не притронулся. – Откуда яства такие? Али Владимир вместо пшеницы со своего стола отправляет?
– Своим умом добываем, – спокойно ответил Добрыня, отправляя в рот горсть изюма.
– Да уж, ума вам не занимать, где уж мне. Не расскажете, что же вы такого изобрели, чтобы шербет да изюм к столу иметь?
– Ну, это просто, – оживился Алеша. – Как тебя, Илья Иванович, в поруб посадили, то мы в Дикое поле отъехали. Затем половина мужей с Рубежа на север по домам пошла. Людей у Владимира едва на порубежье хватает, а Днепр стеречь некому. Через то купцы от печенегов воем взвыли. А тут мы на порогах встали. Ну, и предложили купцам – за десятину До Киева доводим. Тем деваться некуда. Да, десятину берем с товара. Сам цену называй, сам плати. Сперва, было дело, пытались лукавить, за шелк назначали, как за холстину. Так мы тогда у них весь товар скупали по этой цене. О, как. А еще, как цену назовут, мы у них того-сего с той же пошлины и купим. Так что не только шербет – и одежа теперь не посконная, и сбруя да оружие в золоте!
– Стало быть, вы их грабите, да еще за это деньгу берете, так? – Илья уловил самую суть.
– А-а-а, – осекся Алеша.
– Умные вы – куда деваться, – покачал головой Муромец. – Небось ты, Самсонушка, измыслил? Всегда способный был...
– Почему сразу я? – сник Самсон. – Мы вместе с Дюком. Он говорил, в Дании давно уж так.
– А в Дании тоже вои пошлину берут или все же конунг датский?
– Ты, Илья Иванович, говорил бы уж прямо. От тебя хочу услышать, без догадок своих, куда ты нас звать явился. – Добрыня кинул в рот инжир, взял с блюда другой.
– Скажу, – спокойно ответил Илья. – Я явился звать русских богатырей на защиту Киева и всей земли Русской.
– Понятно, – кивнул Добрыня, наливая себе вина. – Стало быть, на помощь князю Владимиру.
– Да при чем здесь князь-то? – вскипел было Муромец и вдруг увидел глаза Добрыни.
Нет, не показалось ему тогда – пусты и тусклы были очи Змееборца.
– Ну что же. Я сказал, зачем приехал. А уж вы, будьте ласковы, дайте ответ. Времени у меня мало, Калин через день-два встанет под Киевом.
– Ответ... – Никитич покачал кубок, глядя, как играет темное, почти черное в сумраке шатра вино. – Ну, так вот тебе мой ответ, Илья Иванович. Я не пойду. И те, кто меня атаманом выбрали, – тоже. Хватит, навоевались. Думаешь, мы не знали без тебя о Калине? И знали, и говорили промеж собой. И решили, что нам до этого дела нет. Хочешь, мужей на площадь соберу? Они тебе то же самое скажут.
– Не надо. Если уж мне братнему слову не верить – то и жить незачем. Уговаривать не стану – я не отрок, вы не девки, вижу, решение ваше твердо. Но хоть скажите мне, богатыри русские, почему? Я, не вы, сидел в погребе глубоком, почему ж я обиды не держу, а вы Руси в помощи отказываете?
Богатыри мялись, лишь Добрыня спокойно допил вино и все так же тускло посмотрел на Илью.
– А я и отвечу. Посмотри на это на все, Илья, – он обвел рукой палатку. – А помнишь ли, как на попоне спали, плащом укрывшись, седло в головах? Как тюрю неделями хлебали? Как воевали и здесь, и на ляшской стороне, и в Югре, и в Чуди [29]29
Чудью называли некоторые прибалтийские народы, в частности эстов и ливов.
[Закрыть]? А ради чего, Илья Иванович?
– Чтобы на Руси спокойно было, – ответил Муромец.
– На Руси спокойно, – тихо повторил Добрыня. – Ну а что тебе, или мне, или Михайле за дело до Руси?
– Ну, так ты же русский?
– Я богатырь, – недобро рассмеялся Добрыня. – Тридцать лет я служил Руси, князю, Киеву. И другие служили. И вои по Рубежу. А что выслужили-то? Ладно, я роду богатого, у меня земли, села. А тебя хоть чем-нибудь пожаловали? Ну, вот состаришься ты, на коня сесть не сможешь, куда тогда? Думаешь, кто вспомнит о тебе? Никто, Илья Иванович. Да и ты ведь не помнишь тех, кто до тебя на Рубеже стоял!
– Не о том говоришь, брат, – глухо перебил Никитича Алеша. – Что мне села, земли, золото? Я перекати-поле, ни семьи, ни дома, мечом себе на вороге надуваню так, что попона на Серке бархатная будет, а подковы – вызолоченные. Мне другое душу палит.
Алеша в первый раз с начала разговора посмотрел в глаза Илье, и злой огонь был в его очах.
– А палит мне душу вот что, Илья Иванович. Хоть и защищаем мы землю Русскую, хоть и собираем дань для Владимира, корим ему языки неверные, а все равно, для него мы – мухи, ниже купцов да бояр толстых! За столом сидим ниже какого-нибудь Твердяты али гостя новгородского, мед нам в третью очередь несут. Помнишь Сухмана, брат? Ведь не выдержало ретивое, один против толпы пошел да и голову сложил. А Владимир что? Посмеялся разве что. Когда мы в Киеве, нам еще для виду хоть какой да почет, а как уедем, князь да бояре хвастают, что у Руси воев – хоть грязи мости! А за Владимиром и прочие. Ты не знаешь, сватался я десять лет назад к одной. Веришь ли, ради нее все забросил, ни на одну юбку не посмотрел бы. Другую бы умыкнул или соблазном свел, а тут свататься пошел. В ноги пал, обещал непотребства свои забыть, пуще ока стеречь. А мне что ответили? Ты-де человек воинский, ни кола ни двора, сегодня за княжьим столом ешь, а завтра в опале. Что за радость с того, что ты на Рубеже торчишь, а домой через месяц наезжаешь? И ведь ладно бы отец и мать, это она мне так ответила. В корчмах с нас втридорога дерут – вы-де, голь степная, себе еще награбите. На торгу ломят туда же, тебе-де торговаться невместно. Сами напьются – ножами режутся, по утрам по десятку покойников с улицы вытаскивают, а ты кому зубы выбьешь – ахти, опять богатыри буянят! Ну, сшиб ты тогда маковки с церкви, ну, поорал про князя. Ты же не печенегов на Русь навел! Сами спьяна город через раз палят – и ничего а тут – уймите буяна! Да когда конец на конец на кулачки выходит, больше покалеченных, чем если ты напьешься...
– А и еще скажу, – глухо продолжил Добрыня. – Как Ловчанин с Василисой [30]30
Богатырь Данило Ловчанин был женат на Василисе Нику-лишне, известной своей красотой и умом. По навету одного из бояр Владимир решил извести Данилу и жениться на Василисе. Против богатыря был послан отряд воинов, который Ловчанин перебил в жестоком бою. Тогда Владимир послал Добрыню Никитича и богатыря Никиту, родного брата Данилы, чтобы доставить в Киев и мужа и жену. Не желая сражаться с родным и названым братьями, Данило бросился на копье, а Василиса вонзила себе кинжал в сердце. Подругой версии былины, муж и жена пронзили друг друга мечами, чтобы не совершать самоубийства.
[Закрыть]мечами друг друга зарубили, чтобы со мной да с Никитой не дратися, дал Владимир слово свое княжеское – никогда боле одного богатыря на другого не натравливать. Никогда за русским богатырем русского богатыря на дурное не посылать! Мне он тогда сказал – иди-де, позови Илью Ивановича, он поди обиделся, уж я с ним помирюсь. А тебя в погреб бросили. И что получается – Добрыня брата в поруб привел!
– Как мы с Заставы отъехали, – тихо сказал Самсон. – Он, говорят, похвалялся: на них-де свет клином не сошелся, у меня серебра подвалы ломятся, надо будет, еще найму. Ну, таки пусть нанимает еще, кого найдет!
– Варяги тогда и снялись, – добавил Михайло. – Сказали – нечего тут делать, конунг своих мужей не ценит, значит, нельзя тут оставаться.
– То Владимир, а то – Русь, – горячо сказал Илья. – А простой люд? Бояре-то по селам на север сбегут, а мужику что делать? Неужто так оставим? Не вступимся?
– А что, простой люд за нас хоть раз вступился? – с нехорошей усмешкой ответил Алеша. – Когда Владимир подати поднял – чуть замятия не началась, со всех концов с дубьем бежали, на дружину бросались! А как вои отъезжать стали, кто-нибудь спохватился? Когда тебя в погреб бросили – или кто ко дворцу Владимира пришел тебя на волю требовать?
– Ну, так им от меня немало доставалось, можно понять...
– Да брось ты, Илья Иванович, – зло рассмеялся Самсон. – Таки доставалось – два забора обрушишь, три руки выставишь. А что ты на Рубеже годами стоял – это так, само собой, что ли?
– А может, и само собой, – Илья не знал, что еще сказать. – Мы же богатыри. Это же не просто так...
– А мне вот надоело, что само собой, – Добрыня отломил кусок шербета. – Я Настасью по полгода не видел, матушка седая – а я все на Рубеже. Сын без меня растет...
– Так что ж ты здесь тогда сидишь, а не дома, с матерью, да женой, да сыном?
– А тебе что до того? – Никитич искоса посмотрел на брата и словно невзначай откинул левую руку к мечу.
– Да вы что! – вскочил Алеша. – Илья Иванович, а ну брось это! Добрыня, Христом Богом прошу! Ну, хочешь – на колени встану? Вы что, братья?
Никто и никогда не мог понять, как могут ладить два таких разных человека, как Добрыня и Алеша, но не было среди богатырей дружбы крепче. Многое прощал младшему старший. Иные думали, что уж после обмана со свадьбой дружбе конец. Тогда Владимир отправил Добрыню переписать Югру да обложить данью. Год не было Змееборца, а как пошел второй, явился в Киев хмурый Попович и привез Владимиру заржавленный шлем Добрыни. Сказал, что нашел кости богатыря где-то далеко у Камня [31]31
Камень, он же Каменный пояс – Уральский хребет.
[Закрыть], схоронил, а сам поспешил в Киев. У Настасьи тогда первая седина в волосах заблестела, а Офимью Александровну горе выбелило до конца и согнуло уже навсегда. А Попович бил челом Владимиру, чтобы отдал тот вдову любимого брата Добрыни за него, Алешу, потому как никто сильнее его вдову не любит и не защитит. Ильи тогда в Киеве не было, поэтому Владимир, абы потешиться, дал согласие и назначил свадьбу через неделю вопреки обычаям божеским и человеческим. Услышав черные вести, Илья явился все же за день до свадьбы, но ни Владимира, ни Алешу отговорить не смог, мать Никитича лежала больная, а Настасья как обмерла от злой новости, так и не понимала даже, что происходит вокруг, позволяла наряжать себя, словно во сне. Наутро во дворце у Владимира собрался народ, жениха с невестой должны были вести к венцу. Настасья стояла как истукан, ничего не видя вокруг себя, да и Алеша был какой-то смурной, словно не жениться шел, а на похороны. Илья было пытался в последний раз отсоветовать, но тут двери вылетели с косяком, и стало ясно, что боле ничего говорить не придется. Сквозь каменную пыль к жениху шагнул живой и невредимый Добрыня. Одежа на Змееборце истрепалась, доспех был в дырах, но когда дружинники, думавшие было заступить ему дорогу, разлетелись по углам, всем стало ясно, что это не морок и не наваждение, а живой и сердитый русский богатырь. Настасья пронзительно вскрикнула и упала наконец в обморок, Владимир нырнул под стол, а Добрыня подошел к помертвевшему Алеше и тихо спросил:
– Ну? Что скажешь-то, брат?
Долго потом рассказывали в Киеве, как бил средний брат меньшого головой о кирпичат пол, да так, что только осколки кирпичей разлетались. Илья, сунувшийся было разнять, улетел в печь, разломав ее насовсем, и порешил, что тут соваться не с руки. Добрыня же, обозленный до крайности, стучал Алешкиным лбом об пол, обрывая ему кудри, и со страшной, мужской слезой орал:
– Ты для того у меня шлем выпросил? Ты это давно задумал? Ты же мать мою чуть в могилу не свел, гад подколодный! Ты Настасью на смех выставить хотел? Ну скажи, скажи хоть слово, почему мне тебя не убить здесь?
– Я ж... Я ж не так... Я жениться хотел, – прохрипел разбитыми в мясо губами Попович и лег в забытье.
Добрыня с минуту смотрел безумными глазами в окровавленное лицо младшего брата, а потом сплюнул, подхватил Настасью на руки и пошел домой. Илья, выбравшись из-под обломков печи, посмотрел на избитого жениха, валявшегося в луже собственной крови, покачал головой и унес его в гридницу. Три дня и три ночи провалялся Алеша в забытьи. На четвертый день пришел в себя и увидел заплывшими глазами над собой мрачное лицо Муромца.
– Слышать меня можешь? – спросило лицо.
– Сслышшу, – просипел Алеша.
– Ну, так слушай внимательно. Ни лаять, ни учить тебя не буду – тебя уж Никитич поучил. Я о другом печь веду. Ты не у Никитича жену свести вздумал. Ты Заставе в сердце нож вогнал. После Ловчанина дали мы друг другу клятву великую не замышлять друг на друга. Ты эту клятву порушил. От Бога будет ли тебе прощение – то не наше дело. Но если тебя Застава не простит – уходи, куда глаза глядят, боле ты нам не брат. А Застава тебя простит, если Никитич тебя простит. Потому, как встанешь, иди к нему проси прощения. Как ты того добьешься – это твое дело, но без прощения не возвращайся.
Алеша встал только через три недели. Уже октябрьский дождь зарядил над Киевом, когда Попович в одной рубахе пришел к воротам Добрынина терема и встал на колени прямо в грязь. День летел за днем, дождь все лил и лил, а Алеша, не шевелясь, не вставая, стоял в холодной грязи, повесив голову. Люди старались обойти его побыстрее, крестились, бабы и девки плакали украдкой. Богатырь стоял перед воротами братнего дома, ни крошки, ни капли во рту его не было, и глаз он ни на миг не смыкал. На десятый день Алеша как стоял, повалился лицом в липкую грязь, да так и не поднялся. Еще сутки пролежал он в грязи, когда ворота наконец открылись и на улицу ступил Добрыня в домашних портах и рубахе. Посмотрел на брата, махнул рукой и с душераздирающим вздохом взгромоздил тело на плечо. Погрозив кулаком зевакам, Змееборец унес Алешу в Дом. Попович провалялся в горячке до зимы, все это время за ним ходили Настасья и старая Офимья, когда же встал на ноги, никто не поминал ему ни словом. Словно и не было ничего, но с той поры на мужних жен он уже не смотрел.








