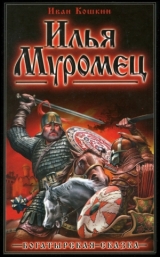
Текст книги "Илья Муромец."
Автор книги: Иван Кошкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
А раз так, то придется выводить горожан конными полками. Всей дружины при князе было шесть сотен, если считать и конюхов, в мирное время немалая сила, но сейчас – капля в Днепре. Однако то были люди воинские, и, расписывая горожан, Сбыслав со старшими дружинниками сразу назначали по десятку, по два под руку мечникам и детским, те хохотали, говоря, мол, князь каждого двором пожаловал. Мечников собирали в полки посадники и сотские.
Бояре, что владели на Руси вотчинами, сами жили в Киеве дворами, их, с родней и слугами, набралось до тысячи – в бронях, на добрых конях. Эти умели ударить византийским обычаем – тесным строем, длинными копьями, потому бояр князь назначил в свой Большой полк, им решать исход битвы.
А с Рубежа, понимая, что удержать крепости и замки Поросья против такой силы невозможно, откатывались к Киеву пограничные дружины. Загодя отправившие семьи на Русь, они до последнего следили за войском Калина и теперь уходили, поджигая за собой травы. Из степи сквозь огонь и печенежскую облаву прорывались уцелевшие дальние заставы, последним вышел сам-четверт Михаил Путятич, Владимиров племянник, что искал не чести у князя, а славы в чистом поле. Хоть уже не та стала теперь граница, все же собралось под Киевом почти четыре тысячи воев. И пусть лошадки у них были неказистые, а одежа – драная, мало кто на Руси мог потягаться с этими витязями, из года в год отбивавшими натиск степняков на Рубежи Киева. Пограничники Расположились на горе Сереховице, в стороне от общего стана, споро окопали вершину, пока начальные люди ездили доложиться Владимиру. Князь сошел с крыльца навстречу семерым порубежным воеводам, обнял каждого, пригласил в палаты и три часа держал с ними совет.
Сбыслав в отрочестве сам три года стоял в крепостице Девица, но он-то попал туда волей отца. Старый Якун, хоть и ославянился в Киеве, держался древнего варяжского обычая, и сыновья у него дома не засиживались, снарядив как должно, отправлял их северный коршун искать добычи, славы и ума. Старший брат Сбыслава тому восемь лет подался в Новгород, оттуда через море к варяжской родне. Последняя весть о нем пришла два года назад – новгородские гости видели Ингвара, тот стал дружинником датского короля. Где он сейчас режет волну и жив ли – того семья не ведала, но Сбыслав знал – брат добудет и чести себе, и славы роду.
Сам он остался на Руси, князю нужны были воины, и смелый человек мог добиться многого. Пятнадцати лет Сбыслав стал воем в пограничной дружине и три года провел, гоняясь за печенегами, вырастая от простого отрока до сотника. А когда в мутной ночной схватке печенежская сабля достала воеводу, юный рус собрал под прапор уцелевших и пробился к крепости. После этого Владимир забрал его в Киев, назначив в старшую дружину – большая честь для юноши, которому только стукнуло девятнадцать весен. Старый Якун на радостях задал пир на всю улицу, а для молодого воина пришло время показать себя перед князем. Старые дружинники, хоть и были витязями могучими и опытными, давно стали тяжелы на подъем, Сбыслав же брался за любую службу. Он смирял неверные языки, рубил идолов в глухих углах Залесья, давил мятежи, ходил в походы, приводя разные племена на русской окраине к покорности князю, а раз даже плавал в Царьград с посольством. То были тяжелые и опасные дела, не раз на кону стояла Сбыславова голова, но высока была и честь, и с каждым разом все ближе к Владимиру садился на пирах молодой витязь.
Не то с пограничниками – дружины крепостей Поросья стояли не за честь и не за славу. С женами и детьми они жили на границе со Степью, день и ночь уходя дозорами в бескрайнее травяное море. С весны начиналась горячая пора – вои рыскали волками, перехватывали малые шайки, отгоняли и били степняков. А если на Русь двигалась целая орда – зажигали огни на башнях, давая знак соседям и богатырской заставе, и тогда степь дрожала от поступи конницы, и орлы клекотом сзывали друг друга на добычу. Вдовели и сиротели на границе быстро, немногие вои доживали до седых волос.
С отъездом от Владимира большинства воев Сбыслав стал начальным в старшей дружине, где остались либо уж совсем старые старики, либо такие, как он, молодые да ранние, для кого княжая милость значила все. Якунич был не глуп и знал, что хоть и носит меч с золоченой рукоятью, хоть и сидит на пиру по праву руку от Владимира – далеко ему до Ратибора Стемидовича, что водил дружину до того, как князь рассорился с войском. Теперь Ратибор сидел в своем замке под Белгородом и в ус не дул, в длинный, до груди, сивый свой ус. Да и остальные старшие вои жили на Руси, в Залесье, Новгород и Полоцк никто не вернулся. Три дня назад гонцы разлетелись по русским городам, до каких успевали, всадники несли весть: князь выпустил Муромца из поруба, и Илья Иванович зла не держал, но встал в стремя за Русскую землю. Так и им бы, воинам русским, не сидеть на печи, а садиться на коней и скакать на выручку Киеву...
Пока Якунич думал невеселую думу, воеводы доложили Владимиру все, что знали о Калиновом войске. Вести были нерадостные – царь действительно собрал то ли семь, то ли восемь тем, орды шли широкой облавой, перегородив степь. Хотя через Днепр пока не переправились. Калин стягивал войско к Киеву, собираясь бить Русь в самое сердце, но время еще было. Князь посетовал, что воинов в Киеве – едва пять тысяч да двенадцать тысяч мужиков на конях. На это старший воевода, седой Умел Войков, спокойно заметил, что у печенегов тоже не каждый саблю и шелом имеет. Выходило, что бояться стоит телохранителей, что были при каждом хане числом от сотен до тысяч у самого хакана, да кованых степняков откуда-то с востока. Числом около тьмы они пришли под руку Калина из-за дальнего Заитилья. В этой тьме чуть ли не у каждого второго имелся доспех, шапки железные носили все, да и кони были добрые. Оставались еще и ханские ольберы – мужи великой силы и свирепости, но тут уж одна надежда, что Илья Иванович воротит Заставу.
Покончив держать совет, Владимир отпустил порубежников и приказал Сбыславу отправить им припаса, сколько надобно. С началом осады князь велел переписать хлебные запасы города, да чтобы не утаили ни меры. Княжьи люди пошли по дворам, двух больно хитрых хлебных гостей, задумавших прятать зерно, повесили для острастки на собственных воротах. Учтя все припасы, Красно Солнышко повелел, чтобы рожь продавалась не дороже гривны [47]47
Гривна – здесь денежная мера, в разное время гривной назывались куски серебра весом от 80 до 200 граммов.
[Закрыть]за кадь. В этот раз пришлось повесить шестерых купцов, решившихся нажиться в недоброе время. Заодно посадили на колья пятерых облыжных доносчиков, что попробовали свести свои обиды, обвинив честных гостей в тайной продаже хлеба втридорога.
Уже Сбыслав послал в амбары, велев грузить телеги зерном, когда во двор влетел на взмыленном коне отрок, крикнув на скаку, что старшины с Хлебного торга мутят народ, собираются поднять цену к пяти гривнам за кадь ржи. И тут князь наконец осерчал по-настоящему. Велев Сбыславу быть рядом, Владимир вызвал с Сереховицы две сотни порубежников. Когда вои прибыли, Красно Солнышко скоком повел их на торг, люди на улицах шарахались к заборам, видя оскаленный рот под золотым наглазьем шлема. Кто не успевал убраться с дороги – того топтали конями без жалости. Вылетев на торг, князь выхватил меч и с ходу зарубил двух старшин, сняв две глупые головы одним ударом. Люди ахнули, а Владимир, встав в стременах, окровавленным мечом указал на конников у себя за спиной:
– Слушай меня, кияне, – турий рев государя земли Русской перекрыл шум толпы.
Всем как-то сразу стало совсем понятно, что нужно слушать, пока князь еще соизволит разговаривать, а не рубит без слов.
– Калин залег на нашей земле за Днепром – с ним семь тем войска! И данью от него не откупишься, он пришел взять все!
Князь сдернул с головы шелом с подшеломником и сунул его Сбыславу. Молодой воевода вздрогнул – Владимир был страшен. Без шлема, без княжь-его венца густые волосы падали седой львиной гривой, глаза Красна Солнышка налились кровью.
– Потому нам один путь – драться, и пусть нас с ним Бог рассудит! Уже мужи киевские собираются в полки – и не одни вои, но и купцы, и черный люд, и попове, и монаси! Кто в поле ратоборствовать не может – пусть на стены идет, кому и на стены не встать – в церкви Божии, молиться за нас! Нам пить единую чашу!
Люди молчали.
– А кто из этой чаши пить не будет, а еще и зелья туда подсыплет, – уже спокойней продолжил Владимир, – тому я головы сниму, как вон этим снял. Хлебом мы воинов кормить будем, и женок их, и детей малых. А вы пять гривен за кадь ломить? Куда заберете гривны сии – в ад? Во тьму и скрежет зубовный?
Купцы и купчики повесили головы.
– Постыдились бы, – голос Владимира смягчился, стал укоряющим. – Ляшского конца купцы – ляхи, и фрязи, и варяги, товар свой задарма воинству отдали – мечи франкские, топоры, шеломы. Не за гривны, не за марки – так И сами дружину выставили. Жидовский конец амбары открыл: и хлеб, и мясо – все воям отдает. А вы? Крестов на вас нет?
– А чего крестов? – донесся из толпы голос, полный тупой, тяжелой злобы. – Наш хлеб! Наш! Сами его покупали, сами теперь продадим, за сколько захотим! И ты нам тут не указ! Купцы всем нужны, с Калином ужо как-нибудь договоримся.
Большинство торгового люда молчало, но некоторые согласно загомонили, словно и не князь стоял перед ними, и не две сотни бывалых воев. Сбыслав услышал нехороший, глухой скрежет и понял, что это скрипят его зубы. Он и не заметил, как, толкнув ногами коня, стал наезжать на толпу, в руке вдруг оказался голый меч. Гости зароптали, их было не так много, сотни полторы, меньше, чем порубежников, но, видно, доброта да ласка Владимира, что последние годы привечала торговых людей сильнее, чем своих дружинников, вскружила им голову. Теперь они, брызгая слюной, уставив брады, орали на оборуженных мужей, в гордыне и неразумии отказываясь понимать, что князю только бровью шевельнуть, а шелка и заморское сукно от сабель и мечей не защитят. Словно и не валялись в пыли два безглавых трупа. Даже не переметнические речи, не своекорыстие рассердило Сбыслава, а эта глупость: купцы уподобились гусям, что выступают важно, не ведая, что на поварне уже точат ножи. Скалясь от лютой злобы, Якунич поднял меч, выбрал первого – вон того, толстого, в дорогом фряжском кафтане... Боевой конь вдруг встал намертво, заржал, и воевода, оборотившись направо, увидел, что его жеребца держит под уздцы сам великий князь.
– Ты чего это, Сбыслав? – На лице князя уже и следа не осталось от былой ярости. – Или я тебе рубить кого приказал? Ну-ка, убери меч.
– Княже, – пробормотал Якунич, осторожно опуская фряжской стали оружие.
– Меч в ножны вложи, воевода, – спокойно приказал Владимир. – Вот так.
Он отпустил присмиревшего Сбыславова жеребца и полез за пазуху, купцы настороженно следили за великим князем. Красно Солнышко вытащил кусок чистого холста и, положив на него свой клинок, тщательно оттер сталь от крови. Бросив холстину на землю, Владимир усмехнулся и тоже вложил меч в ножны.
– Ну что ж, господа торговые гости, раз ваш – так ваш, – князь развел руками, словно прося прощения, затем повернулся к порубежникам: – Улеб! А иди сюда, удалой добрый молодец.
Воевода Улеб был и впрямь молод и удал, через все лицо нес глубокий след степной сабли, но вот добрым его называли разве только в шутку. Потеряв в боях отца, братьев, а потом и жену, сбитую с заборола крепости печенежской стрелой, витязь ожесточился до крайности. Пуще всего боялись степные налетчики попасть живым к людям Улеба. Если воевода хватал по дороге на Русь – то просто бил, а пленных продавал в Киеве. А вот когда настигал на обратном пути – пощады не было, рубили всех, и тут уж надейся только на резвость коня. А уж когда ловил с полоном – тут и вовсе зверел воевода, рассаживал пленных на колья или разрывал конями.
Невысокий, широкоплечий, с длинными руками, Улеб сутулясь сидел на маленькой степной лошадке, ничем не отличаясь от своих порубежников. И короткая, едва прикрывающая причинное место кольчуга, и простой, клепаный шелом без бармицы [48]48
Бармица – кольчужное или чешуйчатое прикрытие шеи. крепящееся к шлему.
[Закрыть]– все было такое же, как у простых воев, слева у седла висел круглый щит, справа – большой тул с тремя сулицами. Улеб был муж красивый, даже шрам лица не портил, но смотрел как-то нехорошо, недобро.
– Ты Илье жаловался, что в прошлый год тебе рожь порченую привезли? – ласково спросил князь.
– Я, княже, – коротко ответил воевода.
– Илья говорил, у тебя даже потравился кто-то? – так же участливо продолжил Владимир.
– Вся крепость маялась, – голос Улеба ничего не выряжал. – Трое воев померли, да две женки, да детишек пятеро.
– Охти, горе, – Красно Солнышко говорил так искренне, что Сбыслава передернуло.
Владимир помолчал, затем медленно протянул руку, и новая тяжесть зазвучала в его речах:
– Так вон твой обидчик, Улеб!
Толпа качнулась назад, и все тот же тупой и злой голос крикнул:
– А я что? Почем знаете, что моя рожь? Не докажете! – На этом бы дураку и стоять, да спесь и тут подвела, и гость [49]49
Гость – «торговый гость», купец.
[Закрыть]продолжил: – А если и моя – что, заплачу, как за огнищанина [50]50
Свободный крестьянин, расчищающий себе поле в лесу и выжигающий срубленные деревья.
[Закрыть], по пяти гривен!
– За воя, как за огнищанина? – зло спросил Якунич, но тут же умолк, когда на плечо легла тяжелая рука.
– Не вмешивайся, – тихо приказал великий князь, улыбаясь по-волчьи.
– Платить мы сами будем, – Улеб говорил негромко, но на торгу вдруг установилась тишина, и воеводу услышали все. – Один из воев моему меньшому братику сам крестовый брат был. Не чужой человек, а раз мой Олеша в степи от печенежской стрелы лег...
Он повернулся к Владимиру и взглянул на князя тяжело, словно говоря: «Не спрашиваю, княже, почему, раз знаешь о порче, он у тебя не сам по себе гулял, но теперь-то?»
– Государь, великий князь Стольнокиевский, дозволь месть творить за побратима? Он твоему дружиннику Сфену третий сын был, так и тебе не чужой.
– По Правде будешь месть творить, Улеб? – спросил князь, а глаза ответили: «Почему гулял – то мое дело княжеское, но теперь я ему не защита».
– По Правде, по закону, при свидетелях [51]51
По Русской Правде, восходящей к более древним кодексам, подтвержденное убийство из мести наказывалось значительно мягче, чем обычное убийство, и штраф, вира, за него был меньше.
[Закрыть], – кивнул воевода, затем открыл переметную суму и достал веревку с тремя деревянными бляхами. – С того дня все время при себе держал – печать торгового гостя Гордяты, с тех мешков. По Правде и при свидетелях – он своей рожью спорынной сгубил трех воев: Ингелда, сына Сфена, Волчка, сына Луша, Ефима, сына Агила, да двух женок, да детишек пять.
– Он в твоей воле, отдаю головой, – громко сказал князь, и толпа ахнула. – Буде захочешь, чтобы тебе потом не мстили, – заплатишь родне пятьдесят гривен, а нет – они тоже в своей воле.
– Может, заплатим, – усмехнулся криво Улеб, – а может, и нет – пусть мстят. Дверята, Гордей!
Двое воинов, снаряженных точно как воевода, выехали из рядов.
– Берем его, – коротко приказал Улеб.
Никто и глазом моргнуть не успел, как три всадника рысью вломились в толпу, расталкивая людей конями и лупя налево и направо тяжелыми плетями. Послышались вопли, ругань, а порубежники уже развернулись и вылетели обратно, Дверяга и Гордей волокли за руки толстого бородатого гостя в дорогом кафтане, отороченном, несмотря на жару, собольим мехом. Подъехав к своим, они спрыгнули с коней, сдернули с седел арканы и принялись то ли связывать, то ли еще что делать с вопящим и вырывающимся купцом. Тем временем Улеб медленно осмотрелся и, толкнув коня ногами, подъехал к Велесову столпу.
В давние времена на торгу стоял идол Велеса, вырубленный из целого дуба. Когда Киев крестился, старых богов покидали в Днепр, но Велес намертво врос корнями в киевскую землю, потому князь просто велел стесать деревянный лик, а столп остался. Так уж повелось, что для крепости сделки гости – и русские, и заморские – били по рукам возле столпа, у него же выкликали должников и нечестных купцов. Улеб объехал вокруг столпа, уперся в него рукой, затем кивнул и обернулся к своим людям:
– Этот подойдет. Разгоняться вон оттуда будете, – он указал в сторону горы, что поднималась за Пирогощей. – Под горку споро пойдете.
Порубежники расступились, давая дорогу, Дверяга и Гордей уже закончили с купцом и бежали к коням. Теперь Сбыслав видел, что хлебный гость Гордята привязан за ноги крепкими волосяными арканами, и концы тех арканов тянутся к седлам пограничных коней. Якунич вспомнил, что говорили люди о воеводе Улебе, и почувствовал, что волосы под шлемом встают дыбом. Купец, видно, тоже почуял, что его ждет, и завизжал тонко, пытаясь развязать толстыми пальцами крепко затянутые узлы. Толпа безмолвствовала, что гости, что простые кияне, пришедшие на торг за известиями о хлебной цене, в оцепенении смотрели, как порубежники готовили страшную степную казнь.
– Не добро творишь, княже! – завопил Гордята.
– Да разве это я творю? – удивился Владимир. – Это Улеб тебе мстит, мое дело сторона. Оно, конечно, злым обычаем, ну так за то ему перед Богом ответ держать, не мне.
– Нет такого закона – купца головой выдавать! [52]52
То есть выдавать на смерть.
[Закрыть]– выл богатый гость.
Гордей и Дверяга развернули коней.
– Это просто к слову пришлось, – объяснил Красно Солнышко. – А мстить – это по Правде, сам же признал, что рожь твоя, а раз твоя – ты убийца.
– То не по умыслу было, нечестно! – кричал купец, пытаясь встать.
Порубежники тронули конские бока коленями, и Гордята рухнул в пыль.
– Ну, если не по умыслу, то я за тебя виру в два раза больше положу, – крикнул вслед всадникам Владимир. – Сто гривен Улеб заплатит!
Гордей и Дверяга ехали шагом по подъему, для того чтобы, не рвя лишний раз жилы, поднять коней вскачь, надобно шагов триста-четыреста, так что жизни купцу оставалось – туда рысью, обратно скоком. Владимир размашисто перекрестился и громко сказал:
– Через жадность свою купец Гордята живота лишается, – и добавил почти грустно даже: – А в том вины моей нет.
Видно, хлебный гость услышал слова князя, потому что изогнулся и, захлебываясь пылью, завопил:
– По три! По три гривны кадь отдаю!
– Бог с тобой, – покачал головой князь. – В последний миг торговать рядишься, на что тебе эти гривны на том свете. Давайте, молодцы, не весь день тут стоять, дел еще – не переделать.
Гордята хватал руками песок, вот всадники въехали на бревенчатую мостовую – осталось проехать двести шагов.
– По две гривны, княже! – что есть мочи кричал почуявший смертный страх купец. – По две!
– Ты бы помолился, пока время есть, – звучно и печально ответил Владимир. – Хоть «Отче наш», как раз успеешь.
Конники неумолимо приближались к церкви – оттуда прямой разгон до столба. Сбыслав, повидавший всякого, стиснул зубы: одно дело снять головы переветникам и крамольникам, даже на кол посадить – это ничего, тут князь в своем праве. Но отдать купца, пусть и такого, как Гордята, на лютую, еще обрева [53]53
Обры, т. е. авары. В Начальной русской летописи описана звериная жестокость обров по отношению к завоеванным ими славянам.
[Закрыть]обычая расправу – от этого мороз продирал по коже. Молодой воевода вспомнил из детства, как захмелевший Якун, бывало, начинал рассказывать про старое, лихое время, когда он ходил под рукой юного князя, замиряя и собирая Русскую землю. Тогда матушка, а потом и нянюшка уводила маленьких Ингвара и Сбыслава из горницы, в которой мужи гремели братинами [54]54
Ковш для хмельных напитков.
[Закрыть], хохотали, вспоминая, как кони, бывало, ходили по бабки во вражьей крови. Старый, лютый обычай правил тогда от Днепра до Ильменя, брат шел на брата, сдавшимся не давали пощады. Якуничу приходилось проливать кровь в бою, случалось и казнить, хоть и не любил он этого и старался сделать быстро: камней за пазуху – и в воду или на березу за шею. Здесь было иное – вспоминались глухие, страшные рассказы о судьбе несчастливого Игоря и кровавой мести Ольги. Бог не велел убивать, но раз уж без этого не обойтись – так хоть бы делать это споро, не затягивая... Сбыслав скосил глаза в сторону князя: Владимир улыбался, но как-то странно, казалось, князь чего-то ждет.
Порубежники развернулись у церкви и пустили конец легкой рысью.
– Гри-и-и... Грииивну!!! – завыл Гордята.
Князь снова перекрестился, в толпе послышались вздохи, одни крестились вслед за Владимиром, другие отворачивались, третьи, наоборот, смотрели во все глаза, радуясь нежданной забаве. Дверяга и Гордей разгоняли коней, купец молотил руками, ругался, затем вдруг последним усилием вскинул голову:
– За две ка... Кади! Гривну!
– А ну стой, – рявкнул Владимир.
Голос князя был особенный, и порубежники разом осадили коней, перешли на шаг и остановились. Красно Солнышко медленно подъехал к лежащему в пыли купцу, Сбыслав держался сзади слева от государя. Гордята был жалок – и следа не осталось от былой спеси, богатый кафтан растрепался, нательная рубаха задралась, открыв белое брюхо. По лицу гостя, серому от пыли, текли слезы, промывая мокрые дорожки.
– Ну что, Гордята? – ласково спросил князь. – Что сказать хотел? Я немолод уж, слышу плохо. По сколько рожь отдаешь?
На лице Владимира была все та же усмешка – злая, волчья, и Сбыслав вдруг догадался – да это же все игра! Скоморошество! Красно Солнышко пугал дурных купцов, чтобы не думали наживаться, пока город в осаде, он и зарубил-то не самых тороватых, а самых крикливых. Но, присмотревшись внимательней к своему господину, воевода понял еще: вздумай Гордята сейчас упираться, Владимир махнет рукой, и купца разорвут на две половины.
– По гривне... За три кади, – купец был неглуп.
– А? – князь наклонился, приложив руку к уху. – Не слышу я, говорю ведь – стар совсем, не тот я. По сколько кадей-то? Пять?
– Пя... – Гордята и впрямь был умен, а не просто тороват. – За так отдам, княже. Как печенеги у ворот стоят – за так отдам, воям, да жинкам, да деткам. На тот свет гривны не заберешь...
– А что с Калином, раздумал договариваться? – так же улыбаясь, но тихо, одному Сбыславу слышно, спросил Владимир.
– Раздумал, княже, – толстые губы купца исказила такая же усмешка. – Вот подумал сейчас – и раздумал. Потому – грех это.
– Вон как, – лицо князя лучилось отцовской добротой. – А и рад же я, Гордята, вот не поверишь – плакать хочу, не каждый день видишь, как человек свой товар вот так, за Русскую землю отдает.
Он помолчал, и вдруг разом уже не только оскалом стал похож на волка, прорычав:
– А если ты, собака, еще хоть раз мне поперек слово молвишь, хоть раз, я не только тебя – весь твой род сперва у тебя на глазах конями порву. Понял меня?
Гордята кивнул, челюсть купца дрожала.
Князь выпрямился и повернулся к порубежникам:
– Улеб!
Воевода смотрел все так же холодно, равнодушно, но Сбыслав вдруг заметил, что костяшки пальцев витязя побелели – так сжал он поводья. «Охти нам, – со странным спокойствием подумал Якунич. – Нельзя так с людьми, с огнем играешь, княже!»
– По Правде я могу выплатить виру за убитых, – Владимир устало провел рукой, приглаживая седые волосы. – Ты прости, не время мстить. За воев плачу пятьдесят гривен, за жен – по двадцать, за детей – по пять.
Толпа ахнула – за безвестных пограничных воев князь давал виру, как за старших дружинников, за жинок – как за детских, а за малых детей, как за взрослых огнищан – о такой щедрости никто и помыслить не мог.
– Прости, что обманул, не выдал тебе обидчика головой, – продолжал Владимир. – Возьмешь виру?
– Бог простит, – коротко ответил Улеб. – А виру возьму, благодарствую, княже.
От церкви уже скакали с грохотом дружинники, посланные кем-то из бояр вслед неистовому князю Владимир забрал у Сбыслава шлем, надел подшлемник, затем возложил на голову боевое оголовье.
– Сбыслав...
Наглазье скрывало верхнюю половину лица, от этого глаза Владимира смотрели словно из мертвого черепа, но Якуничу показалось, что князь безмерно устал.
– Езжай с Улебом, возьми воев – на дворе Гордяты из амбаров заберите хлеб, но и только, на поток [55]55
Отдать на поток – позволить каждому заходить во двор и брать все, что угодно, одна из форм наказания в Древней Руси.
[Закрыть]я его не отдаю. Потом ко мне во дворец, возьми двух дружинников, отвезете виру Улебу. Закончишь – ко мне скачи, у меня к тебе дело будет. Улеб!
– Княже? – пограничник повернулся к Владимиру, снова обычно равнодушный.
– Сколько вам на роздых нужно?
– Да нам-то что, – пожал плечами воевода. – Мы – люди, мы привычные. Коням бы хоть до следующего утра отдохнуть – а то ведь хромать начнут, на все четыре ноги спотыкаться...
– До утра отдыхайте, – кивнул Владимир, – после – дело к вам будет, остальным то же передай.
Князь развернулся и рысью пустил коня к Детинцу, за ним пошли дружинники.
– Ну, боярин, – Улеб посмотрел в глаза Сбыславу. – Знаешь, где двор этого кособрюхого?
– Я сам покажу, – влез было Гордята, но оба воеводы так глянули на него, что торговый гость захлебнулся словами и откачнулся назад.
– Где Хлебный конец, я знаю, – сказал Якунич. – А там спросим. Поехали.
– За мной, – обернулся к своим людям Улеб и, тронув коня коленями, поехал рядом с княжим дружинником.
Толпа расступилась, и порубежники нестройно, но споро и в порядке двинулись за воеводами.
– А ты меня не помнишь, боярин? – спросил вдруг Улеб.
– Что? – Сбыслав, погруженный в свои думы, не сразу нашелся, что ответить.
– А я тебя помню, – ответил порубежник, сняв шелом и перекрестившись на маленькую церковку в переулке.
– Откуда же? – Якунич всмотрелся в пограничного воя – что-то и впрямь было знакомое в этом широком, скуластом лице.
– Четыре года тому назад, забыл, печенеги нас прижали? Батюшку моего тогда срубили, так ты всех вокруг прапора собрал и к ????Девице пробился. Память отшибло, боярин?
– Ты?
Сбыслав словно опять был там, вспомнил-увидел, как падает в высверке молний убитый воевода, три года заботившийся о нем, словно о собственном сыне, как мечутся взятые в кольцо вои. И снова на глаза попался отрок в не по голове большом шлеме, что поднял срубленный вместе со знаменным маленький стяг, а на стяге в бледных предрассветных сумерках уже можно разобрать лик девицы с большими печальными глазами и золотым ободом вокруг чела...
– Вспомнил, – удовлетворенно кивнул порубежный воевода. – А я тебя сразу узнал.
– А тебя и узнать нельзя, Улеб, я грешным делом подумал – тебе три десятка, – покачал головой Сбыслав. – Когда я в Киев уехал – ты мальчишка совсем был, а теперь вон дружиной начальствуешь. Давно?
– Два года, – коротко ответил порубежник. – Полгода знаменным, потом в подручных у Лушка, а как тот голову сложил – воеводой стал я.
– И старшие вои не перечили?
– А с чего бы им? – Улеб перекрестился еще на одну церковь. – Тебе-то вон старшая дружина подчиняется, и ничего.
– Да какая дружина, бог с тобой, – зло ответил Якунич. – Из старых воев едва четверть осталась, да и то не лучшие! Я только по названию воевода, ни опыта, ни навыка! Вот Ратибор Стемидович – тот воевода был...
– Ратибор Стемидович, слов нет, достойный муж, – кивнул Улеб, кланяясь проходящему по улице могучему попу с боевой рогатиной [56]56
Боевая рогатина – тяжелое пехотное копье с очень широким и длинным наконечником, заточенным с обеих сторон. Рогатиной можно было и колоть, и рубить.
[Закрыть]на плече. – Только что ж он сейчас не в Киеве?
Поп в ответ перекинул оружие на левое плечо и степенно перекрестил воев. Сбыслав торопливо сдернул шлем и тоже поклонился.
– А то ты не знаешь? – зло повернулся к Улебу Якунич, когда поп остался позади. – Ратибор в Белгород отъехал.
– Да-а-а, ну и жизнь у дружины, – подумал вслух пограничник. – Хотим – служим великому князю. А как что не по нраву – сели на борзы комони и по домам поехали, по вотчинам. Не люб нам, значит, князь...
Сбыслав промолчал – ответить тут было нечего, никто из порубежников своей крепости не кинул.
– А ты сам, боярин, почему остался? – как бы между делом спросил Улеб.
– А мне ехать некуда, – честно ответил Якунич. – Вотчины я себе не выслужил, чести мне от князя пока немного было. Домой вернуться – так отец на пороге прибьет, он старый пес, варяжский. Так что, как ни кинь – все одна дорога, с Киевом да князем, а Владимир что-то никуда не собирается.
– Это да, это не отнимешь, – согласился Улеб. – А далеко этот ваш Хлебный конец?
– Да уж приехали, сейчас спросим, – ответил Сбыслав и, повернувшись в седле, крикнул девушке, заглядевшейся из окна на могучих витязей: – Эй, красавица, где тут дом торгового гостя Гордяты?
Амбары купца оказались забиты зерном доверху тут не одна и не сто кадей, а как бы не две-три тысячи, целое богатство, урожай многих сел. Выставив стражу, вызвав двух молодых дружинников, Сбыслав велел гнать с великокняжеского двора подводы, а дворовым – грузить рожь. Улеб отправил своих порубежников обратно на Сереховицу, и теперь воеводы сидели рядышком на бревне да посматривали, как воз за возом уходят со двора.
– Я вот все спросить хотел... – начал Сбыслав со странной для самого себя неуверенностью, – про рожь спорынную – это правда?
– А ты как думал, я просто так бирки с собой вожу? Кабы он мне просто на торге или в степи встретился – зарубил бы, а потом объявил, что мстил за побратима. – Улеб потряс кожаную флягу, зубами выдернул пробку и сделал несколько глотков. – Хочешь? – он протянул флягу Якуничу.
– А что там? – спросил Сбыслав, осторожно принимая питье.
– Ну не мед [57]57
Мед – здесь хмельной напиток, приготовляемый, опять же, на основе меда.
[Закрыть]же, воевода, – расхохотался порубежник. – Вода, а что ж еще.
– Благодарствую, – ответил дружинник и тоже глотнул пару раз.
Вода была хорошая, не из мутного степного колодца – из речки или старика с ключами на дне. Оба помолчали, Сбыслав закрыл флягу и вернул ее Улебу.
– Неладно тогда князь с тобой расчелся, – нарушил молчание дружинник. – Не по Правде это – сперва дать волю мстить, а потом запретить.
– Да не давал он мне воли, – вяло сказал Улеб. – Как вызвал, сказал: «Делай, что велю», и сразу на торг. А уж на торгу – думаешь, я совсем дурной? Я потому и велел разбег такой длинный брать, обычно ста шагов хватает, если об столб бить... А серебро я вдовам да сиротам нашим раздам – будет с чего зиму жить, если, конечно, дотянем до нее, до зимы-то.
Оба снова замолчали. Дожить до зимы будет трудновато – семь тем есть семь тем. Амбары медленно пустели, Сбыслав закрыл глаза, радуясь первому за пять суток отдыху.
– Боярин... – окликнул порубежник.
– Я ж говорю – не боярин я, – не открывая глаз, ответил Якунич. – Ни вотчины, ни двора своего. Зови Сбыславом. Или Сбышком, мы же погодки почти, твой отец мне за дядьку [58]58
Дядька – воспитатель знатного мальчика, обучавший ребенка владеть конем и оружием, охотиться и т. д., а также бывший его телохранителем. Улеб намекает Сбыславу, что хотя тот высок родом, но Радослав у него в услужении не был.
[Закрыть]был.
– Моему отцу нечего делать было, как у тебя в дядьках ходить, – устало огрызнулся воевода. – Ладно, тогда ты меня Лютом зови. Улебом никто уже не кличет, я и забыл, что меня так звали. Даже свои вои в глаза «Лют» говорят. Так ты как думаешь, Сбыслав...
– Ну как... – Так и не дождавшись продолжения, Сбыслав открыл глаза. – Головой думаю, как батюшка учил.
– Веселый ты – сил нет, – с досадой сказал Улеб. – Я не о том...
Он снова умолк, словно задумавшись о чем-то.
– Ладно, чего там... – ответил Якунич, наблюдая за муравьем, что утащил в суматохе малое зернышко и теперь волок его куда-то по бревну. – Киев не отстоим, так я мыслю.
– Тебя ворожбе не учили ли? – вроде и не в шутку спросил Улеб. – Я и не сказал – а ты уже ответил.








