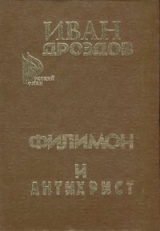
Текст книги "Филимон и Антихрист"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Глава третья
В доме Филимонова Ольге суждено было испытать потрясение, которое чуть не лишило её чувств: в кабинете Николая Авдеевича она подсела к письменному столу, раскрыла лежавший на нем альбом семейных фотографий и на втором или третьем листе увидела свой портрет, любовно обведенный рамкой. «Боже мой! Мой портрет! Он меня любит!..» Но такая мысль ей пришла лишь на мгновение.
Затем наступило прозрение: в чертах лица, более юных и, как она думала, более нежных, чем её черты, во взгляде круглых и больших глаз было то же выражение, что и у неё, но было и отличие, она ясно видела, но не умела объяснить; наконец, одежда была не её, совершенно другая: белая кофточка и бантик, и крылья воротника чёрненькой тужурки – всё не наше, из другого времени, былого, давно отлетевшего.
Филимонов вёл её в другие комнаты; прошли по узкому коридору, ступили на порог гостиной, залитой светом, обильно отражённым первым снегом, открывшейся синевой небес, бегущим по низкой орбите солнцем, – всё в комнате ликовало, тянулось навстречу гостье, но Ольга ничего не видела, она пребывала в том полусознательном состоянии, когда только одна, потрясшая душу мысль сверлит ум и сердце. Женщина как две капли воды похожая на неё! Кто она?
– Кто та девушка? Она так на меня похожа!
– Моя любовь. Неразделенная, несчастная, но – любовь.
– И что же? Почему вы не вместе?
– Сказал же тебе: неразделённая. Я любил её, а она… другого. И теперь с ним, в Лондоне. Он – дипломат. И, кажется, они счастливы. И слава Богу. Я даже рад за неё.
Ольга, сидя у окна и глядя на падающий снег, подумала: «Он и в этом – блаженный. Жизнь и здесь повернулась к нему спиной».
Вечером снег пошёл обильнее: с тёмного неба в полном безветрии стали медленно падать крупные лохматые снежинки, – сначала вяло и редко, словно с неохотою приближались к земле, потом снежинки набухали, веселели, – так хоровод, набираясь задору, всё громче и чаще рассыпает дробь каблучков, всё резвее и прытче ускоряет бег, и вот уже закружился во всю силу молодого жара, завертел, завьюжил многоцветьем сарафанов.
Вышла Ольга на крыльцо, запахнулась плотно полушубком, – от него стружкой сосновой пахнет, клеем древесным, лаком, а тут и запах снега в ноздри бьёт, – ух, хорошо-то как на природе! Век живёт тут Николай Авдеевич. Красотища!
Филимонов из дома не выходит, сидит за письменным столом, работает. Он и Ольге новые статьи по математике подобрал – специально для неё в журналах отметил, да не стала их читать Ольга. Не хочет она нынче, да и не может. Вышла за калитку, подставила лицо снегу. Падают снежинки, а ей не холодно. Пылают щёки, горячо и сильно бьётся сердце.
Боже мой! Бывает же такое сходство!
Рада Ольга, что судьба не тронула мир, которым она живёт: не бросила тень на горящую перед ней радугу, не приглушила тихую, стройную музыку – весь тот поток красок, звуков, тайных и живительных ощущений, который сводится к одному слову, к одному ясному и простому понятию: Филимонов. Нет, не любовь это и не дружба, не та обыкновенная человеческая привязанность, которая соединяет двух близко живущих и работающих людей, – не знает, не может объяснить Ольга своего к нему отношения, одно только она ощущает всем сердцем: он нужен ей постоянно, как свет, как льющееся с небес тепло.
Подсознательно, помимо своей воли она чувствует себя и спокойно, и уверенно оттого, что есть на свете Николай Авдеевич. И как бы ни складывались его жизненные обстоятельства, она всегда с ним, а ему порой бывает очень плохо, например, сейчас. Все против него. Зяблик, взявший силу над всем институтом, ждёт только подходящего случая, чтобы с ним разделаться; Шушуня от него отвернулся; Галкин предал – да, да, он заложил своего учителя и друга за чечевичную похлёбку, это она видит, слышит сердцем.
И как на грех в делах нет никакого просвета. Нет надежды на скорое завершение расчётов. Он молчит, он опустил руки – последнее время даже отступился от компьютера, вновь занялся статьями в иностранных журналах. Стал говорить: его интересует теория, только теория. Видно, потерял надежду исправить расчёты. Ну и что? Разве от неудач, от почти безвыходных обстоятельств он стал слабее? Неинтереснее? Разве Ольга, как только его завидит, не чувствует в себе прилив сил? И спокойствия? И какой-то обстоятельной негасимой уверенности в самой себе, в том, что всё будет хорошо, всё наладится, всё наполнится светом и счастьем?
Ольга вернулась в дом, Николай Авдеевич всё читал статьи в иностранных журналах; вот что её восхищало в нём – трудолюбие, сила духа, он без устали шёл вперёд, всегда был в пути, в поисках тайн, одному ему ведомых законов математики; приблизилась к нему неслышно, склонилась на плечо и вдруг… расплакалась. И плакала она, и тряслась, как в лихорадке. Филимонов не удивился, отвёл её в свою спальню, уложил в постель и налил валерьяновых капель.
– Успокойся, Оленька. Ну, на что это похоже! Ты всегда была такой сильной.
Она улыбнулась и вытерла кулачком слёзы. Николай Авдеевич понимал: это были слёзы радости. «Он всё понимает; как это хорошо, если тебя кто-то понимает», – подумала Ольга и вздохнула, ей стало хорошо и покойно. Она смотрела в его серебристо-серые ласковые глаза и находила в них обычную для него блуждающую лёгкую смешинку, – боялась, как бы она не пропала, не подёрнулась облачком грусти и заботы.
– Будем спать?
– Спать, – кивнула она.
Взял руку Ольги, прислонился к ней щекой, и был этот миг коротким – Ольга его почти не заметила.
За окном синяя ночь, и снег идёт – лохматый, ленивый. И мысли текут вялые, невесёлые.
Двадцать шесть лет ты живёшь на свете – старая дева, перестарок; прежде тебя так бы называли и жалели, провожая взглядом, пускали бы вслед словечки, полные не то злорадства, не то сочувствия: не задаётся жизнь, мается в одиночестве, сердешная. И добро бы порченая какая или с лица уродливая – всем взяла девка, а судьба не задалась, уздечка со счастья соскочила. Сколько их было – женихов, воздыхателей – всех охладила насмешливой улыбкой, обидным словом. Уж не снегурочкой ли ты родилась, Ольга? Вот придёт весна, и растает снег, и превратится в холодный ручеёк красавица. И никто не вспомнит о ней, не поплачет.
Не может разобраться в своих чувствах к Филимонову. Тянется к нему всей душой, на работу бежит как на праздник. И всё-то в нём мило и забавно, даже сами слабости и недостатки. Простоту его любит, переходящую иной раз границы разумного; прямоту, раздражающую начальство, почти детское простодушие.
«А ведь не мужчина он! – явится иной раз отрезвляющая мысль. – Не годится ни в начальники, ни в учёные, ни в мужья. Щёлкает задачки, как белочка орешки. Блаженный!»
Страшно ей станет за Филимонова и хочет забежать вперёд, раскинуть руки, закричать: «Стойте, люди! Пощадите! Он хоть и взрослый, а всё равно, что дитя малое. Будьте милосердны!»
В другой раз удивится упорству Николая Авдеевича, трудится он самозабвенно. Его теснят, над ним смеются, другой бы от злости лопнул, а этот… Сказал как-то: «Ты, Оля, проще относись к козням людей. Со временем они станут лучше». «Кто – они?» – не поняла Ольга. «Люди», – сказал он тихо.
Жил в мире, созданном воображением. В нём черпал силы. И ни одна живая душа не знала о существовании этого мира. И только Ольга, разглядывая на его лице сжатые усилием воли морщинки, стремясь постичь суть борений, каким-то особенным чувством улавливала напряжение его мыслительной работы, ярость творческого порыва.
В такие минуты он казался ей богатырём духа; она верила Филимонову, готова была пойти за ним на край света. Но калейдоскоп пёстрых вседневных дел ежечасно сбрасывал его с заоблачных высот; он оказывался нос в нос с какой-нибудь грязной интрижкой, наспех возведённым препятствием, – взор потухал, и он в бессилии склонял голову. Могучий дух, не знавший устали в схватке с тёмными силами природы, рыцарь, вознамерившийся покорить бездны вселенной, он становился жалким в борьбе с пошлым интриганом. Самый низкий экземпляр человеческой породы мог вышибить из него дух грубым словом, жалкой клеветой втоптать в грязь. О, как страдала за него и как его жалела Ольга в эти минуты его беспомощности!
Сомнения, коснувшись сознания, высекали чувства недовольства и собой, казались мелочной склонностью к расчетам, самоанализу, – Ольга объясняла эту свою особенность математическим складом ума, невольным стремлением все подвергать сомнению, искать новые пути и решения.
Другой на месте Филимонова, заметив недружелюбное расположение товарища, обиделся бы, отошёл подальше, – в лучшем случае, потребовал бы объяснения. Не таков Филимонов. Получив от Шушуни предметный урок, он поначалу огорчился, будто бы ругнул товарища, но ругнул беззлобно и забыл об инциденте. А тут случилась надобность посоветоваться о приборе, – с кем же более, с Шушуней! Он секретарь партбюро. Заручусь-ка поддержкой важного лица!
В приемной ему сказали:
– Вам придётся подождать.
Секретарша сказала сухо, мельком взглянув на посетителя, Филимонов приютился в дальнем углу. Сложные, противоречивые чувства испытывал он, сидя в приёмной. Сладким шумом отдавалось в голове сознание законченного дела. Будет импульсатор! С другой стороны, ощущение неприкаянности, неуюта, какой-то ненужности владело им. И чтобы вывести себя из этого состояния, он принимался за самобичевание. «Бога ты гневишь, смирился бы. Не так уж у тебя всё чёрно, иным изобретателям случается и потруднее. Ты ещё баловнем судьбы можешь прослыть, – текли его мысли в обратном направлении. – В институте тебе дали группу. Спасибо Шушуне, он тогда в министерстве важным человеком был, и в Институт сплавов тебя не кто-нибудь, а он устроил. Во всём остальном… сам ты виноват. Уж признайся как на духу: грубоват, неотёсан, с людьми ладить не умеешь. Ещё спасибо говори – терпят тебя такого».
Так рассуждая, окончательно привёл себя в хорошее расположение духа. Мысленно он даже благодарил Шушуню. Всем, чего теперь достиг Филимонов, ему обязан, Шушуне. А что теперь как-то странно он ведёт себя – да Бог с ним. Битый он, страху натерпелся, – может, того… нервишки сдали.
Долго ожидал Николай Авдеевич приёма; в кабинет входили и выходили люди, на Филимонова редко кто взглядывал. Институт большой, сотрудников много, по углам, лабораториям, секторам разбрелись люди; многие незнакомы, а кто и знает Николая, не видит в нём значения. Маленький человек, Филимонов, из тех, кого в счёт не берут, – неудачник.
Сидит он и зла ни на кого не копит, и на Шушуню не сердится: напал на него стих умиротворения, всех извинить готов. Он сейчас подобен Богу, всё может, всё имеет; объяви он завтра о своём открытии – и всё пойдёт по-иному. Было уже раз такое, знает он. На экспериментальном заводе электроплавильную печь для него выделят, прикажут треногу у электропечи для прибора в одночасье установить, проводку электрическую подвести, и лучший сталевар пробную плавку проведёт. И в тот же день ажиотаж начнётся: свидетельство оформлять, документы. Зяблик такую деятельность разовьёт, – он ещё, пожалуй, первым в списке изобретателей себя обозначит. А Филимонов не хочет никаких списков. Он один сделал открытие, ему и Галкин ни в чём не помог. Нет, нет, он лучше подождёт, все ходы свои поточнее рассчитает, а уж потом заявку в дирекцию отнесёт. И не Галкину, своему непосредственному начальнику, – в дирекцию пойдёт, а то ещё сразу – в министерство.
Скорым размашистым шагом прошёл к Шушуне Зяблик, за ним – Дажин; оба не взглянули на Николая, не удостоили. Николай встал и пошёл за ними. «Это хорошо, что застану их вместе, поговорю о размещении группы, может, об открытии заявлю». Вошёл легко, с улыбкой. Ещё у двери кивнул всем, поздоровался, но тут же тёмной тучкой опахнуло его чело, улыбка растаяла: обитатели кабинета его не замечали.
– Извините, я к вам по делу – на минутку, тут как раз все вы…
Шушуня поднялся, прошелся в нетерпении у стола, постоял у плеча Зяблика, потом у плеча Дажина, и всё время показывая Николаю спину, как бы говоря этим: «Не видишь разве, – лишний ты у нас».
Никодим за эти немногие месяцы пребывания на посту секретаря тучнее стал, в плечах раздался, но больше в животе; и ноги у него будто бы стали короче. Суетился и всё время спину Николаю показывал. И понял Филимонов: всё у них решено – теснить меня, выживать; и Шушуня, и Зяблик, и Галкин – все заодно.
Вяло повернулся и медленно, словно тяжело больной, вышел. И шёл по коридорам института, никого не замечая; глаза застилал туман обиды, сердце вдруг упорно и тупо заныло. В коридоре своего крыла видел метнувшегося из комнаты в комнату Галкина, тот, конечно, тоже видел Филимонова, но чёрной птицей пролетел мимо. Ещё один укол в сердце – боль усилилась. Прошёл к окну, где они любили постоять с Ольгой, долго и бездумно смотрел на крыши домов Зарядья, на тяжело приникшую к земле гостиницу «Россия».
Перед главным входом, приниженная, жалкая, стоит златоглавая церковь Варвары Великомученицы – чудом уцелела она, москвичи спасли от разрушения. Тяжёлый серый квадрат гостиницы придавил стены и башни Кремля, и они уже не парят торжественно величавым ансамблем в небе, из-за ровной, как линейка, крыши гостиницы едва проглядывает узорный шпиль Никольской башни, и звезда рубиновая тянется вверх, точно взывает о помощи. Но помощи не будет. С внутренней стороны Кремля фон и перспективу заслонил такой же исполин-квадрат, но только белый и весёлый – Дворец Съездов, со стороны улицы Горького вплотную к стенам Кремля подступила чёрным великаном высотная гостиница «Националь». Она, как сундук, поставленный на попа, нависла над волшебной красотой дворцов и храмов, давит, жмёт гармонию линий, вдохновенную вязь орнаментов и узоров – всю неземную красоту, созданную не столько трудом, сколько всей жизнью русских мастеров-умельцев.
Вздохнул тяжело, поплелся в комнату. Дверь была приоткрытой, вошел неслышно, – у телефона за его столом сидел и разговаривал с кем-то Галкин. Сидел спиной к двери, смотрел в окно и был увлечён разговором. Николай присел на стуле возле Котина. Взгляды их встретились. В глазах Котина поблёскивал огонек нетерпения, он был чем-то взволнован и хотел бы поделиться с соседом по комнате, как это он не однажды делал в последнее время. К ним подошла Ольга, тоже подсела к углу стола Котина. Ждали, когда Галкин закончит разговор по телефону. А он не торопился. И ворковал тихо, с нежной теплотой в голосе, окончания слов растягивал, завершал на низкой грудной ноте.
– Я вас понимаю. Коне-е-чно, коне-е-чно, Артур Михайлович. Вы можете положиться, я всегда-а, вы знаете… Какой разговор!.. Всегда поддержу вас. Ваша чуткость… главное – тонко вы всё понимаете, тонко, глубоко… Всегда возьмёте справедливую сторону. Буду в райкоме, у министра – всем скажу. Мы, Артур Михайлович, укреплять должны друг друга. Там слово доброе подкинул, здесь… Коне-е-чно, не сомневайтесь… Целую! Обнимаю!.. Всё, Артур Михайлович, всё!..
Закончив разговор, нежно положил трубку. И, словно очнувшись от сладкого сна, встал порывисто, повернулся. Увидев трёх свидетелей, смутился, затоптался на месте. В бескровные щёки вдруг хлынул румянец. Подошёл к Филимонову.
– Можно вас, Николай Авдеевич… Пойдёмте ко мне в кабинет.
На Ольгу едва взглянул; та смерила его брезгливым взглядом. Откачнулся, словно получил удар, рванул ручку двери. С Филимоновым говорил сбивчиво, глаза сучил по сторонам, – парень мучился, хотел внушить собеседнику мысли, которые тот не принимал.
– Вижу ваш скепсис – и ваш, Николай Авдеевич, и её, Ольгин. Юлит, мол, с Зябликом, пятки лижет. А может, вам сбросить наивные шоры, по-иному на суть дела взглянуть. Да я, если хотите знать, зверя дикого укрощаю, ради общей пользы стараюсь – институт хочу от развала удержать. А Зяблик не мной и не вами поставлен, не нам его убирать. Зяблик – сила, к нему ключи надо подбирать, в нужную сторону силу клонить, а не переть напротив и не подставлять под топор свои головы. Речь о тактике идёт, Николай Авдеевич, об искусстве тактическом и ещё, – как там военные говорят, – об оперативном. Поймите меня: мы же друзья, в новых условиях новая тактика нужна, нужна гибкость, способность увёртываться, отступать и бить противника с той стороны, откуда он не ожидает.
– Кто же противник твой? – спокойно, с грустной улыбкой спросил Филимонов.
– Зачем вы прикидываетесь наивным человеком?
– Мне бы такого противника.
– Так и знал! – поднялся из-за стола Галкин. Чёрные глаза гневом загорелись. – Странные вы люди! До седин дожили, а простого понять не можете. Иной теперь у нас противник, и оружие, и приёмы борьбы с ним иные. Как человек, заражённый гриппом, невольно заражает других, так зяблики прививают нам вирус чванства, взаимных подозрений, нелюбви и под себя гребущей психологии. Зяблики впереди всех движений – всех! – заметьте это. И если завтра в народе объявится секта любителей чумных крыс, зяблики возглавят и эту секту. Кто же он такой – Зяблик? – спросите вы. – Антихрист! – доложу я вам. И никто его не видит, и не знает. Меня же всевышний внутренним зрением наградил. Я вижу его, и мне назначено рога ему обломать, вас же от злых его чар вызволить – вот что мне от судьбы назначено!
Филимонову становился интересен образ мыслей Василия. Не было у них раньше разговоров об антихристе, о злых чарах, – всё понималось проще: есть академик Буранов, не желавший и в глубокой старости расставаться с привилегиями своей должности, есть Дажин, мечтавший получить десятипроцентную прибавку к своей пенсии и ради неё во всём угождавший начальству; есть, наконец, Зяблик со своей неуёмной жаждой власти, чинов, привилегий. Прежде Филимонов и Галкин старались избегать максималистских оценок, смотрели на вещи проще: этот – карьерист, тот – подхалим.
Теперь в лексиконе Василия затрепыхалось слово «антихрист». Он теперь часто говорил «мы и он». Умом своим чутким и глубоким Николай касался новой, ранее неведомой сферы знаний, и в силу своей врождённой любознательности, интеллектуального стремления углубляться в суть явлений, – тем более таких важных, общественных, – он не отмахивался от слов Галкина, а, зацепившись за них, устремлялся мыслью дальше, пытался оценить действия Зяблика, как часть чьей-то и какой-то программы, звено в общей цепи борьбы социальной, политической. Однако ум упирался в недостаток знаний, в слабость своих собственных социально-политических построений. И Филимонов «задирал» Василия, побуждал к новым откровениям.
– Ну, Вася, у тебя концы с концами не сходятся. Зяблик тебе противник, а ты ему в объятия кинулся. С кем же ты приглашаешь меня бороться? Я свой удар в него нацелю, а попаду в тебя.
– Вы, Николай Авдеевич, словами не играйте. Я слабое место у Зяблика отыскал, струну чувствительную. Его хвалить надо, он тогда, как глухарь, голову вверх задирает и в слух весь обращается. Приятные слова ему говоришь, а он крылышки распускает, сладкой истомой заходится. Говорю ему, говорю, а как воля из него вся выйдет, как воздух из шины, я бумажку ему подсуну: подпишите, мол, Артур Михайлович! Рука у него тогда сама по листу елозит. Подпись накарябает – я в карман бумагу, – есть человечек в секторе, – не какого мне со стороны сунут, а какого я сам подыскал, дельного, с шайкой Зяблика не связанного. Вот так мы боремся, Николай Авдеевич, а вы на меня же и бочку катите.
– Это вроде бы как на кривое ружьё похоже. Не понимаю такой борьбы, не так воспитан.
– И видно, что не так. Всё поколение ваше такое – на врага в лоб идёте. Перед вами стена, а вы буром на неё. Потому потери у вас большие, жмут вас со всех сторон. Только и слышишь: там уволили, там затравили, а там сам не выдержал. Вот хоть бы и вас взять: чего вы достигли со своей фантазией? Себя извели и нас замучили. Не пробей я диссертацию – дали б нам пинка, всей нашей группе, и замелькал бы по московским мостовым ваш разноволновый Импульс. А если уж по правде говорить, так и я теперь не верю в импульсатор. Химера вам в голову пришла, и пора бы бросить бесплодные фантазии.
– Как?.. Вы это правду говорите, Василий Васильевич? Был же результат! У нас есть слитки.
– Слитки есть, да прибора нет. Группу я решил закрыть! Если вы желаете…
– Нет! – поднялся Филимонов. – Ничего я больше не желаю! – У двери остановился, сказал сурово: – А поколение моё – не тронь! Не Зяблик тебя в кресло это посадил, а те… мои братья старшие, которые живы и которых уж нет. Жаль, что не могут они прийти в институт и набить тебе морду.
И вышел. И навсегда. Так он решил про себя. Он хоть и редко принимал крутые решения, но если принял, менять их не умел.
Прошёл в свою комнату, плюхнулся на стул и обнял руками голову. Долго сидел в таком положении, и не было в его жизни минут горестнее этих. Он вообще трудно менялся во мнении о людях и, если его вынуждали к тому обстоятельства, долго и мучительно страдал от разочарований в близких друзьях и товарищах. Сегодня же его предали два друга – Шушуня и этот… молодой, – из тех, кто присвоил себе право выступать от нового поколения и по одной уже этой причине свысока смотрит на людей старше себя, «отработавших, отживших свой век».
Гнусно обошёлся с ним Шушуня – трусил, лебезил перед Зябликом и словом каждым, жестом, позой говорил новому владыке: «Вы не любите этого глупого гордеца – я тоже, вы же видите!» И уж совсем больно ударил по сердцу Галкин – человек, которого Николай вёл по жизни за руку, учил уму-разуму и берёг как сына. И не то возмутило в Галкине, что он тоже, как Шушуня, капитулировал перед Зябликом, – слабость души хоть и противна, но можно понять струсившего человека. Не извинить – понять и объяснить его поступки. Галкин дело бросил, долг свой общественный напрочь забыл; он только о личном, о своём печётся. Зяблика в эгоизме обвиняет, а сам чем озабочен? Возвышением собственным. Вокруг персоны своей игру с Зябликом затеял, и тактику новую, гибкость ума, сложность манёвров – всё к личным достижениям устремил. «Не пробей я диссертацию…» Он пробил диссертацию! Как? Когда? Каким образом?.. Может, в тот момент, когда позвонил Зяблику и сказал: «Применю к вам закон тайги»? Хулиганскую выходку поставил себе в заслугу. И ещё бросает упрёк мне, моему поколению?
Не будь в кабинете Котина, Николай бы застонал от обиды и невозможности постоять за себя, за всё своё поколение, особенно за тех, дорогих его сердцу односельчан, не вернувшихся с войны.
– Вам нездоровится? – спросил Котин.
Николай очнулся от горестных дум, голос соседа возвращал его к жизни.
– Нет, ничего. Неприятности всякие.
Поймал себя на мысли, что к человеку этому, которого ещё недавно не любил, не было сейчас ни зла, ни обиды.
– Хо! Неприятностей нам не занимать! Я вам скажу по секрету: чёрт знает что получается. Люди на себя не похожи. Утром встречаю Зяблика, а он со мной не здоровается. Прошёл мимо, словно я столб фонарный. Ну ладно, думаю, при людях боишься, но тут-то нас никто не видит. И что я ему сделал, наконец? Вчера ещё молчать хотел, а нынче как на духу вам скажу, потому вы особенный, вам можно. Ясный вы во всём человек, нету нынче таких. Верно сказала Ольга: мамонт! Вот и я говорю: мерзость какая! Руки не даёт! Вокруг ни души, а он нос воротит. Во люди! Глазам не веришь. Ну, положим, я в чём-то провинился – поступай со мной по закону, а так вот, чтоб нос воротить – зачем же? Вот вы же не брезгуете говорить со мной, хотя, по совести сказать, я ни разу не дал вам путёвки в санаторий, и Василия совал в заштатный дом отдыха. А ему? Да я разбивался в доску, поднимал в Москве всех знакомых, только бы достать для него санаторий с двухкомнатным номером, и чтоб ванная, телефон… И его друзей, и его родственников, а их у Зяблика – о-о!.. И всех устраивал, у вас отнимал – им отдавал. Скажите, Николай Авдеевич, почему так устроены люди?
Николай посмотрел на Котина, взгляды их встретились; он впервые смотрел в глаза человеку, бывшему всегда для него чужим, враждебным и непонятным. Такая же человеческая боль, как и у него, струилась из его усталой, исстрадавшейся за эти тревожные дни души. Каким-то шестым чувством Котин слышал в Филимонове примерно те же боли, искал в нём сочувствие, отзыв. Николай ничего не говорил в ответ, но согласно, понимающе кивал, и Котин был благодарен единственной в институте душе, не изменившейся к нему после его падения, не боявшейся сказать ему обыкновенное человеческое «здравствуй!»
– Со мной он тоже не здоровается, – заговорил Николай. – Да что Зяблик! Я и сам его никогда не жаловал…
Николай хотел рассказать эпизод, происшедший с ним нынче утром в кабинете Шушуни, но подумал: «Незачем мне душу перед ним выворачивать». Долго испытующе смотрел на Котина, а тот смотрел на Филимонова, ждал продолжения рассказа. И понял Котин: Филимонов дал обратный ход, пожалел о минутной вспышке откровенности. И ниже склонился над столом, помрачнел.
– Да, да, вы правы, вам не за что меня уважать. На вашем месте я бы тоже… может быть, я бы даже не захотел сидеть с вами. Вы сидите – и на том спасибо.
Николай вышел из кабинета. Заглянул в комнату к Ольге, её на месте не оказалось. Походил по коридору – здесь появилось много лиц молодых, незнакомых. Заговорил с одним, другим: все были инженерами, конструкторами, проектировщиками. «Да, профиль сектора будет практическим, не научным», – снова подумал с чувством досады и сожаления. Он всегда был сторонником научного профиля и с великим сожалением замечал стремление сил, окружавших Буранова, вытеснить науку, подменить её проектно-конструкторскими звеньями.
Сказывался деляческий взгляд и стиль мышления людей типа Зяблика, Дажина, Шушуни. «Люди без научного потенциала», – говорили о них в институте. И, чтобы не выглядеть таковыми, а раствориться в массе технических середнячков, чтобы иметь моральное право главенствовать, новая администрация стригла и коллектив института, и профиль его занятий, и стиль под свой гребешок, под свой уровень. Катастрофически падал авторитет института в среде столичных учёных.
Филимонова вдруг осенила мысль пойти в райком партии и всё рассказать секретарю, заручиться его поддержкой. «Пусть знает партийный орган, партийные товарищи, – не одинок же я в этом мире! Нельзя же мне уподобляться Котину и сидеть в норе словно мышь, которую со всех сторон подстерегают кошки. Я коммунист, и у меня есть партия, моя партия, она поймет, поддержит».
Мысль ему показалась счастливой; не заходя в комнату, он устремился вниз, оделся и точно на крыльях полетел в райком.
Райком помещался в центре Пролетарского района столицы, в глубине парка. Двери дубовые, массивные, – входишь, как в храм; с потолка в вестибюле люстра хрустальная свисает. Направо – раздевалка за полированной стенкой, налево – тоже раздевалка; у окна буфет, у другого – книжная лавка. Просторно, чистенько, словно в театре.
Филимонов не помнит, когда он был в райкоме, – давно, по случаю замены партийного билета. Других дел у него здесь не было, никто его не звал, а он и не ходил.
На третьем этаже у тумбочки – милиционер. Поза величавая, смотрит строго.
– Вы, товарищ, к кому?
– Мне секретарь нужен.
– Какой?
– Первый.
Милиционер смерил его удивленным взглядом. «Первый? – говорила фигура. – Так уж сразу и первый».
Долго рассматривал партийный билет. И, рассмотрев, не сразу вернул владельцу, постучал билетом по ладони, словно бы говоря: «У тебе есть ещё время одуматься». Но ничего не сказал. Кивнул в сторону отливавшего золотом паркета:
– Идите!
В приёмной просторно, на полу красный ковёр. Секретарша с дюжиной телефонов и машинистка. На вошедшего не взглянули. Николай постоял-постоял – кашлянул.
– Вы к кому? – раздался голос из левого угла – того, что ближе к дубовой двери кабинета.
– Я… к секретарю я.
– Он вас приглашал?
– Нет, а разве так нельзя?
Николаю показалось, что губы секретарши тронулись в насмешливой улыбке. Она пожала плечами. Он явно не знал порядков. Сюда, видно, так, по своей воле, люди не приходят.
– Извините, я не знал.
Секретарша вновь пожала плечами.
– У вас какой вопрос?
– Личный. Впрочем, нет, – служебный и… личный.
– Зайдите к помощнику – напротив.
В этот момент дверь кабинета открылась и из него вышел невысокий озабочено-рассеянный человек. Хотел было прошмыгнуть мимо Филимонова, но Николай встал у него на пути.
– Вы будете секретарь? Я к вам.
– Ко мне? – поднял голову секретарь. – Что у вас? Вы кто? Да, да, ладно. Посидите здесь. Я приду.
И юркнул за дверь приёмной. Впрочем, скоро вернулся и равнодушно прошёл мимо Николая, – он, видимо, забыл о посетителе. Николай же, набравшись храбрости, прошёл вслед за ним.
– Час для беседы неурочный, – начал секретарь, – но раз уж зашли – пожалуйста. Если можно, покороче.
Николай многое хотел сказать секретарю, шёл к нему с надеждой и лёгким сердцем, заранее предвкушал встретить сочувствие, желание во всём разобраться, помочь. Нервозность секретаря, нетерпение, владевшее всем его существом, разочаровали Николая. Все мысли разлетелись. Он хотел поведать о приборе, посоветоваться, но тут решил, что неудобно беспокоить личными делами такую важную персону, и заговорил об институте.
– Науку у нас свёртывают. Институт уводят в сторону.
– Кто свёртывает? Куда уводят?
В кабинет вошла женщина.
– Материалы по картофелю. – И положила на стол бумаги.
– Мне не материалы нужны, а речь. В отделе готовят – проследите. И побыстрее. Завтра людей собираем.
Женщина ушла, а секретарь не мог успокоиться. Дважды вставал из-за стола, говорил: «Безобразие! Планы по картошке летят, а они резину тянут!»
Сел в кресло, уставился на Филимонова. С минуту смотрел бессмысленно, стараясь восстановить нить разговора.
– Сейчас всюду сокращение, кого-то увольняют, естественно.
– Не увольняют, а научную программу свёртывают. Впрочем, я это так сказал, товарищ секретарь, я к такому разговору не готов.
– Странный посетитель! Не готов, а идёте… и сразу – к первому.
Снял трубку, сказал:
– Примите товарища, он сейчас к вам зайдёт. И – к Филимонову:
– На втором этаже у нас отдел науки. Вас примет заведующий.
И встал секретарь, в нетерпении заходил вдоль стола. Филимонов не торопясь поднялся и, не поклонившись, вышел. Смешанное чувство разочарования и досады испытывал он, проходя мимо милиционера и затем спускаясь на второй этаж. Было похоже на то, что он ошибся дверью и зашёл к человеку совершенно постороннему, чужому, обидевшемуся на него за внезапное вторжение. С виду секретарь был умный и вроде бы добрый человек и принял его против правил, и вроде бы изъявил желание выслушать, помочь, но разговора не получилось, и виноватым чувствовал себя сам посетитель. «Не надо мне ходить к заведующему», – думал, подходя к другому кабинету, поскромнее, но в самый последний момент решил: выпью чашу до дна, посмотрю, как отнесутся ко мне родные партийные товарищи.








