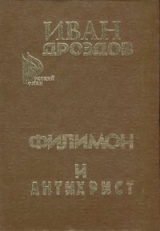
Текст книги "Филимон и Антихрист"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Иван Дроздов
Филимон и Антихрист
Этот роман, без всякого сомнения, одно из самых полезных и нужных произведений современности. Автор умело и с большим знанием дела показывает тактику наших непримиримых врагов – мирового сионизма – всегда старавшихся захватывать все командные посты во всех оккупированных ими странах, и постоянно наносить народам свои подлые удары изнутри. Это самый настоящий социальный паразитизм, когда враги в первую очередь стараются уничтожить лучших людей тех народов, против которых они воюют. А остальных они стараются превратить в «разумных животных», которые живут только простейшими инстинктами и больше ничего не желают.
Глава первая
Ударили колокола Троице-Сергиевой лавры, и поплыл малиновый звон над лесами древнего Радонежья, над северной стороной Подмосковья, – как встарь, в пору лихолетий и победных торжеств на Руси, когда колокола монастырских и крепостных церквей будили в русских людях тревогу и радость, когда бронзово-серебряный набат Сергиевой лавры катился в Александрову слободу, вздымал и там волну колокольных звонов, катил её дальше к Ростову Великому, Переславль-Залесскому – и дальше, в сторону лесов, озёр и топей Вологодчины, в непролазные чащобы и дебри, за которыми земля русская краем северным упиралась в берег студёного океан-моря.
Любит академик Буранов эти праздничные звоны; все дела бросает, одевает длинную рубаху с шитым прямым воротником, берёт в руки посох – зовёт:
– Ефим! Дарья! Где вы там?..
Прежде, когда была жива его супруга, брал её под руку, чинно выступал за калитку дачи. И шли они гулять к пруду, к зелёной холмистой опушке, с которой открывалась златоглавая лавра. Теперь справа от него, опустив белую от времени голову, шагает его младший брат, старец восьмидесяти лет Ефим, а позади и чуть в стороне секретарша – Буранова, Дарья Петровна. По левую руку идет Артур Михайлович Зяблик, сотрудник института, близкий к дому человек.
Смотрят соседи на знаменитого ученого, судачат:
– Старого покроя человек!
– Из дворян!
– Память о старине блюдёт.
А если случится рядом плотник Семёныч, сосед академика и его частый собеседник, то он авторитетно заметит:
– Ляксандр Ваныч из-за той музыки небесной и гнездо свил у нас тут в Радонежье.
Идёт академик с близкими ему людьми по тропинке к озеру, – шествует чинно, палку перед собой далеко выбрасывает и молчит, и слушает переливы колокольных голосов, вдыхает воздух, пронизанный «небесной музыкой» и свежестью подмосковного утра. О чём он думает, что вспоминает из долгой своей жизни – никто того не знает, и никогда и ни с кем он о том не говорит. А только если звон колоколов прекратится, вздохнёт с грустью, взглянет на одного спутника, на другого и – ничего не скажет. Зяблик вопрос задаёт:
– Какой праздник сегодня, Александр Иванович?
– Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
– А что значит – Спаса?
– Спасителя! Что же это вы, мил человек, аль не православный? Момент, когда Христос великую силу в себе услышал. Возвёл он на Фавор-гору учеников своих и просиял перед ними: лицо сделалось как солнце, и одежды белыми, как свет. Ученики увидели его таким и понесли молву людям: ждите люди – есть в мире сила, от которой придёт вам избавление от страданий и явится счастье.
Академик говорит трубным глуховатым голосом, и тон речи его возвышенный; шагает он широко и бодро и смотрит поверх леса на кромку синего неба, словно читая там сказку о вечном стремлении людей к свету и истине, к добру и счастью.
– В нынешнем году, – понижает голос Буранов, – у нашей церкви праздник большой: тысячелетие христианства на Руси. Большой праздник. Очень большой!
Спутники академика молчат: они не знают, как им отнестись к сообщению о тысячелетии христианства.
Сторонний человек послушает – удивится: скажет, и впрямь верует в Бога. Буранов-то – академик и – верит глупым сказкам о загробной жизни?
Буранов верит в Бога и, если случится встретить служителя культа, низко наклонит голову, замедлит шаг. Он на религию, как на многое в жизни, смотрит исторически – с ревностным вниманием ко всему, что хоть малым касанием относится к жизни народной, жизни прошлой. И часто, глубоко задумавшись, говорит: «А как же не верить?.. Наши отцы верили».
А случается, скажет другое: «Бог он, конечно, есть. Он везде. А иначе – откуда всё это?». И посмотрит вокруг.
Выдвигается вперёд дед Ефим:
– Тыща лет! Вон ещё когда люди свою природу понимать могли. Грамоты не знали, а потребность в божестве имели. А и нынче хоть возьми: корабли в космос пускаем, а тоже ведь… Бога помним. Вера то, она, во всякое время нужна. Матушка наша, бывало, скажет: без Бога не до порога.
Дарья Петровна идёт в сторонке, в беседу не встревает, но слух её напряжён. Болтовня стариков мало занимает женщину, у неё институт на уме. Там жареным запахло: слухи изо всех щелей ползут, вроде институту имя новое дадут и директора заменят.
– Бог, Бог!.. – о чём говорят? – разводит руками Дарья Петровна. – Им скоро по шапке дадут, а они – Бог!..
Спутники примолкли; идут, опустив голову.
«По шапке дадут… Грубо, бесцеремонно, – думает Буранов. – Раньше она не была такой». Буранов смирился с мыслью о потере его детища – научно-исследовательского института. Ещё вчера он питал надежды спасти институт, удержаться самому на посту директора, сегодня – нет, надежды рухнули. На партийной конференции новый лидер столичных коммунистов заявил: «В Москве тысяча институтов, а толку от них… Возьмите “Котёл”. За год четыре изобретения. А сотрудников… семьсот человек. На Урале есть слесарь. Он один даёт по пять изобретений в год». Осмеял публично. «Котёл» стал синонимом творческого бесплодия. «Котёл», его детище! Вся его жизнь!..
Вспомнились первые дни института, голодные двадцатые годы. При столичном авиазаводе группа металлургов собралась, восемь учёных – молодых, смелых. Лёгкие сплавы варили, чернью покрывали, хромом, никелем. В литейном цехе котёл для термической обработки установили. Первые удачи, находки. Оттуда институт пошёл.
– Вы наш лидер. Только вы и можете спасти институт. Очнулся от тяжёлых дум Буранов. К стволу берёзки плечом привалился. Смотрит на Зяблика, качает головой:
– Стар я, Артур Михайлович, нет сил для борьбы. Был воин, да весь вышел.
– У вас имя. Вы – авторитет. Величина, можно сказать, мировая.
– Ах, будет вам! Старец я немощный, и более ничего. Жалею теперь, что вовремя из игры не вышел. Будь директором человек помоложе, не услышать бы мне такого позора. Ах, горюшко ты моё, стыдоба-то на мои седины какая!
– Ну, нет, Александр Иванович, – подступилась к нему Дарья Петровна. – Мы такие речи ваши слышать не желаем. Рано петь отходную. Мы ещё постоим за себя.
– Скажите ему и вы, – повернулась она к Зяблику, – надо же что-то делать!
– Я тоже говорю: надо что-то делать! Партийный секретарь ваше имя в грязь решил втоптать, а мы вас до небес поднимем. Он-то институт со страниц городской газеты облаял, а мы о ваших заслугах в центральной прессе раструбим. Пусть не думает, что вся пресса за ним пойдёт; нет, голубчик, печать у нас в кармане, а не у тебя. Если раньше говорили: у кого деньги, тот правит миром, то теперь мы к этому прибавим: к деньгам-то ещё и печать нужна. Недаром же мы ещё с прошлого столетия за печать незримую войну ведём. Держитесь поближе таких друзей, как я; в друзьях все нуждаются – владыки тоже.
Зяблик бросал своему патрону соломинку, и Буранов понял, здесь его спасение. Заговорил примирительно и с чувством глубоко скрытой благодарности:
– В друзьях, мой друг, и я нуждаюсь. Ох, как нуждаюсь. Теряя друзей, человек подчас, – каким бы он ни был, – лишается в жизни всего, доживает век в безвестности и уединении. В истории Рима много выдающихся лиц… Консулы и диктаторы нередко завершали свой путь в нищете. Славнейший из полководцев Фабриций под старость грелся у бедного очага и ел коренья, которые сам же добывал из земли; великий Курий на закате был нищий. О людях искусства и говорить нечего. Поэт поэтов Овидий… Моцарт, Бетховен… А наша русская сколь героическая, столь же и многострадальная история… Пушкин жил в долг, Белинский умер нищим, Мусоргский – в больнице. Человек, если даже он великий, нуждается в поддержке друзей. Сейчас же, как вы верно думаете, и не во мне дело – институт спасать надо. Я-то уж не борец более, а вы ищите свои меры, возражать вам не стану.
И совершенно искренне, с хорошими чувствами к своим спутникам, Буранов мысленно для себя решил не уходить из института, а держаться до тех пор, пока это будет нужно его соратникам.
– Давно я не был на службе. Что там?.. Поди тревожатся? Чай, слухи разные, разговоры…
– Разное болтают. Вон Филимонов… Без всякого уважения к вам, – говорит Зяблик.
Буранов посмотрел в сторону бани, затерявшейся в малиннике в дальнем углу усадьбы, – там монтировали электрическую схему учёные во главе с кандидатом технических наук Филимоновым.
– Филимонов – знаток электроники, на выдумку горазд, – заметил академик.
– Вот-вот, выдумщик известный! Недавно шуточку отпустил – невинную вроде бы: «Академик вовнутрь себя смотрит».
Притормозил шаг Буранов, глотнул воздух, точно выброшенная на берег рыба. На грудь будто гирю повесили: огруз в одночасье.
Дед Ефим махнул рукой:
– Э-э, право. Собираете сплетни!
Юркнул в калитку, побрёл в сторону бани, – там он жил во времянке.
Академик, собравшись с силами, выдохнул:
– Так-то он платит за доброту мою! И – Дарье:
– За общий стол не зови. Не желаю.
Старик помрачнел, замкнулся и уже никого не хотел слушать. За Дарьей Петровной и Зябликом в дом не пошёл, свернул на тропинку, ведущую вниз по косогору; там у ручья стояли плотным рядком четыре молодых ели.
Буранов садится на поверженный временем и болезнями дуб – невольно предаётся старческим думам. Из института надо уходить. Пора. Осенью исполнится восемьдесят пять! Эх-хе…
Стороной сознания ползёт мысль о смерти. Буранов знает: дай он ей волю – тучей закроет горизонт. Безвольно повиснут руки, потухнут глаза. Вот тогда он действительно обратит взор вовнутрь себя, будет смотреть, смотреть… «Нет! – ударяет Буранов кулаком по корневищу дуба. – Не все старики смотрят вовнутрь себя! Вон – Ефим! Он тоже старик, а бегает словно олень, на нём сад держится, он дрова рубит, печки топит!»
Буранов, словно подкинутый пружиной, вскакивает и идёт к долгу – там люди, там сегодня много людей.
К воротам усадьбы две «Волги» подъехали. Из них вышли трое мужчин. Багажники раскрылись, и оттуда полетели бурдюки с вином, ящики с коньяком, фруктами. Они аккуратно складывались у калитки с внутренней стороны двора. Сложив штабелёк, мужчины плотно прикрыли калитку, и машины нырнули в сгустившийся мрак летнего вечера.
К ящикам подошёл Галкин, сотрудник института, работавший с Филимоновым в бане. С минуту размышлял, кому и за какие доблести дары Кавказа? Фломастером на крышке жирно написал: «Получай, вшивый взяточник, свою долю!»
На главной веранде и в комнатах нижнего этажа зажглись огни. На балконе второго этажа раскрылась дверь и на свет, лившийся из окон бильярдной, выдвинулись знакомые Галкину силуэты – «Три Сергея», учёные, занимавшие в институте видное положение. По странной случайности они имели фамилии, происходившие от имени Сергей, – Серёгин, Сергиенко и Сергеев-Булаховский, – «Три Сергея», как дружно называли их в институте. И то ли за удачно начавшуюся для них карьеру, – молодые, а уже доктора наук, – то ли за их близость к академику, парткому – ко всему, что составляет власть, влияние, их ещё называли авангардистами, вкладывая в это слово значения и нюансы, оттеняющие стиль нового времени, черты молодых учёных, которым завтра надлежит взять руль науки и повести её к новым высотам.
Надменность поведения, небрежность, с какой они относились ко всему на свете, угадывавшиеся в каждом их слове, жесте; протест ко всему заведённому раньше, – до них и без их согласия, – нежелание разделять общие заботы, суетиться во всех повседневных делах; их независимые позы, едва заметная реакция на приветствия; одежда, подчёркнуто модная, фирменная, нарочито опрощённая, – всё у них шло от нового времени, от каких-то необыкновенных дел, каковыми они были заняты и результаты которых вот-вот должны объявиться.
Они сейчас всё больше жмутся к Буранову, Зяблику, в выходные дни все трое, как вот теперь, под видом всяких хозяйственных работ, приезжают на дачу к академику. Боятся за свои лаборатории: вдруг как прикроют, сольют с другими, сократят?
Василий из сада видел их силуэты.
Раньше, глядя на их самодовольные, вальяжные фигуры, тянулся к ним, но, будучи по положению в институте и по уровню культуры значительно ниже их, тяготился своим бессилием и втайне завидовал им чёрной завистью.
Они почти открыто смеялись над шефом его лаборатории, обвиняли его в неумении заставить уважать себя, «выбить» оборудование, высокие оклады для себя и своих сотрудников. Во время одного такого разговора Василий случайно оказался с ними рядом, хотел дружески поздороваться, и даже рука его дёрнулась в их сторону, но никто из них не обратил на него внимания и даже не удостоил взглядом. Это был удар по самолюбию, по самому больному месту в характере Василия. Как и многие люди, он мог простить ложь, коварство, урон, нанесённый ему, но не мог извинить и забыть обиду. Она как заноза вонзилась в сердце и кровоточила, требуя отмщения. Он тогда сцепил зубы и возненавидел их, но оттого тяга к ним не убавилась, а ещё более распалилась. Галкин не знал их занятий – темы их были закрыты, не знал истинного положения и знаний каждого из них, но продолжал искать их внимания и дружбы.
«Как они сюда попали? – дивился он. – Сразу – все трое!»
Вася Галкин, ещё несколько минут назад не обращавший внимания на жизнь дома, почувствовал интерес к его обитателям и ко всему, что творится на даче академика. Он стоял у разводья двух сильных ветвей яблони, – отсюда открывался вид на все окна дома, все веранды и верхний балкон. Там из раскрытых дверей бильярдной поочередно выходили мужчины, одетые в шорты и лёгкие с коротким рукавом рубашки. Кии над их головами чернели точно пики; вот один из них склонился над столом, ударил и затем неспешно выпрямился, потянулся к столику у окна, где были расставлены бутылки с водой или вином; тут же ходили женщины, все стройные, в летних платьях, – одна из них, видимо хозяйка, Дарья Петровна, выделялась особенной статью, двигалась плавно, брала со стола поднос, обносила гостей, а те, в свою очередь, кланялись, поднимали тосты – и всё это величаво, будто в замедленной киносъёмке. Казалось, они наслаждались прелестью тёплого тихого вечера и старались продлить минуты счастья.
Временами с балкона раздавались голоса; Три Сергея говорили так громко, что и в саду можно было разобрать каждое их слово. Они и здесь вели себя так, будто кроме них на свете никого не было. То один из них, то другой загораживал свет люстры, и тогда длинная широкая тень падала на лес, погружая в темень и Василия. «Авангардисты, чёрт бы их побрал! Нет бы позвали в бильярд поиграть!»
Оттолкнулся от яблони, устремился к дому, но едва прошёл несколько шагов, замедлил ход, подумал: «Нет, не пойду!» Свернул на тропинку, ведущую в глубину сада, пошёл в сарай, где расположились на ночлег его товарищи: Филимонов, Шушуня, электрослесарь Вадим Краев и где для него была приготовлена постель. Из приотворённой двери доносился голос Краева:
– Музыка, если она настоящая, льётся как вода. На-а, на-на, на-на-а… Если поётся, – значит, музыка. Артуро Тосканини, итальянский дирижёр, когда входил в экстаз, кричал музыкантам: «Пойте, пойте!» Однажды фагот поднялся из дальнего угла, сказал: «Не поётся, маэстро». – «Да, не поётся? Тогда… это не музыка!» И сломал палочку.
– Наших русских дирижёров тоже знаешь?
– Знаю. Голованов слышал фальшь в полноты и на репетиции первой скрипке говорил: «Эй-ей, профессор, на полтона ниже!» А Константин Иванов слышал четвертушку, дирижировал огромным оркестром в сто двадцать человек, исполнял симфонии по памяти, не заглядывая в партитуру, а когда бывал за границей, газеты писали: «К нам приехал русский Бетховен». И помещали его фотографию. Внешне он был похож на немецкого композитора.
Вошёл Галкин. Не зажигая свет, забрался под одеяло. Краев молчит. Василий, пришедший в науку из рабочих, не верит в серьёзную увлеченность Вадима музыкой. «Нахватался вершков и задаётся», – думает Галкин. Будь Василий подобрее к товарищу, искренне бы изумился: откуда знает столько? Видно, не на шутку захватила страсть к музыке. Тоном серьёзным и примирительным спрашивает:
– Ты давно себе хобби такое выбрал?
– Музыка – не хобби. Музыка – это…
– Ну, ну… Что же такое музыка? Давно хотел тебя спросить.
– А и в самом деле, как ты понимаешь музыку? – подал голос из тёмного угла Филимонов.
Вадим отвечал не вдруг. И несколько необычным образом:
– Бетховен хотел объясниться в любви девушке, но не находил подходящих слов и тогда решил излить свои чувства в музыке. Долго он в бурных аккордах рассказывал о любви. И когда кончил, спросил: «Вы поняли меня, Лорхен?» Девушка ответила: «Музыка всегда полна прекрасных тайн. Она заставляет трепетать сердце, волнует душу, но её речь невозможно передать человеческими словами».
Вадим замолчал; он, кажется, не закончил мысль, и товарищи ждали продолжения. Но продолжения не последовало. Каждый на свой лад представлял сцену объяснения в любви Бетховена, и даже как будто слышал музыку, которую он исполнял в импровизациях, и, может быть, впервые каждый из них, в том числе и Галкин, проникся желанием слушать и понимать музыку. Впрочем, Галкин в эту минуту думал о другом: его грызла обида на академика, на Зяблика, на всех, кто сейчас находится под крышей дачи. Пятый раз группа Филимонова приглашается на дачу директора института: они тут ставили отопление, монтировали газонагревательный аппарат, переделали электрическую проводку – и всегда их встречали как дорогих гостей, накрывали стол на большой веранде, открывали для них бильярдную, несли туда на подносах кофе. Нынче же хозяев точно подменили.
Академик перед сном вышел в сад и нашел брата своего Ефима в расстроенных чувствах. Ефим собирался уходить из дома.
– Ты это чего надумал, Ефим? – спросил академик.
– Домой поеду, в деревню.
– Зачем же ты туда поедешь? Кто ждёт тебя там? У нас и родных не осталось, двое мы с тобой на белом свете.
Ефим на это ничего не ответил, он был согласен: в деревне его никто не ждёт, ехать ему, в сущности, некуда. Братья сидели на брёвнах с другой стороны сарая, и бригада Филимонова слышала их разговор. Учёный брат дальше развивал свои мысли, приближал беседу к главной сути, хотя оба по прошлому опыту знали причину внезапных сборов Ефима.
– Небось Зяблик тебя обидел. А может, Дарья?
– Стар ты стал, братеня, они-то, помощнички, и вздыбили шерсть. Дачку твою на себя переписать желают. Слышал я разговор такой.
– Ты что буровишь, Ефим! Дача институтская, она за давностью лет в собственность ко мне перешла. Мы с тобой хозяева тут, и никто у нас дачу не отнимет.
Буранов-старший говорил негромко и не строго, академик хоть и напускал на себя важность, но в голосе его печальное изумление слышалось и отчаяние, и призыв к брату, единственному близкому существу, не уезжать в деревню, не оставлять его одного.
– Смыслишь ты чего? – возвысил голос.
– Смыслю, брат, очень даже смыслю! А твой-то разум помрачился. Чужие они все! И эти… Три Сергея. Волком на меня смотрят. Один-то из них на место твоё метит. Коршуньё проклятое! И дачу, и квартиру – всё оттяпают. И добришко на распыл пойдёт. А ведь ты его всю жизнь копил, силушки вкладывал: и в дачу, и в мебель, и в одежонку – аль забыл, как штаны остатние латали, когда впервой ты за границу ездил. Сейчас-то, поди, костюмов разных не счесть, рубах одних полный шкаф набит.
– Будет тебе, Ефим, тряпьё ворошить! Другие теперь времена. Нашёл тоже!
Старики, видно, забыли, что посторонние люди за стеной, – не только разговор, а и дыхание слышно. Шумно дышит старший брат академик, нет-нет да забулькает у него в горле, захрипит он, кашлянет. И вздохнёт с присвистом, с пристоном. А Ефим знай своё – пилит:
– Ушёл бы ты со службы, Ляксандр. Чай, тебе за восемьдесят, пора уж. Не по-христиански это – чужую жизнь заедать. Сдай контору молодому, отойди. Какой ты теперь работник! Пень трухлявый при дороге. А подле гнилого пня, известное дело, – сорняк в гору прёт. Видят, что слаб, и прут.
Академик, словно чувствуя вину перед братом, заговорил примирительно:
– М-да-а… Говорил тебе: купи ты, Ефим, вон тот домишко за две тысячи, отдадим мы дачу детскому саду, а сами в домике поселимся. Пенсия у меня большая, жили б мы с тобой, да клубничку разводили.
– Говорить-то ты говорил, да только скоро позабывал. Языком чесать – не рожь молотить. Детишкам! А где ты, скажи мне, случай был таков, чтобы добро своё, собственным горбом нажитое, да чужим людям отдавали? Я такого не видел, И ещё мы с тобой сто лет живи – не увидим. Потому как природу человечью ничто изменить не может. Все под себя гребут и никто – от себя. Сказал тоже – детишкам!
– Ах, Ефим! Старого ты замеса человек. И ничем из тебя деревенскую пыль не выбьешь. Собственник ты!
– Собственника нашел! Это ты, Ляксандр, собственник, а не я. У меня и всего-то богатства – шиш в кармане да вошь на аркане. А ты – вон, хоромы себе отхватил! И в Москве палат каменных сколь у тебя. Барин наш, Егор Амвросьевич, царство ему небесное, и во сне таких не видывал. Он, бывалоча, на зиму в Петербург поедет, так в двух комнатах под чердаком с барыней и дочкой ютятся. И не знает, из какого шиша платить за них. Ты барин – это барин! Эх, мать-Россия! Как ты ни старалась, а барина с холки стряхнуть не сумела.
Академик закашлялся, взялся рукой за грудь, другой рукой стал конвульсивно хватать воздух: «Дарью, Дарью с лекарством позови!»
Ефим закричал:
– Эй, Дарья! Лекарства неси!
И, придерживая брата, уложил его на траву возле бревна, на котором они сидели. Из бани вышла вся бригада, со стороны дачи легко, по-девичьи бежала Дарья Петровна. Отстранив ребят, обступивших академика, сунула ему под язык таблетку нитроглицерина.
– Поднимайте, несите!
Филимонов, Шушуня и Галкин понесли старика в дом, Дарья Петровна, а за ней и Вадим, вышедший из сарая последним, замыкали процессию. Навстречу из комнат, с открытых и закрытых веранд поспешали гости. Узнав причину внезапной суматохи, отходили в сторонку. Галкин, придерживая академика за голову, дивился спокойствию Дарьи Петровны. Она шла рядом, касаясь временами локтем его рук, и, казалось, ничем не выдавала волнения. «Привычная! – думал Василий, – видно, не впервые с ним такое». Но в другой раз являлась мысль шаловливая, крамольная: «Что ей! Надоел небось старый козёл!»
В институте знали: Дарья Петровна охмурила старика, живёт в его доме полновластной хозяйкой, а мужа, бывшего лётчика, тоже далеко не отпускает. Муж испытывал сверхзвуковые самолёты, в аварию попал, головой о приборную доску ударился. С тех пор он – видимость одна, а сила-то уж вся вышла. Из жалости Дарья Петровна с ним не расстаётся, а может, привычка, любовь была?
Когда академика принесли к веранде, на балкон второго этажа из бильярдной вышел Зяблик.
– С братом беседовал! У-у… старый веник! Погрозил Ефиму. А Дарью Петровну, склонившуюся над Бурановым, успокоил:
– Сделай укол и уложи в постель. Спазм сосудов, не опасно.
И Зяблик скрылся в бильярдной; оттуда тотчас раздались удары шаров.
Крики, тревожные голоса то возникали, то пропадали; они существовали сами по себе, случай с академиком явился лишь толчком к их оживлению, он как камень, брошенный в пруд, породил круги, которые долго и после его падения продолжали волновать воду. Шум и смятение на даче Буранова были обычным явлением и поддерживались не хозяином, а порождались людьми, вившимися тут, подобно летучим существам неизвестного происхождения, которые возникают накануне смены погоды и по вечерам теснятся и кружатся над злачными местами.
Вася вернулся в сарай и осторожно, боясь разбудить товарищей, прошёл к своей койке. Засыпая, всхрапнул внезапно, пробудился, но тотчас же заснул снова. И час или два пребывал в полном невесомом состоянии. Потом из тьмы стала выплывать… башня. С бойницами, узенькими оконцами, – ни храм, ни терем, – башня! Она будто бы валилась с горы, дыбилась и гигантским осклизло-замшелым углом теснила гостиницу «Россия». Бульдозерным ножом сгребала старые домики, свезла часть утюгоподобного большого здания. «Ба! Так это же наш институт!» И только он успел это подумать, как семиэтажная горящая огнями громада ухнула в Москву-реку и, покачиваясь на волнах, поплыла к Ивану Великому.
Вася пробудился, тряхнул головой. За ветхой дощатой дверью что-то скребло и ухало, ветер раскачивал фонарь, и свет от него, врываясь в щели, летал по верхним углам сарая.
Василий накинул на плечи куртку, вышел в сад. Холодный ветер с дождём ударил в грудь, прижал к стене. Летучая мышь со свистом прочертила воздух у самого носа Галкина. В той стороне, где была дача, над кроной сада ярко светился какой-то шалаш или гондола воздушного шара, светилась и качалась, чертя днищем ветки яблонь. Внутри гондолы маячили тени людей и самая большая – посредине – торчала важно, как дубовый пень. Над садом раздавались голоса; басовитый и хриплый забивал всех.
– Надоело! Говорил, говорил, а пользы чуть. Нужен такой шум и смятение, каких не было.
– Я – против. Нужна тишина. И умные действия. Непременно умные.
– А институт?
– Прихлопнем. То есть прихлопнем вывеску. Повесим другую. К примеру, «Титан». Слова должны давить и пугать. «Титан!»
– Да, пожалуй. Назовём «Титан», а под него и штаты.
– А директор?
– Директор – не человек, а знамя. У нас оно есть.
Ветер трепал верхушки деревьев, остервенело выл и свистел над лесом, но странное дело: и в этом адском шуме Василий отчётливо различал голоса говоривших. Ах, чёрт! Но что это там за люди?
И в тот же момент, когда он об этом подумал, над пышущей светом гондолой воспарил человек. Парит, как птица! Но вот он юркнул, втянулся в гондолу.
Галкин, не помня себя, бросился к даче. Он босиком бежал по сырой траве, дважды упал и, кажется, разбил нос, но вскакивал и бежал снова. Забежал с той стороны, откуда летел человек. Тут стояла лестница. И Вася всё понял: человек не летел, а спускался по лестнице…
Вытирая проступивший на лбу холодный пот, возвратился в сарай. Бросив на спинку стула мокрую куртку, нырнул под одеяло. И уже во сне, проваливаясь в блаженную невесомость, вновь услышал голос, теперь он звучал мирно: «Импульс нужен. За ним как за паровозом».
После завтрака в баню к научным сотрудникам вошёл Зяблик.
– Помогли бы мне, а? Ковёр тряхнуть.
Сотрудники переглянулись. Вася повел плечом.
– Чей ковёр?
– Буранова. Ковёр и лосиная шкура.
Филимонов поднялся:
– Что ж, мы того… пожалуй.
– Я – нет, не стану! – вздыбился Вадим Краев.
Все повернулись к нему, позы их выражали: «Как не станешь? Почему?»
– Я слесарь, человек рабочий.
И с силой нажал отвёрткой шуруп. Голос у него звучный, мелодичный – говорил, словно пел. Галкин и Шушуня, не терпевшие категорического тона Вадима, считавшие его человеком несерьёзным, капризным, не стали входить с ним в прения, неохотно поплелись в дом. Филимонов же, склонив большую круглую голову, смотрел на Краева голубыми ясными глазами; смотрел так, будто видел его впервые, и сильно дивился и длинным волосам Вадима, и его звонкому, как у певца, голосу. Филимонов смотрел на Вадима неестественно долго, голубизна его глаз то синела, сгущалась в сумеречную темень, то вдруг вновь изливалась бирюзой июньского неба. В первое мгновение он хотел что-то сказать слесарю, но тут внезапно его осенило, то есть вспыхнула какая-то математическая мысль, и он мгновенно забыл о своём первоначальном желании; Краев знал своего начальника, тотчас же понял, что он теперь считает, переворачивает в мозгу ряды чисел. И, считая, смотрит на Вадима, потому что надо же ему куда-то смотреть. Так уже было не однажды, Вадим привык к этим отрешённым полубезумным взглядам и не робел, не смущался, ждал завершения очередного витка математических вычислений. «Шефа осенило!» – говорил в таких случаях Краев. И отходил в сторонку, старался не мешать.
– Да, да. Всё так! – сказал Филимонов, раскрывая блокнот. И так же бессмысленно и отрешённо глядя мимо Вадима, он опустился на койку и стал исступлённо писать. Цифры, цифры… Исписал полблокнота, а затем облегчённо, словно затащив в гору камень, вздохнул. На лбу его искрились капельки пота – то ли от жары, то ли от тяжёлой работы мысли.
Заслышав удары палкой о ковер, Филимонов вернул себя к действительности, нехотя пошёл помогать Галкину и Шушуне.
Дело тут оказалось нелёгким: китайский ковёр неподъемного веса, похоже, никогда не выносили на улицу, удар палкой взвихривал фонтаны пыли, она подолгу стояла над головами, распространяя удушливый, кисловато-прелый запах. Галкин после каждого удара отскакивал далеко от ковра, зажимал рот ладонью. Он и в бане-то работал неохотно, всё время порывался бросить, уехать домой, а когда дело дошло до ковров, плюнул досадливо, почти прикрикнул на своих старших товарищей:
– Да есть у вас самолюбие, в самом деле, или вам плевать на собственное достоинство? Вадим – и тот отказался!
На беду в тот самый момент с киями в руках на балконе появились Три Сергея. Кто-то из них, приподняв кий, крикнул:
– Эй-ей, ребята! Привет!
Галкин швырнул наземь угол ковра, отошёл в сторонку, сел под куст смородины. Филимонов и Шушуня трясли ковёр вдвоем.
Лосиная шкура, едва её ворохнули, исторгла не фонтаны, а тучи пыли и ворса, и запах от неё исходил болотный, терпкий, вызывал тошноту и спазм в горле. Вместе с пылью из неё вылетали и кружились в воздухе длинные тёмно-серые ворсинки, они с каждым ударом палки и веника не убывали, а кружились и кружились в воздухе, устилая траву плотной сединой, точно нечистым снегом. Шкуру трясли битый час, порядком устали, надышались разной дряни и, когда закончили, не сговариваясь, пошли в дощатую времянку, где их поселили.
День стоял жаркий, душный, учёные сбросили одежду, плюхнулись в кровати. Работали они по устройству бани второй день и сегодня с ужасом убедились, что им ещё потребуется два-три дня для окончания дела.
– Завтра понедельник, – в институт пойдём или как? – заговорил вошедший Галкин, и в голосе его слышалась виноватая нотка. Он достаточно наговорил резкостей товарищам и теперь находился в состоянии провинившегося мальчишки.








