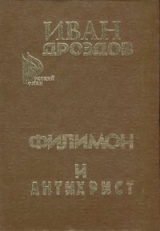
Текст книги "Филимон и Антихрист"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
– Зяблик скажет, – в тон ему ответил Шушуня, чувствовавший себя в этой импровизированной бригаде старшим не по должности, а по той единственной причине, что вот уже третий год избирался членом партийного бюро института. Зяблик ему поручил передать Филимонову, специалисту по электрическим приборам, просьбу академика смонтировать тепловой очаг в сауне.
– Нет, я решительно не могу понять: лакеи мы что ли? – вскинулся Василий на койке. – Ковры трясти – да это же чёрт знает что! Вот Краев – не пошёл и всё! И мы могли послать подальше этого Зяблика.
Галкин сидел на койке, вцепившись руками в сетку кровати, смотрел то на Шушуню, лежавшего у раскрытого окна, а то на Филимонова, сидевшего на койке в позе узбека и строчившего в блокноте, как он вечно делал, свои формулы, или принимался чертить – тоже в который уж раз – схему проводов в бане. Он всё время менял её, пытался найти лучшее решение. В очаге устанавливались три спирали – две основных, одна дополнительная; они заключались в воздухонепроницаемый стальной кожух – это для того, чтобы кислород не сгорал на спиралях и в бане не обеднялся воздух. Устанавливался пульт автоматического включения спиралей – в зависимости от температуры воздуха в бане, по желанию – от восьмидесяти градусов до ста двадцати. Зяблик пояснял: «Академику – восемьдесят, домашним – сто, а мне и другим молодцам вроде вас – сто двадцать».
Вчера вечером учёные трудились в бане до самой темноты, до того часа, когда их позвали ужинать. Алюминиевую кастрюлю с котлетами и плетёнку с хлебом и сухарями им принесла внучка академика Наташа – девица в мини-юбке с вызывающе полными ногами; ничего не сказала, – ни здравствуй, ни прощай, – плюхнула кастрюлю на стол и показала спину.
Шушуня, раскладывая котлеты, объяснял ситуацию:
– Ну… И ляд с ними. Принесли тебе – жри, глазами по сторонам не шастай, не ропщи. А вообще-то – свинство, конечно. Одни в доме, в светлых комнатах, другие…
Шушуня оглядел времянку, покачал головой. Филимонов, вторя ему, шаркнул по тарелке вилкой:
– Зяблика проделки. Академик тут ни при чём.
Говорили, с опаской поглядывая на Галкина, – как бы он что не выкинул. Их молодой товарищ к еде не притрагивался, сидел в углу своей койки, смотрел в раскрытую дверь на угол веранды, где толпилась молодёжь и яростно хрипел транзистор. Сад притаился, присмирел под натиском бессвязных звуков, рождённых в чужих неблизких странах. Острый серп месяца вылетел на средину неба и тоже изумлённо уставился на зелёный земной пятачок, раздираемый дьявольской свистопляской.
За стеной времянки жил брат академика Ефим. Там скрипнула дверь, кто-то вошёл. И тут же раздался хриплый, но явственно слышимый голос Буранова-старшего:
– Оклемался малость – и вновь к тебе. Куда ж мне податься!
– Чего выполз в одной рубахе – роса пала, зябко. Да и приступ был, укол дачи.
– И никакой не приступ. Сердце кольнуло, и у молодых бывает, а они чуть что – крик поднимают. Помолчали с минуту.
И вновь академик:
– В баню ходил к художнику – соседу. Оттаял малость. Художник-то – он по банному делу мастак. Ложись-ка, говорит, на спину, я тебя по левому боку – там, где сердце болит. И ну жарить, ну жарить!.. Разогнал ломоту, – молодец! Надо Зяблику сказать, чтоб картину у него для института купил. Без денег сидит. Художник – одно слово.
– Во-во!.. Нынче картину у него купишь, – поди, завалящую, завтра – хлопотать попросит. Липучий он, твой Почкин! Банным веничком корысть себе из вас, дураков, выколачивает. Тьфу, мерзость! Прежде вроде и людей таких не было.
– Ах, Ефим! Злобствуешь ты! Все у тебя нехороши. Зяблик – плох, и учёные вон, что в бильярд играют, не здороваются с тобой. Теперь вот… Почкин! Ну что тебе в них? Ты их не знаешь, и они тебя. Занимайся садом.
– Оно – так! Да не во мне дело. Хапуг не переношу, сроду их не любил.
Академик хохотнул трескуче, словно щепки рукой перебрал.
Бригада электриков за стеной замерла, лежат – не дышат. Жизнь академика с чёрного хода им открывалась. И сам он – не директор, не учёный с мировым именем, а человек, обыкновенный, простой и даже в чём-то несчастный. Жалкий он в своей старости, в болезнях, в одиночестве своём, и почти в такой же заброшенности, в какой пребывал и его младший брат. Ефим не унимался:
– Дойную корову нашли, – ворчал старик. – Каждый от тебя жирный кусок норовит урвать. Зяблик-то вон как хлопочет; ишь Дарью как строго держит и всех остальных. А тебе, Ляксандр, в останний раз говорю: уйду я от вас. Ссудил бы ты мне пенсию какую от своих щедрот. А?.. Не то худо будет. Зяблика не переношу. Дьявол он жёлтоглазый! Вот косу я наточил – чиркну по шее и делу конец!
Академик зашёлся смехом – с икотцей, с прихлипьем.
– Чиркнешь, говоришь? Идея, братец, ты ему только загодя пригрози. Трусишка он, Зяблик наш. Вот как испугается! И вновь заикал, захлюпал старческим горлом. Успокоившись, сказал:
– Смех – хорошо, он душу чистит.
Братья потом и другие дела обсуждали, о молодых годах вспомнили, отца-матушку добром помянули…
А за стеной лежали на койках и смотрели в темноту изумлёнными глазами невольные слушатели. И каждый о своём думал – примерно о том же: о сложности человеческого бытия, о гримасах и превратностях быстротекущей жизни.
В сущности ничего не произошло в жизни и судьбе трёх ученых за два дня пребывания на даче их шефа, академика. Не было и малейшей размолвки, колких словесных дуэлей, но сработала внутренняя незримая пружина: они вдруг замкнулись, стали меньше разговаривать. Каждый из них как бы неожиданно для себя стал свидетелем некрасивого поступка другого – поступка, который и сам помимо своей воли совершил. И каждому стало гадко.
Пытаясь разобраться в происшедшем, они теперь, лёжа на койках, вспоминали, как всего лишь два дня назад они с чувством радости и той тихой, скрываемой от других гордости, приняли приглашение академика посетить его дачу, – их везли на директорской «Волге», они были тут не однажды, рассчитывали на обыкновенное в таких случаях гостеприимство. И первые часы устройства, знакомства с баней, где им предстояло, как утверждал Зяблик, «руководить бригадой рабочих и кое-что поделать самим», и даже дощатая времянка, назначенная им для ночлега, их не обескуражила, хотя и заронила огорчающее душу недоумение.
Разочарование, досада, враждебное недовольство приходили постепенно, по мере того, как выяснялись затруднительные обстоятельства: рабочие, не сговорившись в цене, ушли, и Зяблик, сделав невинное выражение лица, сказал: «Тут и дела всего-ничего, управимся». Во время обеда ждали приглашения в дом к шумному застолью, а вместо того им принесли еду во времянку. А тут ещё ковёр, лосиная шкура…
Филимонов на что человек покладистый, от мира отрешённый – ни в каких ситуациях не прекращает занятий математикой – и перед начальством всегда человек смирный, безотказный, а и он терзался думой: «Ковры-то, пожалуй, – лишнее, можно бы и отшутиться как-нибудь».
Галкин примолк в своём тёмном углу; он в довершение ко всему, как человек особо впечатлительный, натура поэтическая, «переваривал» ещё и только что слышанный разговор академика с братом, лежал с час, разглядывал силуэты дубовых и берёзовых веников, висевших над ним, находя сходство их тёмных пятен то с муравьиными кучами, то с женскими сарафанами, временами тяжко вздыхал, ворочался с боку на бок, но потом встал, оделся и вышел, оглушительно хлопнув дверью.
– Домой поехал, – сказал Филимонов, зная буйный нрав и болезненное самолюбие Василия.
– И нам бы в пору! – пробубнил Шушуня и отвернулся к стене. И ему было тяжко и тошно, и он бы хотел выговорить накопившееся за эти дни возмущение, но в положении Шушуни были щекотливые моменты, понуждавшие его безропотно сносить обиды. Он – «битый», «полетел» с поста, – из тех, про которых говорят: «У него рыльце в пуху». Хотя, собственно, ничего дурного он не сделал, и даже наоборот: занимая пост начальника управления в министерстве, показал характер, пытался противоречить заместителю министра Бурлаку. Его по-умному «съели». В кабинете рассовали несколько бутылок из-под водки. И в партком – анонимку: мол, пьянствует на службе. Сработали нечисто, а должность пришлось оставить. Хвост потянулся грязный, нигде Шушуню не брали. И тогда на помощь пришёл Филимонов – пригласил в свою группу.
Судьба института, да и своя собственная, его не томила, не заботила. Он знал: ветер перемен, ворвавшийся в страну со смертью Брежнева, выметет прежде всего тех, кто не умеет цепляться за свои, отхваченные у жизни высотки, кто не сноровист выбегать в одну дверь и забегать в другую. Стариков пометут со всех углов. Нас, ветеранов… «Ах, и ладно! Удалюсь на заслуженный отдых».
Он мысленно давно таким образом решил свою судьбу и потому засыпал быстро и спал крепко, и на страсти, кипевшие вокруг него, смотрел, как с высокой пожарной каланчи.
Филимонов сквозь глубокую дрёму едва различал его голос и что-то прочмокал губами в ответ, и тотчас провалился в сон – в небытие, в таинственно-безбрежную отрешённость, где не было ни света, ни голосов, ни изнуряющих душу забот и желаний. У него было больше причин тревожиться – и за себя, и за судьбу подчинённых, зависимых от него людей, и, главное, за судьбу импульсатора – изобретения, сулившего переворот в металлургии. Но так был устроен этот человек: что бы с ним ни случилось, засыпал в раз назначенное время и спал без сновидений на одном боку.
Безмятежно похрапывал в своём углу на детской кроватке и Вадим Краев. По своему рабочему подчинённому положению он в дискуссиях не участвовал, реформ не боялся – делал хорошо своё дело и не позволял себя впутывать ни в какие щекотливые ситуации. В душе он уважал одного Филимонова – за него страдал, о нём заботился, до всех остальных же, хотя он и работал с ними не один год, ему не было дела.
Не спал один Вася Галкин. Распалённый странным и таинственным разговором братьев, уязвлённый всем происшедшим за день, он вышел на воздух и несколько минут бесцельно бродил по саду. Недовольство и обида, нанесённые коврами, мучили его, но сейчас он меньше думал о себе; его оглушила, обескуражила, вывернула наизнанку душу исповедь академика, его страшное одиночество. «Мне когда тяжело, к тебе иду», – говорил Буранов брату. Василий внимал тишине ночного сада и чудилось ему: он и к нему обращается, Галкину, и его призывает на помощь в этот трудный час своей жизни.
«Как? – останавливался Василий. – Разве такие люди… большие, сильные… Разве они… Нет! Нет! Буранов – величина, он всесилен. Он жалует ордена, докторские дипломы, должности. И вдруг – немощный, больной, жалкий в своём одиночестве старик! Дунь на него – и полетит как пушинка. Нет силы, опоры – нет ничего». И Василий и себя вдруг ощутил ничтожным, ничем не прикрытым. Прихлопнут институт – теперь уж как пить дать! И… пошёл он, солнцем палимый. Куда свой путь направит, к кому приткнётся? Кандидат. Человек, только возмечтавший что-то сделать в науке. Пнут ногой, и – покатился. В Москве нет квартиры. Трое детей, рыхлая больная жена. Снова на Урал – к мартеновской печи?
Тропинка вела Василия в сторону гаража, он скоро увидел за калиткой на лесной поляне автомобиль и свет в кабине. Там парочка стелилась на ночлег. Доносился негромкий разговор.
– Зяблик предлагал нам диван на веранде, ты зря отказался, – корила мужа женщина.
– Нам и здесь будет хорошо.
– Я постирала кучу салфеток, полотенец, – все ногти обломала, а ты не был представлен академию.
– Пустая формальность! Не он будет решать нашу судьбу, всему тут голова – Зяблик.
«Вот они зачем тут, – подумал Галкин, ускоряя ход по направлению к дому. – И Три Сергея! Затем же!»
В доме все двери и окна были освещены, к ним, точно девушки в светлых сарафанах, прильнули берёзки. Под стрехой, устраиваясь на ночлег, зашуршала крыльями славка, и тотчас в тёмной шубе дикого виноградника, обвивавшего балкон, завозились воробьи. Из правой веранды высыпала стайка молодых людей. Галкин отскочил в кусты крыжовника, исколол ноги, прошёл к углу дома. Тут в ярко освещённой угловой комнате увидел сидящего за письменным столом Зяблика. На полу, на лосиной шкуре полулежала в вальяжной позе Наташа, внучка академика, – это она принесла им кастрюлю с котлетами. Дальше, за шкурой, алел кроваво-красным орнаментом набивной ковёр – тот самый, неподъёмный. «Его ковёр и шкура, – Зяблика, – обожгла мысль! – Да, да… не для академика старались, а ему, для него… Обманул нас, мерзавец!»
Василий отшатнулся от окна. Обида сдавила грудь. Двинулся напрямую по саду к времянке. Прокрался к своей кровати, улёгся без шума, но заснуть не мог. Принимался считать до ста, но сон не приходил. И лишь на рассвете Василий забылся.
Возле бани, на залитой солнцем зелёной лужайке, тесным кружком сидели все наши работнички и Три Сергея. Центром кружка был Филимонов. Он набирал полную грудь воздуха, произносил с грозным видом слова, похожие на заклинание: «А-ба-ши Ки-ркли…» Всплёскивал руками и заливался детским, совершенно упоительным смехом. Обрывал он смех так же внезапно, как и начинал; выпрямлялся весь, будто заглатывал аршин, пучил младенческие незабудковые глаза, произносил пугающе-страшно: «А-ба-ши Ки-ркли!» – и, взмахивая руками, как петух крыльями, вновь заливался смехом. Завидев Василия, вскинул руки:
– Слышь, Василий, – Мама Бэб, ну та, что все бумаги наши заедает, – не Мама Бэб, – А-ба-ши Ки-ркли! Слышишь – Ки-ркли! Это у неё фамилия – Кирклисова, Институтские остряки сократили – Киркли. А мы и не знали. Мама Бэб, Мама Бэб… А у неё есть фамилия – Кирклисова. Вот они говорят, – кивнул на Трёх Сергеев. – И ещё говорят: в русском языке ошибок кучу делает, а наши бумаги редактирует. Редактор, цензор – каково? Бумаги наши на нюх берёт: милый, постылый. Слышь, на нюх… Бумаги-то…
И снова взрыв смеха. Вулканический, до слёз и головокружения.
Сергеев и Сергиенко сидели рядом с Филимоновым, Сергеев держал в руках блокнот, и, как только Филимонов заканчивал какой-нибудь рассказ или справлялся с очередным приступом смеха, подносил ему раскрытую страницу с шариковой ручкой, просил «взглянуть» на какую-то формулу. И Филимонов брал блокнот, бегло просматривал записи и делал пометки. Обыкновенно говорил Сергееву: «Не туда поехал! Тут следует другая зависимость. Вот – смотрите!» И писал формулы. Иной раз исписывал страницу, две… Писал быстро. А закончив, подавал блокнот хозяину и вновь обращался к беседе.
По мере того, как Сергеев эксплуатировал его таким образом, Вадим Краев, бдительнее других наблюдавший за шефом, терял равновесие, ёрзал на пеньке, где он пристроился несколько в стороне от кружка, и всё громче подавал реплики: «Дали бы отдохнуть человеку!» Или: «Ну что вы пристали с этими формулами!» Ворчал он глухо, невнятно, – его, пожалуй, никто и не слышал, но важный и серьёзный Шушуня, сидевший к нему ближе других, нервно поводил бычьей шеей, метал чёрные искры из своих карих женственно красивых очей. Он вообще недолюбливал Вадима, особенно в минуты, когда тот бесцеремонно совал нос в дела Филимонова.
Знай Шушуня все подробные обстоятельства жизни лаборатории, все тонкости отношений, особенно же всю механику роста Трёх Сергеев, он бы, может быть, не так строго судил Вадима. Ещё недавно Три Сергея не имели никаких званий, их никто не замечал в институте, и они, зная безотказность Филимонова, консультировались у него по математике. Но вот они защитили диссертации – возгордились, занеслись, при встрече едва отвечают на приветствие, однако и теперь приходят к Филимонову со своими бесконечными вопросами. Поговаривают даже, что в статьях, что печатают они в журналах, пестрят выкладки и расчёты Филимонова, что не открой Филимонов какие-то математические зависимости – не быть бы им докторами. «Ладно, пользуйтесь, – рассуждал Вадим Краев, неотлучно состоявший при Филимонове, – но зачем же нос задирать? Зачем показывать превосходство, если его, этого превосходства, в сравнении с Филимоновым, у вас нет?»
Впрочем, ни напористость Сергеева со своим блокнотом, ни реплики Вадима, становившиеся всё более громкими, – ничто не нарушало изначально весёлого тона беседы. Филимонов, предаваясь ребячески-озорному настроению, казалось, не думал о впечатлении, которое он производит на своих товарищей. Очень ему понравилось царственно-восточное имя невзрачной прыщеватой старушки, игравшей во всех институтских делах не всем понятную, но мистически важную роль. При встречах с ней одни шарахались в сторону, другие сгибались в льстивом поклоне и приветствовали возможно более ласковым голосом.
– Вася, слышь-ка, – в институте аттестация, – встретил Галкина Филимонов. – Вот он, товарищ Сергеев, будет нас с тобой аттестовыватъ.
Филимонов чертил формулы, глаз от них не отрывал и говорил громко, эхо летело в лес и отдавалось там, в тёмных еловых дебрях: атте-а-а-ция!
Васю эта весть как палкой по голове ударила; Сергеев его не любил, он знал это, – и, конечно, Галкин вылетит из института пробкой. И Филимонов полетит, Шушуня – по возрасту.
– Не успеют! – нарочито бодро возгласил Галкин. И соврал для устрашения: – У меня дружок в Госплане, так он говорит, список видал… назначенных к закрытию институтов. Наш там среди первых значится. – И чтобы заполнить наступившую паузу, пропел фальшивым тоном:
Переменим с тобой, эх, да жизнь городскую На роскошную жизнь… эх, да деревенскую.
Филимонов, подавая блокнот Сергееву и будто не слыша бодряческой припевки:
– А, Вася! Аттестация!.. На Москве теперь ба-а-льшие перемены! Нас, бездельников, шугануть решили. Их, говорят, научных работников, в одной столице миллион расплодилось. Это, если с жёнами да детишками, – миллиона три будет, а то и четыре. Государство целое. Финляндия! Вон газету принесли, про наш институт фельетон тиснули: «Гора родила мышь». Семьсот гавриков за год выдали три небольших изобретения. А слесарь на уральском заводе был, так он один за год четыре изобретения выдавал. А?.. Каково? Один за наш институт сработал. Интересно, сколько он получил за свои четыре изобретения? Пожалуй, меньше, чем Зяблик в месяц получает. А что как нас – на его место, а его – сюда, в институт. И начальства не надо, и машин, и дач, и гигантского здания. А, Вась? Могут ведь и так дело повернуть.
«Чего дыбится? – мысленно раздражался Галкин. Десять лет морочил людям голову со своим импульсатором. Теперь и нам из-за него по шапке дадут».
Представил, как будет проходить аттестация, как эти… Сергеи утречком зайдут к Маме Бэб, станут с ней из китайских чашек кофе пить. И между делом, весело болтая, назовут его фамилию – Галкин. Мама Бэб скорчит мину: ату его!..
От этих воображаемых картин по спине Галкина, семеня и царапая льдистыми коготками, побежали мелкие насекомые. Тут подал голос Сергеев-Булаховский; он до того сидел скромнее всех, смеялся сдержаннее других – и вдруг:
– А мы видели, как вы, Галкин, в малиннике Дарью Петровну обвораживали.
И все повернулись в сторону Галкина, – смотрели серьёзно и с изумлением; Вадим Краев – и тот навострил уши; у всех на лицах было написано: «Ого, Вася Галкин! Да ты хват, братец!..» И как только прошла первая минута изумления, Филимонов сделал петушиный жест – всплеснул руками, – ему только дай повод к веселью:
– И хорошо, Вася. Войди в доверие, охмури хозяйку, – может, в дом нас пригласят, за стол с хорошими людьми посадят. А там, глядишь, с её-то помощью, в академики выйдешь, вот и их обскачешь, – кивнул на Трёх Сергеев. И все снова засмеялись, хотя и не так громко, видимо, шпилька, пущенная во многие адреса, показалась кое-кому неуместной. Филимонов видел это, но не унывал. Он пустился в рассуждения о выгодах, которые сулит близость к академику, приводил примеры их институтской жизни, – и вновь допускал излишества, неловкость выражений, но нисколько этим не смущался. Неодобрительно хмурил брови Шушуня, ниже склонял седую голову. «Серьёзный ты человек, – говорила вся поза Шушуни, – руководитель группы, а несёшь околесицу». Шушуня не только осуждал Филимонова, – он в эту минуту искренне жалел шефа. Три Сергея – важные лица, с ними бы дружбу завязать, а он их высмеивает. «Безалаберный человек ты, Николай Авдеевич, – удивительно непрактичный. Видно, жизнь тебя мало тёрла», – так в досаде бессильной втайне журил своего шефа Шушуня.
А тем временем к Филимонову всё ближе подбирался длинноволосый Сергиенко; и едва лишь улучив паузу, сунул под нос Филимонову и свой блокнотик. Филимонов углубился в расчёты, остальные продолжали шпынять Галкина, и никто не заметил, как решительно поднялся Вадим.
– Сидим тут! А дело стоит!.. И пошёл в баню.
Николай, вздрогнув, опустил на колени блокнот, Шушуня встал и двинулся было к наглецу, но Филимонов подал команду:
– Что ж, и вправду – хватит. Пора за дело, ребята. Извините, – вернул он Сергиенко блокнот с расчётами.
И бригада, один за другим, втянулась в баню. Шушуню трясло от негодования, а Вася Галкин был на грани какого-нибудь дикого поступка. И возмущал его не столько хамский выпад Краева – с дурака взятки гладки! – сколько олимпийское, ничем не оправданное равнодушие шефа. «Нет, как хотите, – обращался он к себе в третьем лице, – а это уж никуда не годится. Паршивый слесаришка, а что себе позволяет!»
Работу никому не сдавали и никому не объявляли о готовности. Привернув градусник, как того хотел академик, в углу над дверью, Филимонов сказал:
– Дело кончено. Можно по домам.
Он жил неподалёку в том же посёлке. Сложил в ящик инструменты, коротко простился, пошёл домой. За ним увязался Краев. Они всегда так: о совместных действиях не сговариваются, слов лишних не тратят; между ними установился тот дух взаимопонимания, при котором оба они как бы слышат возникающие в душе другого желания, угадывают нюансы настроения, – несмотря на пропасть в их интеллектуальных уровнях они сближаются и мыслят совершенно одинаково в оценке дел житейских, в истолковании страстей человеческих. Впрочем, рассуждать о поступках людей любил Вадим. Шеф, слушая его, отвлекался от занятий математикой, от вечных своих расчётов по прибору – слушал. И часто смеялся. И всплёскивал руками, восклицал: «Ах, бес! Ах, хитрец! Ну не шельма ли ты после этого!» Замечания делал беззлобные, любым поступком слесаря, даже дерзким, неожиданным, он словно бы умилялся в своём вечном счастливом расположении духа.
Недаром кличка за ним укрепилась – «Филимон», и выразилось в ней не одно только стремление упростить фамилию; в имени этом, музыкальном и звучном, отдающим давней русской стариной, – весь характер его владельца, всё то, что можно бы окрестить и другим словом: простофиля. И та простота, что красит человека, и та простота, что хуже воровства. «Филимон!» – раздаётся вдруг чей-то голос в институтском коридоре. «Филимона, Филимона об этом спросите!» – раздражённо проговорит другой. И как бы люди ни относились к руководителю группы Импульса Филимонову Николаю Авдеевичу, в звучном стародавнем имени Филимон лишь глухой не услышит едва скрытую насмешку, окольный намёк на простоту – ту, что хуже воровства бывает.
Впрочем, сам-то Николай завидно равнодушен к кличке. И по тому, как он охотно на неё отзывается, как, растворив небесного цвета немигающие глаза, торопится вам навстречу и как потом долго доверчиво смотрит на вас всё тем же открытым немигающим взором, – и не дрогнут брови, не покроются даже мимолетно тёмным облачком его ясные, проникающие в душу очи, – по всему этому и по всей линии жизни его и поведения вы можете заключить: «Ах, как же метки бывают прозвища!.. Филимон! Одно только слово – и весь человек!»
– Филимону наплевать! – проговорил Вася Галкин вслед шефу. – Ему хоть земля пополам тресни – ухом не поведёт.
– Ты это о ком? – спросил Шушуня, вымыв под краном руки и кидая нетерпеливые взгляды на дачу; он бы не хотел уходить, как Филимонов, ждал хозяев, чтобы показать им работу, встретиться с академиком, – втайне ещё надеялся посидеть с директором за столом, распить в обществе его домашних чашечку чая.
– Не в моих правилах осуждать начальство, но это всё-таки свинство, чёрт бы их побрал! Спасибо не скажут!
Вася Галкин метал стрелы молний и в адрес Филимона, проявившего ко всему твёрдокожую бесчувственность, однако остриё гнева направлял в обитателей дачи, оставлявших их без внимания и в момент окончания работы. Могли бы и отметить этот случай, позвать в дом, поблагодарить. Он кидал ястребиные взоры по усадьбе, искал Дарью Петровну, с которой хотел закрепить знакомство, но и её нигде не было, всё словно вымерло, словно смеялось над его бессильным негодованием. И Три Сергея – и те спрятались куда-то, и Зяблик, наблюдавший за их работой, – и тот…
Тут мысль Василия запнулась, он сдавил пальцами лоб: «Постойте! – работала мысль. – Зяблик! Не его ли это козни?.. Он! Конечно же, это он всё подстраивает таким образом, чтобы они не сблизились с академиком, оберегает всех обитателей дачи от знакомства с ними – лишними, ненужными людьми. Зяблик и поселил их отдельно, и коврами унизил».
– Зяблик тут всему голова! Пойдёмте к нему.
– Зачем? – удивился Шушуня, вскидывая на плечо вещмешок.
– Как зачем? Работу сдадим. Простимся, наконец! За ковры отбреем. Нельзя же прощать такое!..
Шушуня подтянул ремень рюкзака, вскинул его для утруски, сказал:
– Пожалуй, ты один… брей Зяблика. А если тебе нужен мой совет – не лезь на рожон! Наше время не для дуэлей. Ныне побеждают невидимки – те, кто умеет наносить удары, оставаясь сами незаметными. Учись у Зяблика. И не брани шефа – Филимонова. Он как яркий огонь привлекает к себе мошкару. Мошкара греется возле него и грызёт его же. Не будь Филимонова – удары посыплются на нас с тобой. А наша кожа тоньше и нервы слабее – вряд ли мы устоим под ударами Зябликов. Так-то, мил друг. Не люблю я таких откровений, да ты молод, неопытен, чем скорее постигнешь природу бытия, тем быстрее окрепнешь.
Откровение старшего товарища проняло сердце Василия, в тёмных горячих глазах его блеснул огонёк благодарности. Но мысль о тактике борьбы высекала в его сознании другую мысль – о необходимости бороться. И он решительно заявил:
– Пойду к Зяблику. Отбрею мерзавца. За всех отбрею – и за вас в том числе.
Последними словами он как бы благодарил Шушуню за дружеские чувства и доверие.
В дом прошёл через парадную веранду, у встретившейся в первой комнате женщины спросил: «Где кабинет Артура Михайловича?» Она показала коридор и в конце его вход в угловую комнату. Зяблик сидел за письменным столом, поднял на вошедшего зеленовато-жёлтые с коричневым отливом маленькие глазки. Не удивился, он вообще редко чему-нибудь удивлялся.
– Проходите, – сказал бесстрастно. И Галкин заметил, что, выговаривая слова, Зяблик шевелит только нижней губой. Верхняя губа толстая, словно вспухшая, остаётся неподвижной. «Странная примета», – подумал Василий. И сходство со львом у Зяблика было поразительное: близко посаженные глаза, толстый, растекающийся книзу нос, узенький лоб с тремя морщинками и вытянутое, совершенно львиное выражение лица.
Оглядел ковёр и шкуру – они! Конечно же, те самые!.. Нацелил палец в ковёр:
– Ковры мы для кого чистили?
– Для академика Буранова. Тут всё его, академика. И эта комната, зимой он тут работает.
– Да, да. Мне всё ясно. А вы?.. Насколько я понимаю…
– Такой же гость, как и вы. Пригласят – приеду, не пригласят… словом, как вы.
– Извините. Прошу прощения. Не подумал. Чёрт знает, что подчас придёт в голову.
– Ради Бога! Чего уж тут. Хотите, закажу чаю?..
Галкин опустился на диван. В нём ещё клокотал гнев, но критическая точка миновала, излишек пара он стравил. Облизывал пересохшие губы, тяжело дышал. Посидел с минуту, встал.
– Да я, собственно, пришёл доложить: работа закончена.
Приказ о новом важном назначении объявляли в конференц-зале. Обстановка полудомашняя, неофициальная. Институтские забили зал до отказа, сгрудились в коридоре, ждали тревожных вестей. Однако речь заместителя министра Бурлака, как всегда, была отвлечённой и будто бы не касалась проблем институтской жизни.
– Каждое новое поколение застаёт мир готовым и ничему не удивляется, – говорил Бурлак, улыбаясь, придавая словам отвлечённый и философский тон. – Многим из вас, особенно молодым, кажется: Институт сплавов существовал всегда, и широкий спектр металлов, и материалы, по прочности близкие к алмазам, – всё было до вас, всё есть и всё будет. И, может быть, в этом парадоксе заключена мудрость жизни. Не обременять разум осмыслением прошлого, идти вперёд, весь жар молодых сердец тратить на постижение тайн. Так, не оглядываясь, пойдут вперёд новые поколения.
Тревожными были только слова «новые поколения». «Что это значит?» – переглядывались учёные. О каких новых поколениях загалдел вдруг этот хитрый и коварный Бурлак, которого в институте боялись как нечистой силы? Он в министерстве заведовал наукой, от него шли самые страшные, разрушительные директивы: то важную лабораторию прикроет, то выживет из коллектива яркую творческую личность. Буранов ему не перечил, будто бы знал, что Бурлак на короткой ноге с самой мадам Брежневой. А однажды он самолично привёл в институт парня с трясущейся головой и выкаченными на лоб глазами и повелел зачислить его научным сотрудником. Институтские остряки затем, кивая на него, шутили: «Это наш Эйнштейн».
Бурлак и раньше любил говорить обо всём новом, а теперь-то слово «новое» звучало всюду: «новые люди», «новые подходы», «новое мышление».
– Наш дорогой Александр Иванович ныне, как никогда, нуждается в хороших помощниках, – сказал заместитель министра и наклонился влево, коснулся двумя пальцами плеча сидевшего с ним рядом Зяблика. – Нам было нелегко найти человека, достойного встать рядом с таким большим авторитетом в науке, каким является наш дорогой академик Буранов. По научному потенциалу, по эрудиции, по значимости собственного вклада в науку о сплавах на обозримом горизонте такого человека нет. Но среди вас есть люди, имеющие большой организаторский дар. – Бурлак снова коснулся двумя пальцами плеча Зяблика. – Коллегия министерства приняла решение: назначить Зяблика Артура Михайловича первым заместителем директора института.
Потом Бурлак стал пространно излагать мысли о счастливом и очень нужном для науки даре создавать дух гласности, привлекать внимание к делам своим собственным и своих коллег. Слова он говорил мягкие, круглые, – они никого не задевали и не обижали, и даже будто бы не касались никого в особенности, и молодёжь не совсем понимала высокого чиновника, но для старых, опытных учёных складывался из этих слов вполне осязаемый и всё чаще в научных кругах встречающийся тип человека, умеющего каким-то недоступным для других образом нагнетать вокруг намечающегося открытия – пусть даже небольшого, иногда и совсем незначительного – атмосферу важности и нетерпеливого ожидания.








