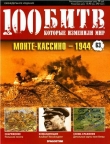Текст книги "Горькая линия"
Автор книги: Иван Шухов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Сам жених с еще большим шиком лихо подлетел к дому тестя верхом на строевом коне. Спешившись против немировского дома, Федор походкой завоевателя прошел сквозь шпалеры праздных зевак к высокому, как трон, устланному гарусными коврами крыльцу.
И вот с утра еще тихий и мирный немировский дом загудел теперь, заходил ходуном.
Дорогих гостей Немировы принимали в горнице. В превеликой тесноте разместились сородичи жениха вперемежку с родными невесты. Гости сидели почти впритирку вокруг составленных, до отказа заваленных разной снедью столов. Над штабелями кремовых вафель поднимались вороха воздушного хвороста. Золотые туши гусей и бронзовые окорока, лоснясь от жира, лежали на расписных блюдах. И дымились набитые серебряными карасями, уснащенные лавровым листом, перцем и рисом горячие пироги. Остро пахло укропом, хреном, уксусом и анисом. Туеса извлеченных из погреба соленых груздей стояли, как башни. И над всей этой прополосканной в масле снедью и перетертой в меду и сахаре сластью возвышались жерла запотевших на погребу четвертных бутылей водки, настоек и вин. С гулом, созвучным ружейной пальбе, вылетали из жбанов с пивом тугие, залитые варом пробки. И белая накипь хмеля клокотала в фарфоровых чашах, тяжко колеблющихся в шатких руках дружек и свах.
– Сватушки! Гостенечки вы наши нежданны-негаданны!– все с руладами, все нараспев заливалась сладкозвучной степной птахой суетливо хлопотавшая у стола не старая с виду, но седая головушкой Якимовна – мать невесты.– Потчуйтесь. Кушайте. Да уж извиняйте вы нас, ради истинного Христа, на нашем угощении. Не побрезгуйте наших кушаньев и вареньев. Не обессудьте нас, грешных…– как по нотам, выводила Якимовна.
– Ой, да господи, сватьюшка! Да што же это, милая ты моя, так убиваешься!– молитвенно всплескивая в ладоши, смиренно клоня при этом к плечу голову, восклицала в той ей Агафьевна.– Да куда же нам ишо этих ваших кушаньев-то! И так неча бога гневить. Ведь живой воды у вас на столах не видать, а остальное чисто все налицо имеется.
– Ох ты, разлюбезная моя сватьюшка!– с разбегу присев на краешке стула рядом с Агафьевной, продолжала на высокой ноте свою песню Якимовна.– Ну ни сном ведь, ни духом не знали мы и не ведали такого дела. А знатье – так уж так ли бы мы припаслись, так ли бы мы приготовились!
– Да годнее некуда приготовленья, милая сватьюшка…– стойко отстаивала честь стола Агафьевна.
– Нет, не говори, сватья. Правда, не в укор восподу богу живем. Што напраслину говорить. И хлебец в сусеках есть. И скотинка и птица на нашем дворе пока водится. Не стану, сватьюшка, хвастать. Ну, дорогих гостей не бесчестим. Знаем, как приветить и чем попотчевать.
– Што ты, разлюбезная моя сватьюшка!– восклицала утомленная застольным шумом и духотой Агафьевна.– Што ты, голубушка! Да ведь самостоятельных-то людей за версту видно. А тут, погляжу я, от одной солонины столы ломятся…
– Ох, уж извиняйте меня, любезная моя гостюшка, ежели чем по первинке не угодила я тебе али не уважила.
– Ах, уж чисто всем я довольна. Так довольна, так довольна, что и сказать не умею, и словесно выразить не могу. Покорнейше благодарствуем вас, сватушки, за все ваши хлопоты да угощения…
– Пирога-то бы рыбьего, сватья, отведала.
– Успем ишо. Отведаем. Да я и не шибко промялась, сватьюшка…
– Ватрушечек покушайте. Крупичатые. С ванилью.
– Благодарствую вас. Так и быть, одну скушаю…
– Да возьми, сват, хоть парочку.
– Уволь, сватья. Дорога не дальняя, не шибко проголодался…
– А ты бы, сватьюшка, вареньица помакала,– снова переметнувшись от Егора Павловича к Агафьевне, завела нараспев Якимовна свою обедню:– Отведай, любезная, клубничного. Попробуй и костяничного. Это ведь доченькино изготовленье. Чисто все ее белыми рученьками припасено и к столу подано. Уж извиняйте, не засидится она у вас без делов. Не таковска. Не загуляется… А уж как она, сватьюшка, на все мастерица-то, так ведь таких поискать только на всей Горькой линии. Ну за што ни возьмется, то у нее в руках огнем и горит. И попрясть, и связать, и любой тебе узор гарусом выложить… А уж такая там чистотка да обиходка, так уж и лишных слов пущать не приходится – сама, придет время, сватья, увидишь.
– Ой, да, сватья, да ведь обиходного-то человека сразу насквозь видно. Ишо бы – от такой родительницы да доченьке нечистоткой слыть! Слава богу, в казачьей семье росла. А уж наш ли брат, линейные казачки, не чистотки да не обиходки,– рассудительно разводя руками, заключила Агафьевна.
– Ну да, тоже мне, сватья, и у нас не в каждом доме и не в каждой семье,– возразила Якимовна.
– Она и тут чистая твоя правда, сватья. И тут я с тобой согласна…
– Сама посуди, сватьюшка, времена-то пошли ныне какие,– продолжала, не унимаясь, Якимовна петь свою песню.– Не успеют другие детушки на ноги встать, а уж, гляди, и волюшку в руки взяли – ни сговору с ними, ни сладу. А уж моя-то ведь доченька така послухмянна, та-ка послухмянна – всему хутору на диво. Ну не радошно ли тако дитятко материнскому сердцу, не болько ли?
– Ишо бы не болько, ишо бы не радошно!– чуть не всхлипывая от умиления, растроганно откликалась Агафьевна.– Вот и я, сватья, опять же про своего Федю теперь тебе доложу. Уж такой он у нас обходительный из себя да такой приветливый, што, скажи, ни старого, ни малого ие обойдет – с каждым душевно поговорить во всяко время сможет.
– И опять же я тебе, сватьюшка, скажу,– плохо слушая Агафьевну, продолжала самозабвенную песню свою о дочери захмелевшая Якимовна.– Хоть и не из кистей у меня Дашенька выпала, а ни умом, ни душевной приятностью нашу породу она не обидела.
– Про породу што зря говорить. Немировы спокон веку – казаки по всей Горькой линии на славе…
– То-то и оно, сватьюшка… А уж про приданое я и не говорю. Хвастать не стану, а сундуки-то не скоро подымешь,– проговорила почему-то полушепотом Якимовна, жарко дыхнув в ухо сватье. И, метнувшись с подносом в сторону, она снова залилась своим чистым и звонким голосом, обхаживая то одну, то другую, то третью сваху.
– Ах, уж чем же это ишо я попотчую вас, голубушка?! Чем вас, сударушка, ишо прибалую,– продолжала напевать Якимовна…
Молодые, как и было положено, занимали за столом центральное место – в простенке, под украшенным утиными перьями и дешевыми дутыми бусами старинным зеркалом. Выпив по первой рюмке огненной, настоянной на вишне водки, Федор и Даша продолжали теперь каждый раз чокаться со всеми гостями. Чокнувшись, но не пригубив своих рюмок, молодые деликатно отставляли их в сторонку и сидели, потупив взоры, строго и молча. В первые минуты пиршества, до тех пор пока еще хмель не развязал языков даже самым словоохотливым, но сию минуту надменно поджавшим губы свахам, пока полутрезвые гости увлечены были опробованием соблазнительных блюд, Федор и Даша чувствовали себя несколько стесненными, неловкими и даже как бы подавленными. А тут еще черт принес под самые окна целый букет разряженных в кашемир и шелка хуторских девок. Забравшись в немировский палисадник, девки бесцеремонно пялились в створные окошки, глазели на станичного жениха. Они без особого стеснения, довольно оживленно, хотя и вполголоса, обсуждали между собой все достоинства и недостатки Федора.
– Женишок-то, девоньки, как аршин проглотил,– не ворохнется!
– Ой, да и на обличье-то он – кыргыз кыргызом.
– На цыгана тоже смахиват…
– Ну нет. Русское, девки, обличье.
– Правильно, русское. Только нос подгулял маленько: на семерых рос, а одному достался…
– Зато чуб табашный – из кольца в колечко!
– Дура. Да это он его плойкой подвил…
– Не барахлите, ветрянки. Кудри природные.
– Батюшки-светы, да он при часах!
– А станишные кавалеры без карманных часов не ходят.
– Может, это не часы, а цепочка для красы.
– Милый мой, часы при вас? Расскажи, который час!
– А ну-ка, подвиньтесь. Встанут, язви их, как коровы, А другим чисто ничо не видать,– сказала басом, протискиваясь к окну, рослая и толстая девка.
– А ты тут кого не видала?!– окрысилась на нее шестнадцатилетняя модница с подкрашенными сурьмой бровями.
– Не на тебя же, бубнову кралю, пришла смотреть.
– Ну ладно. Не ломись, Физа. Ослепла – местов больше нет у окошка.
– Замри, Капа. Дай я на станишного казачка полюбуюсь,– сказала примиряющим басом толстая девка.
– На чужих-то женихов нечего зенки пялить. Своего пора бы тебе, Физа, заиметь годов тому назад с десяток,– не унималась модница с подрисованными бровями.
– А у меня был свой, да весь вышел. А нового для меня завели, да што-то долго, подлец, киснет…– басила, отшучиваясь и упорно пробиваясь к окошку, толстая девка.
Федор сначала злился на зубоскаливших за его спиной девок. Отлично слыша их издевательские насмешки и зная, что все это слышит и Даша, он сатанел с каждой минутой и сидел теперь как на иголках. Наконец, улучив удобный момент, он высунулся в створки и прицыкнул на чертовых просмешниц, пустив даже сквозь зубы по матушке. Но это нисколько не смутило линейных красавиц, а наоборот, только подзадорило их. И они, снова валом прихлынув к окошкам, принялись донимать разгневанного жениха такими на этот раз прибасками, от которых даже у Федора глухо горели темные щеки и ныло где-то в коренном зубу, как это случалось с ним только в минуту великого ожесточения…
В самый разгар пира в горницу ввалился знаменитый не только в станице, но и на всей Горькой линии гармонист Трошка Ханаев в сопровождении Дениса Поединка. Как правило, Трошка никогда не ходил по пирам и беседам без своего закадычного друга. Федор, завидев в дверях приятелей, просветлел, забыв о зубоскаливших под окошком девках.
В пояс откланявшись молодым и поздравив родителей жениха и невесты «с начатым делом», Трошка с Денисом выпили по стакану поднесенной им на подносе водки. И Трошка, не закусывая и не морщась при этом, рывком развернул на ходу канареечные мехи гармони. Затем, важно опустившись на услужливо подсунутую чьими-то руками табуретку, он прогулялся всеми пальцами сверху вниз по басам и потревожил слегка лады для пробы.
На мгновенье в горнице стало тихо. Одна из свах – это была двоюродная сестра жениха, бойкая, востроглазая бабенка Павочка Ситникова,– открыв набитый капустой рот, с изумлением посмотрела на гармониста. Подмигнув разомлевшей от жары и хмеля бойкой бабенке, Трошка крякнул и, сбочив голову, уронил ее, как отрубленную, на лакированный корпус гармони.
Рявкнули басы. И вдруг такая пулеметная очередь дьявольских вариаций вырвалась из-под промелькнувших над клавишами Трошкиных пальцев, что свах, словно вихрем, сорвало с места.
А минуту спустя ничего уже нельзя было распознать в этом калейдоскопе всеобщей пляски. В радужном сиянии стремительно кружащейся перед глазами красочной карусели порхали белые фантики и пунцовые, как пламя, бабьи подолы. Все слилось и смешалось в бешеном ритме пляски: кашемировые подшалки, кружевные передники, ситец, бисер и чесуча. Бесстыже скаля в медовой улыбке сахарно-белые зубы, свахи, беснуясь и взвизгивая, наседали на крутящихся заводными волчками танцоров. Все в поту, в чаду духоты и в хмельном дурмане, чудом выкручивались лобастые сибиряки из-за бушующего пламени бабьих подолов. И было похоже, что вконец осатаневшие от хмеля и пляски свахи так и норовили смести напрочь с круга своими разбушевавшимися подолами этих уже близких к обмороку плясунов.
И только в центре этого наглухо замкнувшегося в бесовском верчении круга, совсем будто чуждые всей этой неистовой праздничной кутерьме, плавали павами друг против друга помолодевшие и сияющие, как божий майский день, сватьи. Не теряя общего ритма пляски, смиренно сбочив увенчанные кружевными наколками седые свои головушки, сватьи с великим и близким к райскому блаженству умилением смотрели друг дружке в лицо и бойко приговаривали, ударяя в ладони:
– Уж ты,хмелюшко-хмелек, Что не развивался? Где казак ночевал, Что не разувался? Где, варнак, пировал, У какой сударки? С кем ты зорю зоревал? За каки подарки?
– Не за перстень-талисман, Не за злат сережки Открывала молода Ночью мне окошки.
Ходуном ходил древний немировский дом, растревоженный ревом стобасовой гармони, озорными припевками свах и буйной пляской. Стонали под коваными подборами плясунов вековые, в пол-аршинную ширину, половые плахи. В скороговорку, наперебой переговаривались между собой тарелки на столе и оконные рамы. Порожние рюмки, озоруя, приплясывали на подносе. Под столом, не поделив жирного окуня, дико ревели дымчатые коты.
Во дворе, под крышей прохладного в этот час немировского сарая, уже назревало нечто вроде кулачного боя. Двое полуобнявшихся или полувцепившихся – не поймешь – друг в дружку пожилых казаков тупо топтались вокруг здоровенной стойки. Один из них – Кирька Караулов, другой – бывший гвардеец, не уступавший ростом Кирьке, Феоктист Суржиков – дядя невесты. Кирька Караулов, взявшись всей пятерней за ворот сатинетовой рубахи Феоктиста Суржикова, рычал что-то нечленораздельное. А Феоктист, пытаясь вырваться из крепких Кирькиных рук, говорил ему почти со слезой, умоляюще:
– Освободи без греха мои руки, сват. Дай хоть раз я те наотмашь вякну. Уважь. Богом тебя, варнака, прошу, и сделай ты мне такую милость!
– Нет! Не могу я, сват, в этом тебе уважить…
– Ага. Не можешь?!
– Никак нет, сват. Отрицаю.
– Отрицаешь? А пошто?
– А по то, сват, не за што бы тебе в такой час личность мою соборовать.
– Хе! Ишо как усоборую. За один удар все грехи тебе оптом отпущу.
– Не кощунствуй, сват. Ты же не поп меня исповедовать!
– Хоть не поп, а в звонарях состою – кайся.
– В чем же мне каяться, сват? Чем я перед тобой грешен?
– Ага. Стало быть, все скрозь отрицаешь?
– Отрицаю, сват.
– Так. А то, што я при одном ухе двадцать с гаком лет состою, это ты тоже отрицаешь?
– При одном ухе – это так точно, сват. Это факт налицо. Не спорую.
– Ага. Ну вот за этот факт я сейчас тебя и брякну.
– Што ты, опомнись, сват!
– А я не больше четверти выпил – в своей пока памяти. Богом прошу, давай, ради Христа, подеремся, пока я сознанья не потерял. А напьюсь – мне тебя тогда не осилить…
– Драться я всегда, сват, с полным моим удовольствием. Ты меня зиашь. Не в том дело. Ты мне скажи, за што ты меня губить на свадьбе собрался?
– Как так за што?! Вот тебе на. А кто мне левое ухо перед полковым походом напрочь железной тростью отсек? Не ты, сват?
– Ну мало ли что там бывало у нас по холостяцкому делу…
– Нет, ты не виляй. Говори мне кратко, как на словесности, ты лишил меня уха? Твоя работа?
– Ну, был грех… Не спорую, сват. Дело прошлое. Правильно. Благословил я как-то раз тебя на фоминой неделе тростью. Каюсь.
– Ага! Каешься?! Ну вот, за это-то раскаянье я те сейчас и лупану…
– Одумайся, сват,– почти рыдая, увещевал. Феоктиста Суржикова Кирька Караулов.– Опомнись, я– тебе говорю. Ведь мы теперь вроде родни с тобой после сегодняшней свадьбы. Нам бы только пить-пировать, а ты грех заводишь.
– А пошто ты мне не коришься, сват? – Я корюсь, сват.
– А коришься, ослободи мои руки.
– Ну как же я тебе их ослобожу, сват? Ведь ты же меня в один момент можешь изувечить.
– Вполне могу. Определенно, сват, изувечу.
– Што ты, бог с тобой, сват. Опомнись.
– Знать ничего не знаю. Все равно я обязан тебя ударить.
– Смирись, сватушка. Четверть поставлю.
– Ага, боишься?!
– Не боюсь, сват. Дело родственное. Грешить не хочу.
– Врешь, подлец. Ты моего удару, а не греха боишься. Сам знаешь, кака рука у меня тяжелая. Али забыл, как я японцев клинком соборовал?!
– Бранное дело не забывается, сват…
– Ага. Стало быть, признаешь во мне силу?
– Не отрицаю, сват.
– Хвали меня, Киря. Я люблю, когда меня хвалят.
– Одно скажу – настоящий ты сибирский сват. А выше этой похвалы у нас на Горькой линии не было и нету.
– Правильно, Киря. Ты знаешь, наш брат-сибиряк не чета донскому казаку. Верно я говорю?
– Што про них, про донских, говорить. У их войска – одни чубы, похвальба да песни.
– Во, во, во! На это они мастера. А в песнях тоже пусть извинят нас, сибирских казаков. Грозней наших песен ни в одном войске нету. Што пожар али бури степные, то и песни сибирские – стеной ходят! Если грянет наш полк: «Появился в Сибири славный русский казак»,– у донских горлохватов и чубы завянут…
– Так точно, сватушка. В песнях нам тоже ни перед каким войском робеть не приходится.
– Сват! Сослуживец!– вдруг воскликнул высоким, рыдающим голосом встрепенувшийся Феоктист Суржиков.– Давай, сват, я тебя публично облобызаю. Давай, станишник, по-братски. В уста. Помнишь, как под Мукденом на позициях перед рукопашным боем лобзались…
И, тотчас бросившись при этих словах друг к другу в объятия, замерли казаки в долгом поцелуе.
Затем, так и не разняв переплетенных рук, казаки побрели в дом, гудевший от песен. Там они скрепили свою давнюю боевую дружбу еще одним стаканом остуженной на погребу водки, а потом помогли осоловевшим от духоты, хмеля и пляски свахам вывести на простор никак не ладившуюся у них проголосную песню.
Во дворе, в сторонке от кутерьмы и веселой сумятицы пированья, мирно посиживали под навесом уединившиеся в тени сваты – отцы жениха и невесты. Перед ними прямо на земле, среди щепок и древесного мусора, стоял уже наполовину опорожненный ими бирюзовый лафитник с вишневой настойкой. На коленях у Петра Петровича лежал кусок рыбного пирога, луковка и половинка груздя, поочередно надкусываемого стариками при закуске.
Одетые в одинаковые по покрою и цвету бешметы, с дымчатой проседью в окладистых бородах, старики походили один на другого. Оба выглядели сейчас несколько моложе своих лет. Лихо сдвинув на макушки подзаношенные казачьи фуражки, обнажив завьюженные сединой чубы, сидели сваты друг против друга верхом на дровосеке, молодцевато подбоченившись, как приучены были смолоду сидеть в походном седле. Оба они деликатно придерживали меж пальцев бочкообразные рюмочки и, то и дело осторожно чокаясь ими, забывали меж тем выпить и продолжали говорить.
– Нет, сват,– говорил Егор Павлович,– я своего хвалить не стану – варнак. Ты скажи, и воли как будто я ему с малых лет не давал, а вырос – сладу иной раз нету. И все бы еще туды-сюды, сват. Ну уж больно споровать он со мной, сукин сын, лют. Ни в одном слове тебе не уважит. Лучше не связывайся – забьет.
– Это насчет чего же, сват?
– А вот хотя бы насчет той же, скажем, рыбалки. Вспомнишь другой раз к слову, дескать, крупный окунь в станичных озерах в прежние времена водился, а нынче и мелюзги в другом водоеме не найдешь. Ну не дай бог, если он, варнак, такое воспоминание услышит, непременно встрянет. Привяжется. На смех тебя подымет. Над стариной казачьей начнет изъезжаться. И зимы лютей нонешних были. И жарища, мол, в летнюю пору в степи, как в бане, стояла – не продыхнешь. И дожди, говорит, у вас в былую пору, по вашим словам, как из ведра лили – с нонешними не сравнишь. Прихвастнуть, дескать, любите вы, старые казаки, на склонности лет своей жизни… Ну, я – на него. А ты, подлец, видел, што и как было прежде? Ты окуней-то десятиперстных едал? Ты в прежние морозы-то по извозам в город Атбасар али на Куяндинскую ярмарку хаживал? Тебя, сукина сына, под сугробами, как твоего родителя, заживо в буран хоронило? У тебя, варнака, ливнем последнюю десятину смывало?! Нет?! Ну, прижмешь его таким манером к стене. Другой бы тут и с ответу сбился, а этот и ухом не поведет. Стоит и над тобой же, бывалым родителем, зубы точит. И ни одному слову твоему не верует. И всего тебя вскрозь под сумление берет. Ну, не беда ли с таким спорным дитем, сват?
– А беды в этом, сватушка, я большой не вижу. Молодо-зелено. Все по молодости такие,– философски отвечал свату Петр Петрович Немиров.
– Не, не все, сватушка. Мой – особенный…
– Не скажи, сват. Не во всем, я думаю, он тебе и перечит.
– Да это понятно, не походя… Одна беда – горячи мы с ним оба. Но родительской власти я пока над ним не теряю. Потому и радошно, сват, што и свататься-то за твое дите он без моего благословения не поехал.
– Вот то-то и дорого, сват… И бог их благословит. А за совет да любовь наших детушек не грех нам с тобой и еще по чарочке выпить,– заключил Петр Петрович мир-беседу со сватом. И старики, деликатно чокнувшись, выпили свои рюмки.
Пир был в разгаре.
Валом вывалив из душной горницы на просторный двор, гости снова ожили и повеселели. Снова гулко загрохотали грозовые октавы ханаевской гармони. И, как пожар, занялась и пошла гулять над пирующим немировским домом старинная русская песня:
У церкви стояли кареты – Там пышная свадьба была. Все гости роскошно одеты, Невеста всех краше цвела!
Совсем потеряли от приступа буйной веселости, от хмеля и бражных песен бедовые свои головы сватьи и сваты. Утратили дар речи безмолвно лобызавшиеся между собой сватовья. И теперь уже пирующему по колено во хмелю и в песнях рукобитью было не до молодых. У каждого из гостей были пригоршни собственных прелестей и полные горсти забав.
И только Федору с Дашей не очень весело было среди ликовавших вокруг гостей. И молодые, покинув в разгар гульбища это шумное, красочное, как карусель, торжество, незаметно убрели по берегу озера в глухую и жаркую от полдневного солнца степь. Там, на гребне закрытого ковылями увала, стоял шестикрылый ветряк. Высокий, слегка осевший набок бревенчатый его корпус с молитвенно простертыми к знойному небу крыльями безмолвно маячил над млеющей в зыбком мареве степью и горько волновал своим видом каждого путника, привлекая к себе проходящих мимо людей. Всех привечала и всем давала приют эта древняя мельница: и пыльному путнику, и влюбленным, и малым ребятам, и дряхлым казакам, любившим уединиться в тени крылатого стража степной тишины в часы бренных и трезвых своих раздумий…
Сюда же пришли и Федор с Дашей.
Шли они, скрестив свои руки, медленно, молча. А вокруг было столько света, тепла и радости, и небо над их головами было такое чистое и синее, а на душе у них было так спокойно и хорошо, что не только разговаривать, но и думать-то даже ни о чем не хотелось. И шли они, ни о чем не думая, целиком отдав себя ощущению взаимной близости. Ни слова они не сказали друг другу и сидя на вросшем в ковыльную щетку жернове у подножия старой мельницы.
Удивительно хорошо было здесь в этот глухой час жаркого полдня. В неземном, безмятежном покое томилась окрестная степь. Неподвижным и плотным был воздух, пропитанный густым ароматом цветов и трав. Голубым огнем пламенело над степью великое небо. И не тихо, а глухо было вокруг. Только где-то высоко-высоко плавал, то замирая, то вновь возникая, неясный и сонный звон насекомых. На тысячу ладов прославляли они своим дремотным жужжанием невыразимую прелесть и благодать милосердного лета. Ожесточенно работали в травах кузнечики. Тройка огненно-бархатных мотыльков трепетала над венчиком дикой ромашки. И в несложном однообразии их мелькающих крыльев, казалось, звучала все та же едва уловимая музыка животворящей радости жизни.
А там вдали, над сверкающими под жарким солнцем железными крышами хутора, продолжала по-прежнему бушевать приглушенная пространством и зноем песня:
На ней было белое платье, Цветок был приколот из роз. Она на святое распятье Тоскливо взирала сквозь слез.
И Федор, невольно прислушиваясь к словам этой песни, ощутил в себе новый прилив такой любви и нежности к Даше, что, казалось, вот-вот выпорхнет наружу крылатое его сердце. Решительно все бесконечно близко и дорого было ему в эту минуту. И милая, присмиревшая рядом Даша. И старая мельница. И эта томящаяся в дыму полуденных марев навеки благословенная степь с ее седыми курганами, пыльными трактами и проходящими стороной веселыми смерчами. Все принимал, все любил теперь Федор в этом огромном сияющем мире той спокойной и чистой любовью, от которой так светло у него было сейчас на душе и так знойно в сумасшедшем от счастья сердце…
Молодые молчали. Они молчали, словно прислушиваясь к тишине, к дремотному шелесту согретых полуденным солнцем цветов и трав. И вдруг, оба насторожившись, они услышали глухой и далекий, точно идущий из подземелья, стремительно нарастающий копытный стук. А через минуту, оглянувшись в сторону тракта, Федор и Даша увидели, как мчался к хутору недобрым галопом всадник с багровым флажком на пикообразном древке.
Не сказав ни слова один другому, Федор и Даша почти бегом бросились вслед за всадником к хутору. И спустя несколько минут, когда они, встревоженные, запыхавшиеся, пыльные, подбежали к немировскому дому, обоих их поразила тревожная тишина, повисшая над хутором. Толпа высыпавших из немировского дома гостей, замкнув в глухое кольцо верхового казака с алым флажком на пике, стояла вокруг неподвижно и молча.
– Што случилось?! – спросил почти вполголоса Федор, узнав во всаднике своего одногодка Митьку Неклюдова.
– Беда. Кыргызы бунтуют. Табун отгульных коней угнали. Казачьи сена в займище подожгли. В редуте Кабаньем поселкового атамана чуть не убили… От станичного приказ – сформировать сотню молодых казаков и быть начеку для усмирения кыргызов. Давай падай на вершную, Федя, и поскачем в станицу.
– А ну вас к черту. Обойдетесь и без меня,– отмахнулся Федор.
Вечером, когда после разъезда гостей опустел и притих весь немировский дом, притихла и Даша, оставшаяся одна в горнице. Наведя былой порядок в доме, она села у настежь распахнутых створок, где еще в полдень сидели они рядом с Федором, и прислушалась к далекой девичьей песне, доносившейся с другого конца хутора.
Приезжал казак на хутор – Всадник бравый, молодой; Я встречала его часто, Как ходила за водой. Попросил воды напиться,
Я дала ему воды. Что-то бьется мое сердце – Кабы не было беды! Мать увидит – будет худо. Что мне делать, молодой? Лучше б я сидела дома, Не ходила за водой!..
Полный, литой из чистого золота месяц стоял высоко над хутором. И Даша, заглядевшись на этот месяц, вдруг ощутила такую беспричинную боль и тревогу в сердце при мысли о Федоре, что у нее на мгновение потемнело в глазах. Боже мой, как далеко еще было до венца, до свадьбы – целая неделя! И Даша уже не знала, не понимала теперь, как это жила она до сих пор без Федора, одна. Она совсем не задумывалась сию минуту, как будет жить без мужа, когда проводит его по осени в полк. Ей казалось, что до этого так же далеко, как до той неяркой звезды, что рано зажглась в зеленоватом от лунного света вечернем небе…
Атаман второго военного отдела линейного казачьего войска полковник Скуратов зиму и лето жил в своем небольшом имении. Усадьба Скуратова была расположена на границе казачьих земель с киргиз-кайсацкими степными владениями Средней орды. За какие-то особые заслуги при штурме Коканда полковник Скуратов был пожалован землей в двести пятьдесят десятин из земельных фондов кабинета его величества. Спустя два года после окончания русско-японской войны Скуратов, получив назначение на должность атамана отдела, выстроил на пожалованном ему участке дом и поселился там на постоянное жительство.
Усадьба Скуратовых стояла в стороне от большого скотопрогонного тракта. К северу от имения лежали тучные земли линейного казачества, а к югу – простиралась бескрайняя, издревле обжитая кочевьями Средней орды, не тронутая ни косой, ни лемехом степь. Край богат был ветрами, озерами, солью, рыбой и птицей. Можно было вволю жить здесь и радоваться тому, кто умел дружить с владетельными степными князьями, с феодалами киргиз-кайсацких кочезий, кто умел не чураться ни заезжих в эту глухую сторону российских купцов, ни грабителей ярмарочных караванов. Покойно и тихо было в усадьбе Скуратовых под надежной защитой вековых деревьев в зимние и летние дни. Небольшой, в шесть комнат, но уютный белый каменный дом с мезонином стоял над самым обрывом высокого, живописного озерного берега. С трех сторон окружала этот одинокий скуратовский особняк заповедная роща. Огромные, в два обхвата, березы заслоняли усадьбу от страшных степных буранов и вьюг.
Уединившись в своей усадьбе, старый полковник умело совмещал высокую должность атамана отдела с бойкой торговлей лошадьми. Он вошел в какие-то, по слухам, не совсем чистые взаимоотношения с окрестными казахскими феодалами и не гнушался в своих торговых делах общением ни с известными степными конокрадами, ни с бродячими цыганами, ни с ярмарочными маклерами и жуликами. Благодаря этим связям полковник вскоре присвоил себе монопольное право на поставку строевых лошадей для молодых казаков, отправляющихся каждую осень в конном строю на действительную службу в Джаркент и Верный. Возглавляя войсковые смотровые комиссии, атаман без зазрения совести браковал коней, купленных казаками на стороне. И народу волей-неволей приходилось платить втридорога за коней, часто худших, чем те, которые были забракованы, но купленных в одном из многочисленных конских косяков, принадлежащих полковнику.
Отношения между линейными станицами и усадьбой Скуратова портились с каждым годом все больше и больше. Полковнику было отлично известно, что некоторые станичники не раз подавали прошения наказному атаману войска, жалуясь на беззаконные действия атамана отдела. И хотя все эти жалобы, как правило, оставались без последствий, тем не менее Скуратов мало-помалу стал остерегаться подчиненных ему казаков и со многими из них избегал лишней встречи. Вот почему последние годы атаман проводил почти безвыездно в своей усадьбе, а на окрестных ярмарках и в линейных станицах не рисковал теперь появляться, как прежде, один, без верного драбанта – старшего урядника Авдеича – и без шестизарядного кольта в кармане.
Дружбу поддерживал полковник Скуратов со станичным начальством. В его усадьбе нередкими гостями были станичный атаман Архип Муганцев, благочинный отец Виссарион, пристав Касторов и мировой судья Лиходзеев. В летнее время в усадьбу Скуратова съезжалась учащаяся молодежь – сын Скуратова Аркадий, бывший воспитанник омского кадетского корпуса, и дочь гимназистка Наташа. Здесь же нередко гащивал в юные годы и племянник Скуратова – есаул Алексей Алексеевич Стрепетов, рано осиротевший, взятый на воспитание дядей и с грехом пополам окончивший омский кадетский корпус на скудные казенные средства войска.
Весной 1914 года есаул Стрепетов был назначен начальником эшелона молодых казаков, призываемых в этом году на действительную службу. Есаулу было поручено провести в конном строю полк молодых казаков от сибирских линейных станиц до города Верного. Путь предстоял казакам нелегкий. Маршрут проходил через голодные степи, через мертвые просторы Бетпак-Далы, через шафранные пески и горячие смерчи пустыни, через быстрые реки, темные леса и крутые горы. Тертый, каленный на всех четырех ветрах требовался в таких походах молодым казакам вожак-командир. Знала станичная молодежь, по рассказам своих отцов и дедов, что не страшны ей будут в пути никакие невзгоды, если пойдет впереди эшелона такой командир, какой был воспет в старинных походных казачьих песнях.