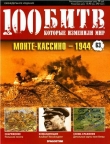Текст книги "Горькая линия"
Автор книги: Иван Шухов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
«Одумайтесь, товарищи трудовые казаки!»– настойчиво звучала теперь в ушах Якова одна и та же фраза, И ему уже казалось, что это не в листовке он вычитал такую фразу, а услышал где-то давным-давно, да только сейчас дошла она до его сознания и встревожила его сердце. Сложное, непривычное чувство острой тревоги и хмельной радости ощутил Яков Бушуев, беспокойно вертя в руках маленькую бумажку. С удивительной четкостью и последовательностью воскресали в его памяти прочитанные слова, и он, к великому своему удивлению, запомнил теперь прочитанное наизусть. «Это нашей кровью написано!»– вспомнились Якову слова Ивана Сукманова. И потрясенный Яков впервые за всю свою жизнь проникся большим уважением к печатному слову и держал теперь в своих руках этот невзрачный листок бумаги, как дорогую находку. С таким внутренним трепетом, с такой чистой любовью, с такой верой относился он только к двум вещам: к прядке Варвариных волос, которую ревниво хранил он в нагрудном кармане гимнастерки, да к почерневшему от времени медному образку – походному материнскому благословению…
«Ну, скорее бы только прочитали об этом станишники!» – подумал Яков. И он, тут же поспешно рассовав часть листовок в изголовья спящих казаков, а остальные спрятав за борт шинели, вновь вышел к коновязям, отпустив подсменного казака.
Оставшись один, Яков долго кружил вокруг коновязей, вновь и вновь передумывая и мысленно перечитывая листовку. И с непостижимой стремительностью проходили перед ним беспорядочные, бессвязные как будто бы воспоминания. Может быть, впервые увидел он свою жизнь во всей ее суровой обнаженности и правде. Щедра же была она, оказывается, для трудовых казаков на черные дни, на лишения, обиды и беды. И если прежде, годами вынашивая накипавшую в сердце злобу и ненависть против неведомых, властно вторгавшихся в судьбу его темных сил, Яков не смог распознать их облика, то теперь неожиданно столкнулся он с этими силами лицом к лицу и готов был уже, кажется, к такой же решительной схватке с ними, в какую не раз бросался он против врагов на поле боя…
…Чуть начинало светать. Серое плоское небо, казалось, плашмя лежало на кронах корабельных сосен Августовского леса. Воровски озираясь по сторонам, крался Яков Бушуев, то и дело притуляясь к приземистым стенкам позиционных землянок. Он был без папахи, с растрепанным, припорошенным сединой и снежной замятью чубом. Неслышно скользя от землянки к землянке, он, как поджигатель, торопливо совал в притвор дверей пригоршни мятых листовок. Лицо его выглядело строгим, сосредоточенным, почти вдохновенным. И только сурово сомкнутые густые брови, мертвенная белизна щек да судорожный излом спекшихся, как от жажды, губ таили недавно пережитое им душевное потрясение.
Покончив с листовками, Яков, никем не замеченный, неслышно вернулся в свою землянку и, не сбросив даже шинели, снопом повалился на нары. И только тут почувствовал он смертельную, свинцом разлившуюся по жилам усталость и сладковато-тошнотворный привкус на языке. В ушах нарастал тупой, ноющий звон. А сердце, подобно ключу полевого телеграфа, выстукивало неровную, мелкую дробь. Мучила жажда. Яков попробовал встать напиться, но голова почему-то закружилась так, как, бывало, кружилась она б молодости, когда поднимался он и падал с огромной высоты вниз, качаясь на пасхальных качелях. Он снова прилег и прикрыл глаза. Он не раскрыл их даже и тогда, когда вошел в землянку Иван Сукманов, отпущенный из штаба после допросов, чинившихся там ему всю ночь.
Ивану Сукманову показалось, что Яков спал. И несмотря на то, что Ивану мучительно хотелось узнать от него сейчас о судьбе доверенных ему листовок, он все же не решился будить Якова. Осторожно примостившись рядом с ним на нарах и приглушенно вздохнув, Иван затих. Однако минуты две-три спустя он убедился, что Яков не спит. И Иван, горячо дыхнув в ухо Якова, шепотом спросил его:
– Ну… как дела?
Яков нащупал большую, жесткую от застаревших мозолей руку одностаничника и, крепко стиснув ее в горячей своей ладони, чуть слышно ответил:
– Порядок.
Около трех месяцев минуло со дня отъезда казачьей депутации в Петроград, а на Горькой линии о Егоре Павловиче Бушуеве и Луке Иванове ни слуху ни духу. То, что они не возвратились к сроку и не подавали о себе и об обещанных грамотах вестей, наводило земляков на тревожные и горькие размышления. В станицах заговорили о том, что к царю казачьих посланцев не допустили и, арестовав их, направили по этапу в распоряжение наместника Степного края в Омск. Потом прошел слух, что, наоборот, они будто бы были приняты царем в Зимнем дворце и Николай II, прочтя в их присутствии казачью петицию, тут же подписал золотым пером манифест о даровании Сибирскому линейному казачьему войску широких привилегий и обширных льгот. Затем, повелев отпустить на Горькую линию несколько тысяч пудов семенного и продовольственного хлеба, император будто бы наградил смелых казачьих депутатов именными золотыми часами и, кроме того, приказал своим министрам снабдить Егора Павловича и Луку бесплатными билетами на обратный проезд. Слухов в станицах бродило много. И как всегда это бывает, чем эти слухи были нелепее, тем охотнее верил им народ. Особенно близко к сердцу принимали старики молву о всемилостивейшем императорском манифесте.
Приближалась весна – пора сева. Но во многих хозяйствах не было ни пуда семенного зерна, выходили остатки продовольствия. Старики, как всегда, собирались по вечерам в сумрачной казарме станичного правления и коротали здесь невеселое время. Мирно посасывая самодельные трубочные чубуки, задыхаясь в зеленом дыму суворовского самосада, старики судили и рядили в эти часы о незавидном своем житье-бытье. Разговоры больше всего вертелись вокруг бесследно сгинувших депутатов.
Однажды братья Кирька и Оська Карауловы, явившись на станичную сходку, стали божиться перед портретом царя о том, как они будто бы сами читали на днях письмо служившего в лейб-гвардии казака станицы Казанской Марка Хаустова, в котором писал тот из Петрограда про дарованный царем казакам Горькой линии манифест. Торопясь и захлебываясь от восторга, шумно перебивая друг друга, Карауловы так горячо и подробно докладывали о приеме царем казачьей депутации, точно они сами побывали вместе с Егором Павловичем и Лукой в Зимнем дворце.
Старики не верили ни одному их слову и, отлично понимая, что все это от начала до конца Кирька с Оськой врут, тем не менее слушали их с огромным вниманием, даже поддакивая. Горячее всех уверовали в высочайший манифест престарелые георгиевские кавалеры – дед Арефий и дед Конотоп. До слез растроганные, они, потихоньку столковавшись между собой, решили выручить изголодавшийся народ храбрым своим предложением. И вот дед Арефий вышел на круг, обнажил голову и, выждав, пока уляжется гвалт, сказал:
– А я к вам с добрым словом, воспода станишники.
– Слушаем, восподин кавалер, – откликнулся Афоня Бой-баба.
– А совет мой таков будет, – продолжал дед Арефий. – Тяжкое бремя переживает все наше войско. Трудные испытания уготовал нам господь. Прямо как в библии: «И придет на тя зло и внезапна пагуба и увеси!» Так сказано устами пророка в Книге Исхода…
– А ты бы, дед, тут акафиста-то нам не читал. Говори яснее, по-русски!– крикнул десятник Буря.
Но старики сурово и дружно прицыкнули на десятника:
– Не мешай человеку высказаться, Буря.
– Придержи пока свое ботало за зубами.
– Не сбивай старого кавалера с ладу.
– Так вот, стал быть, я и говорю…– продолжал дед Арефий.– Тяжкий пробил для нашего войска час. Но нам с вами сомневаться в высочайшей милости не приходится. Государь император нас в обиду не даст. Он выручит из беды. В это мы веруем… Только пока, как говорится, солнце взойдет, роса глаза может выбить.
– Это ты к чему, дед?– спросил его насторожившийся фон-барон.
– А к тому, что пока, дескать, шель да шевель там с государевым манифестом, пока оный манифест дойдет из города Петрограда до нашей Горькой линии, а у нас и сеять уж будет поздно, и семена, гляди, будут нам ни к чему. Вот я к чему, воспода станишники, клоню…
– Форменно – будет поздно!
– Верные ваши речи, восподин егорьевский кавалер.
– Казна, она завсегда после драки кулаками машет.
– Знам мы эту казну. Было на практике.
– Эх, воспода ребята, на эту казну надежа, как на нищем одежа – одни ремки…
– Вот именно.
– Нам от казны ждать больше нечего. Она нашего брата на этом веку показнила. Хватит!
В казарме снова поднялся шум. Старики повскакивали при этих словах с полу на ноги и принялись поносить на чем свет стоит и ненавистную им казну, и нераспорядительную войсковую управу и добрались до самого наказного атамана. Но станичный атаман Муганцев, грозно прикрикнув на распоясавшееся общество, с трудом утихомирил стариков и уговорил их выслушать до конца престарелого кавалера.
– Какой ваш совет будет, господин георгиевский кавалер?– спросил в почтительной форме деда Арефия станичный атаман.
– А совет наш таков,– сказал после некоторой заминки дед Арефий.– Не ждать манифеста. Укрепить бумагу личным росписом всех станишников и печатью. А потом снять, благословясь, с войсковых амбаров замки и казенные пломбы…
– Што?! Как вы изволили выразиться?– вскрикнул изумленный Муганцев.
– Так и сказал. Снять, говорю, замки и казенные пломбы с войсковых амбаров,– уж не совсем уверенно и твердо проговорил георгиевский кавалер, поглядывая на атамана.
– Так. Так. Так. Дальше!– повторил Муганцев.
– А дальше что же. Дальше дело известное… Составить артикульную ведомость, да и раздать народу весь провиянтный хлеб из этих амбаров. Так, я полагаю, и с семенами и с продовольствием будем,– рассудительно заключил георгиевский кавалер.
И не успел вскочивший на ноги Муганцев раскрыть рта, как соколинцы, норовя перекрыть друг друга, грянули, что было мочи, на всю казарму:
– Вот это дело, воспода старики!
– Правильну речь сказал егорьевский кавалер!
– Золотые речи!
– Правильно. Растворить войсковые амбары!
– Вскрыть казенны замки и пломбы!
– Резон, воспода станишники. Раз казна народ подсекла, пусть она нашего брата из беды теперь выручает.
– Ить там тыщи пудов зерна в закромах лежат. А народ без хлеба с самого рождества кукует. Без семян – какая пашня?
– Без семян-то ишо туды-сюды. А вот у некоторых и муки ни пылинки не найдешь. Это куды, братцы, годно?!
– Што там говорить! Сплошь и рядом народ нужду терпит…
– Там кормильцы кровь проливают, а тут хоть впору суму на плечо.
– Вот именно. Достукались сибирские казачки. Докатились. Скоро всем войском Лазаря затянуть придется. Ить это не жизнь – позор, братцы.
Вдруг по-бабьи звонкий и резкий голос Кирьки Караулова, прорвавшись сквозь шквальный ураган травленых стариковских глоток, крикнул:
– Што там разговаривать – давай приговор!
И старики на требовательный призыв Кирьки дружно гаркнули:
– Приговор! Приговор!
– Все, как один, подпишемся под такой гумагой.
– Послать за письмоводителем.
– Правильно. Без письмоводителя не обойдешься. Гумага должна быть форменной. Казна любит, чтобы все было по артикулу.
– Фактура – по артикулу… Мы войсковой хлеб не грабим, а по доброй воле всего общества взаймы у казны берем!– крикнул Агафон Бой-баба.
– Ну ясное дело – взаймы. За нами не пропадет.
– Расквитаемся, ежли родится…– откликнулись старики.
– Смирно!– крикнул наконец громовым голосом станичный атаман, грохнув своей пудовой булавой по столешнице.
И в казарме вдруг стало так тихо, что от неожиданности оба георгиевских кавалера присели на лазку. А устрашившийся грозного атаманского окрика станичный десятник Буря смиренно прикрыл глаза.
Выдержав небольшую паузу, Муганцев, тяжело дыша – было похоже, что он только что вырвался из жаркой, нелегко доставшейся ему драки,– решительно выступил из-за стола вперед и, величественно отстранив от себя властным движением стиснутую в правой руке тяжелую булаву, заговорил:
– Это што же такое, господа станичники,– грабеж? Собственно, нет, не грабеж. Хуже. Разбой. Посягательство на неприкосновенные войсковые запасы провианта – это же хуже казнокрадства… Стыдно, стыдно, господа старики. Позорно, станичники… И особенно стыдно таким почетным и заслуженным воинам, коими являются наши георгиевские кавалеры!– заключил Муганцев, строго и осуждающе покосившись при этом на георгиевских кавалеров.
– Ну, ты наших заслуг, восподин атаман, не тронь!– запальчиво прикрикнул на атамана дед Конотоп.
И кавалеров вновь поддержали старики:
– Не страми престарелых воинов.
– Правильно. Не позволим изгаляться над кавалерами…
– Мальчиков тоже нашел.
– Ты нам, атаман, этих акафистов-то здесь не читай.
– Это верно. А то как бы мы ишо панихиду по тебе не заказали за такие смелые речи!– крикнул Кирька Караулов.
Но побледневший от ярости атаман завопил:
– Молчать! Атаман я у вас или не атаман?! Да как вы смеете?! Как только у вас повернулся язык на подобные речи?! Слыханное ли это дело, чтобы самовольно войсковой провиант по приговору делить?! А? Да донеси я об этом наказному атаману – ведь вас живьем в острогах сгноят.
– А ты донеси, попробуй,– мрачно посоветовал ему кто-то от порога.
– И донесу. Немедленно рапорт отправлю, если вовремя за разум на старости лет не возьметесь. Моя власть!– неистово крикнул Муганцев, снова величественно грохнув об пол булавой.
– И совершенно правильно сделаете, если куда следует донесете. Таким бунтовским разговорчикам в обществе потакать нельзя…– поддакнул скотопромышленник Боярский.
– Разумеется, нельзя, Афанасий Федорович,– живо откликнулся на его голос Муганцев.– А как вы думали, господа старички? Или вы решили на преступных действиях против казны приговором прикрыться? Тонко придумано. Тонко.
– Ить провиянт-то в войсковых амбарах наш, а не казенный! – снова перебив атамана, закричали соколинцы.
– Фактура – наш. Мы его туды засыпали.
– Правильно. Хлеб всенародный. Трудовое зерно. Мы – хозяева.
– Распределить по приговору – и баста!
– Позвольте, позвольте, господа старики. Одну минуточку,– примиряюще подняв руку, заговорил с притворным спокойствием Муганцев.– Итак, вы хотите прикрыться приговором? Хорошо. Воля ваша, конечно. Можете составить приговор и скрепить его личными росписями. Только учтите, что я, ваш станичный атаман, гласно отказываюсь признать за подобной бумагой какую-либо законную силу. Ясно? Таково мое последнее слово. Ну-с, а о последствиях говорить не приходится. Всем известно, чем кончаются подобные выпады против войскового порядка и законной власти. Побунтовать на старости лет захотели? Ну что ж, валяйте. Попробуйте.
Умолкнув, атаман старательно вытер платком потное лицо, испытующе косясь на притихших станичников, не спеша раскурил дешевую папироску.
Нехорошая тишина установилась в казарме. Старики стояли, угрюмо потупясь. Они ждали, что скажет им еще на прощанье разгневанный атаман. Между тем Муганцев ждал, в свою очередь, что теперь скажут старики Соколинского края.
Но старики молчали. И молчание это говорило сейчас Муганцеву горячее и убедительнее всяких слов о той единой решимости, которая бывает в такую пору страшнее любого открытого сопротивления и любых громко звучащих угроз.
Все было ясно. Говорить больше не о чем. И атаман, быстро выбросив изо рта недокуренную, изжеванную папиросу, схватил рывком со стола фуражку и, надев ее ловким привычным жестом набекрень, не глядя ни на кого, глухо молвил:
– Ну-с, хорошо. Мой разговор окончен. Я ухожу. А желающие побунтовать могут остаться.
Бросив откровенно злобный, презрительный взгляд на соколинцев, атаман решительным и поспешным шагом направился к выходу. Старики дали ему дорогу. И тотчас же почти все казаки Ермаковского края, повскакав со своих мест, гуртом двинулись за атаманом.
В казарме остались соколинцы. Произошло замешательство. Часть стариков смятенно затопталась на месте, не зная, что делать – уходить или оставаться. Буря, с грохотом сорвавшись с печки, трижды выбегал за дверь и трижды виновато и робко возвращался в казарму.
Наконец смятение улеглось.
Писарь Скалкин, вызванный сходом для составления приговора, в нерешительности топтался за столом. Он то извлекал из канцелярского шкафа письменные принадлежности, то вновь прятал их обратно вместе с дестью александрийской бумаги.
Тогда вперед вышел, поспешно сорвав с головы шапку, Архип Кречетов и, присмотревшись к соколинцам, спросил:
– Ну, как порешим, братцы, приговор дадим али в отступ?
– Это как общество…– уклончиво пробормотал встретившийся с его взглядом Буря.
– Общество? А общество, я думаю, труса перед станичным атаманом и перед ермаковцами праздновать не станет,– уверенно ответил Буре Архип Кречетов.
– Правильно. Никогда мы ишо перед ними не робели!– запальчиво крикнул Оська Караулов.
И Архип Кречетов, повернувшись к писарю, сказал, указывая перстом на бумагу:
– Давай пиши приговор.
Писарь замялся. Но вставшие перед ним во фронт братья Кирька и Оська Карауловы так посмотрели на него, что размышлять и колебаться было некогда. Проворно развернув перед собой чистый лист бумаги, он торопливо обмакнул перо и, картинно сбочив голову, с непостижимой быстротой принялся строчить приговор.
А спустя полчаса все присутствующие в казарме соколинцы, торопливо крестясь на прокопченный табачным дымом киот в переднем углу, подходили гуськом к столу и скрепляли свой приговор кто как умел – одни личной росписью, другие – крестами.
В ту же ночь Муганцев собрал к себе в дом всех верных своих приверженцев и потребовал немедленной организации вооруженной охраны войсковых провиантских амбаров. Требование станичного атамана было признано справедливым, но осуществить его на деле оказалось не так-то просто. Все трудности были в том, что, согласно установленному положению, охрана тишины и общественного порядка в линейных станицах до сих пор лежала на обязанности так называемых «статейных» казаков, оставшихся от мобилизации по тем или иным льготным статьям и отбывавших воинскую повинность на месте. Наряду со «статейными» обязанности внутристаничной охраны несли еще и некоторые не совсем старые казахи, выделенные для этой цели, по указу станичного атамана, из среды менее состоятельных жителей станицы. Наряды в «обход» не являлись обременительными и частыми. Только по случаю субботних базаров, двух зимних ярмарок да редких годовых праздников и приходилось казакам нести свое обходное дежурство. Но зажиточные казаки, как правило, избегали этой черновой воинской повинности, считая ее за унизительную для своего положения.
Между тем казаки, несшие «обходную» службу, были вооружены помимо шашек приобретенными за счет общества дробовыми ружьями. Словом, объединившись, эти казаки могли представлять известную боевую силу. Однако положиться на эту силу Муганцев теперь уже не мог, поскольку большинство казаков оказалось в числе подписавших бунтарский приговор станичников. И приверженцам станичного атамана теперь оставалось одно: встать под ружье, взяв охрану провиантского хлеба на себя.
Но верные до сего атаману станичные заправилы наотрез отказались от вооруженного караула. Напрасно старался станичный атаман, разгневанный трусостью своих приверженцев, пристыдить их, уговорить, усовестить, урезонить.
– Да какие же мы вояки, восподин атаман! Подумайте, наше ли это дело под ружьем в карауле стоять?– взмолился фон-барон Пикушкин.
– Вот именно. На нас тут надежа плохая,– поддержал фон-барона владелец станичных боен Сильвестр Стрельников.
А скотопромышленник Боярский вдруг предложил:
– Конечно, не совсем ловко становиться нам под ружье у амбаров. Но это могут сделать за нас и наши подставные люди.
– Кто же, например, Афанасий Федорович?– спросил Муганцев.
– Ну, скажем, те же наши работники. Ведь почти в каждом хозяйстве найдется их у нас до пятка. Почему бы нам не нарядить их на такое дело? Ослушаться нас, хозяев, они не посмеют и службу нам могут сослужить верную.
Такое предложение пришлось по душе, и ермаковцы дружно поддержали его.
– Совершенно правильно, воспода станишники!– оживленно откликнулся фон-барон.– Приставим к амбарам своих работников – вернее охраны не будет.
– Правильно. Согласен. Я пятерых своих кыргызов могу выделить,– заявил вахмистр Дробышев.
– Ну-с, и я, скажем, благословляю на такое дело четырех своих батраков,– сказал школьный попечитель Корней Ватутин.
Муганцеву, собственно говоря, эта затея с вольнонаемной охраной не очень понравилась. Но иного выхода пока не было. И атаману скрепя сердце пришлось согласиться.
На другое утро, чуть свет, свыше двадцати батраков – в основном это были казахи,– вооруженные хозяйскими дробовиками, были выстроены перед Муганцевым. Наскоро ознакомив боевую охрану с несложными ее задачами и наобещав кучу всяческих благ и ворох наград за верную службу, Муганцев лично препроводил их к месту караула и расставил вокруг амбаров на постах.
Обязанности начальника караула принял на себя, по приказанию Муганцева, поселковый атаман Афоня Крутиков. Это меньше всего радовало Афоню. Во-первых, он знал, что за командование над подобным боевым соединением ему теперь не будет проходу от всеобщих насмешек в станице. Во-вторых, сам он в душе был на стороне подписавших «бунтарский» приговор. Ведь и он, как прочие соколинцы, собрал и проводил на войну двух сыновей. И у него сейчас пустовали сусеки – ни зерна в закромах. И под его обветшалой крышей прижилась за последние годы нужда. Он и сам не прочь был расписаться под таким общественным приговором. Однако служба обязывала его теперь держаться иного мнения. И он, приняв на себя командование караулом, должен был любыми средствами защищать от народа хлеб. Задача была не из легких. Да что же поделаешь – служба! И, поразмыслив о невеселой своей участи, атаман решил служить, как требовал от него его чин и соответствующий этому чину порядок…
Расставив посты, Афоня еще раз объяснил своим подчиненным их обязанности, а сам поспешил уйти пока на всякий случай от греха подальше.
И батраки, превращенные станичным атаманом в воинов, заняв посты, стали зорко следить за амбарами, с тревогой поглядывая в сторону притихшей на рассвете станицы. Из беглых наставлений станичного и поселкового атаманов они поняли, что никто не имеет права приближаться к амбарам ближе возвышавшихся в полусотне шагов крепостных валов. Они узнали также, что, в случае насильственного вторжения толпы или отдельных лиц в эту запретную полосу, караулу дозволялось открыть предупредительную пальбу в воздух, а если и это не поможет – лупить прямо в живую цель. Таков был строгий наказ Муганцева. Этому учили своих батраков и хозяева…
Древние, почерневшие от времени, обомшелые деревянные амбары с провиантом стояли в центре замкнутой земляными редутами станичной крепости. Когда-то эти амбары служили для местного гарнизона как интендантские склады и потому хорошо были защищены в стратегическом отношении со всех сторон. Около одного из шести цепочкой вытянувшихся амбаров встали на караул двое работников фон-барона Пикушкина. Это были молодые джигиты, выходцы из джатаков соседнего аула. Одного звали Омар, другого – Важен. Батрачили они в казачьей станице с детства. Это были настолько обрусевшие парии, что и по говору, и по костюмам, и по чисто казачьим манерам и повадкам в них теперь даже трудно было признать бывших кочевников. Важен, например, имел собственную ливенскую гармошку с колокольчиками – это было все его имущество, нажитое за батрацкие годы. Казах с таким мастерством играл на этой гармошке русские песни и пляски, что станичная молодежь щедро, как девку, баловала его по праздникам леденцами «Ландрин» и папиросами «Роза», завлекая на свои вечерки. А Омар слыл в станице за превосходного плясуна и нередко забивал русских ребят не только в стремительном и веселом, как вихрь, «казачке», но и в плавной, замысловатой и сложной «метелице», и в хитрых шести фигурах любимой у казачьей молодежи кадрили.
Оба эти неразлучных приятеля, подвыпив, бывало, с таким азартом певали бойкие русские частушки, что даже казаки охали от хохота и ахали от удивления, ставя их в пример станичной молодежи. И за все эти качества, столь ценимые в людях казаками, и любил этих двух обрусевших джигитов весь станичный народ – от мала до велика. Это были единственные из казахских парней, кому был всегда открыт доступ на любую из шумных молодежных вечерок, и ни один в станице девишник не отыгрывался, бывало, без них. Словом, оба парня были в станице на хорошем счету и беспрепятственно хаживали по праздникам со своей гармошкой даже из одного края в другой, что недоступно было издревле враждовавшей между собой проживающей в этих краях холостой молодежи. А теперь вот случилось так, что оба эти приятеля, вооруженные двенадцатикалиберными берданами, угодили на боевой пост и должны были, в случае чего, стрелять смело в станичный народ. Приказ атамана Муганцева был настолько жестоким, кратким и выразительным, что смысл его никак не доходил до этих степных джигитов. Ни Важен, ни Омар просто не представляли, как это можно, укрывшись за бугорком, прицелиться и бахнуть в живого, знакомого им человека. Понять и осмыслить это было нельзя, как невозможно было им почувствовать в любом из жителей Соколинсхого края кровного врага.
Важен и Омар, укрывшись за кустом прошлогодней полыни, молча лежали рядком, положив впереди себя заряженные берданки.
Над степью вставал неясный рассвет. Громады сгрудившихся у горизонта юртообразных туч заслоняли едва пробивавшиеся сквозь их разрывы неяркие проблески мерцавшего позолотой восхода. Джигиты лежали на куче старой, прелой соломы, жадно вдыхая слабый горьковатый аромат старого куста полыни, пахнувшего простором, степью, детством.
– Как же ты будешь стрелять, Важен?– вполголоса спросил своего друга Омар.
– Не знаю, как я буду стрелять,– ответил Важен.
– А атаман говорил, что надо стрелять, если нас не станут слушаться люди. Ты это слышал, Важен?
– Я это слышал, Омар. Но я не знаю, за что стрелять нам в этих людей.
– Не знаю и я,– сказал Омар. Вздохнув, они замолчали.
А часа два спустя, когда со стороны станицы показался шумный обоз соколинцев, организованно двинувшихся на раздел войскового хлеба, вооруженные посты ермаковцев, выставленные для охраны зернохранилищ, отошли, на всякий случай, в глубь крепости и залегли за надежным прикрытием древнего земляного вала. Там они мирно и пролежали до тех пор, пока склады с провиантом не были очищены соколинцами от зерна сухой отборной пшеницы.
Поселковый атаман Афоня Крутиков, забравшись на колокольню, робко поглядывал оттуда на соколинцев и только покачивал головой, втайне довольный их смелой и бойкой работой.
В тот же вечер все ермаковцы, скликанные станичным десятником Бурей, собрались в правлении для решения судьбы соколинцев. Вопреки обыкновению, в казарме стояла натянутая тишина. Володетельные станичники сидели чинно по лавкам, хитро и испытующе поглядывая на атамана. Он был бледен. Тонкие, бескровные губы его судорожно подрагивали, а бесцветные глаза тупо, не мигая, смотрели на колеблющееся желтое пламя маленькой лампы. Нервно комкая в руках свои замшевые перчатки, Муганцев покусывал ус, настороженно прислушиваясь к разбушевавшейся за окном мартовской вьюге.
Наконец атаман, вскочив как ужаленный, сказал:
– Мера одна, господа станичники. Зачинщиков – под арест. А остальных – к лишению казачьего звания, земельных наделов и к высылке из пределов станицы. Таково мое мнение. У кого какие будут соображения на этот счет, господа старички?– спросил Муганцев ермаковцев.
– Мнения у всех одна – подписать им, варнакам, такой приговор, и баста,– сказал фон-барон Пикушкин.
– Так точно. Других мнений и быть не может,– поддакнул школьный попечитель Корней Ватутин.
– Совершенно верно. Совершенно верно, господа старички,– прозвучал сладковатый тенорок прасола Боярского.– До каких нам пор с ними вожжаться. Всю жизнь позорят станицу. Всю жизнь – в раздор с нашим обществом. Было время – терпели. Но пора и честь знать. Пора принять нам крутые меры. А мера одна. И я с ней, господин станичный атаман, вполне согласный.
– Другого разговору и быть не может,– подтвердил, солидно крякнув, владелец станичных боен Стрельников.
Тогда, выдержав небольшую паузу, Муганцев, указав властным жестом писарю на бумагу, сказал:
– Пиши.
Писарь, сбочив голову и закусив нижнюю губу, приготовился. Муганцев, став з царственную позу, полусмежив воспаленные веки, начал глухим и торжественным голосом диктовать:
– Общество выборных казаков, собравшись на свой станичный сход, единодушно решило следующее. За самочинный раздел войскового провианта, учиненный отпетыми бунтарями станицы, лишить казачьего звания и всех связанных с оным благ и льгот следующих нижеуказанных казаков, кои спокон веку сеяли в нашей станице разлад и междоусобицу, кои, знаясь с кочевой ордой да с пришлыми из России переселенцами последней руки, сами слыли по всей Горькой линии варнаками да ухорезами, от которых не было нам житья и покоя, а казне и империи – никаких дивидендов. А учтя все оное, мы, общество выборных, потомственные казаки станицы, единодушно выносим приговор о лишении казачьего звания, земельных наделов и высылке из пределов станицы нижеперечисленных в сем приговоре жителей нашей крепости.
Помолчав и дождавшись, пока бойкий писарь закончит последнюю фразу, Муганцев стал называть имена приговоренных:
– Братьев Карауловых, Кирилла и Осипа – раз, Архипа Кречетова – два, Агафона Вьюркова, по прозвищу Бой-баба,– три, Матвея Ситохина – четыре, Андрея Бурлакова, коий открыто материл государя,– пять, Григория Маношкина – шесть, Спиридона Саргаулова – семь, Викула Малыхина – восемь, Аникия Вдовина – девять. К чему мы, выборные станичного общества, и прилагаем собственноручные подписи, скрепленные печатью станичного атамана.
Все?– спросил писарь, с поразительной быстротой записавший суровый и краткий приговор.
– Как будто бы так, все,– ответил Муганцев, испытующе приглядываясь к сидевшим вокруг ермаковцам.
– Никого не забыли, восподин атаман?– спросил фон-барон Пикушкин.
– По-моему, никого не запамятовал. Правильно?– спросил Муганцев, обратившись при этом к владельцу станичных боен.
– Совершенно верно. Всех, кто заслуживает сей меры наказания, вы изволили здесь назвать,– ответил привставший на ноги Стрельников.
Вдруг откуда-то из темного угла прозвучал робкий и неуверенный голос:
– Насчет остальных не знаю, а вот Архипа-то Кречетова зря записали, воспода станишники.
– Это как так – зря?– спросил ласковым тенорком прасол Боярский, не видя еще того, кто посмел заступиться за Архипа Кречетова.