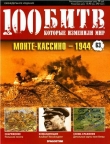Текст книги "Горькая линия"
Автор книги: Иван Шухов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Но вот легкая, как крыло птицы, тень промелькнула за занавеской. Затем мелькнула поверх занавески обнаженная по локоть девичья рука. Огонь погас.
И Федор, пришпорив своего нервно подрагивающего строевика, поскакал во мглу вслед за своими спутниками.
За час до рассвета беглецы, спешившись на берегу озера, где стояла хлызовская мельница, оставили коней в камыше, связав их поводьями, а сами воровски прокрались к стоявшей на отлете саманной сторожке, где жил Салкын.
Спустя полчаса беглецы сидели у столика, заваленного книгами, с жадностью пили, обжигаясь, горячий чай, наскоро приготовленный расторопным хозяином. И Салкын, выслушав гостей, сказал после раздумья:
– Ну что ж. Никуда не денешься. Придется что-то придумывать, выручать из беды вас, товарищи…
Помолчали. Прислушались. Было тихо. Салкын сказал:
– Прежде всего надо припрятать до света ваших коней.
– Куда же?– спросил Федор с тревогой.
– Найдем куда,– успокоил его Салкын.
– А мы?
– Переднюете у меня. Хозяина, кстати, дома нет – шляется где-то по ярмаркам. Мельница на ремонте. Стало быть, посторонних здесь – ни души. Словом, вам повезло, ребята… Ложитесь и отсыпайтесь пока подобру-поздорову. Утро вечера мудренее.
И казаки, успокоившись, улеглись вповалку прямо на пол, на разостланное хозяином рядно.
Какие-то там минуты две-три они, увязая в нахлынувшем на них вязком и зыбком сне, бессвязно вполголоса переговаривались.
– Как-то теперь наш есаул?– вспомнил Федор о Стрепетове и глубоко вздохнул.
– Да-а, вот уж истинным был отцом он для нас с вами, братцы!– прошептал кто-то.
– Не говори, братец…– протянул сонным голосом Пашка Сучок.
– Спас он ведь нас, братцы, подбив на побег… Я в его верую!– утвердительно сказал Федор.
Они замолчали. Пережитое душевное потрясение, бессонная ночь накануне и наконец этот сумасшедший марш сквозь ночную мглу, когда каждую секунду ждали они погони,– все это было теперь уже позади. И беглецы, впервые за эти сутки почувствовав нечеловеческую усталость, тотчас же заснули как убитые.
…Разбуженные на рассвете вооруженным отрядом одностаничников, казаки долго не могли понять, где они и что с ними. И только увидев пристава Касторова, брезгливо роющегося в книжках Салкына, они наконец пришли в себя и все поняли – круг замкнулся.
Беглых казаков, арестованных в сторожке Салкына, временно заточили вместе с приютившим их хозяином в каталажке станичного правления, где кроме них сидело несколько казахов во главе с Садвакасом.
В камере было тесно и душно. Избитый казаками Садвакас, страдая от боли, сидел часами неподвижно в углу и, обхватив руками бритую голову, глухо стонал или шептал слова какой-то молитвы.
– Да замолчи ты, ради Христа, азиат. Дай покою. Не выматывай душу,– раздраженно ворчал Федор.
Садвакас умолкал на минуту. И Федор, участливо тронув его за руку, спрашивал по-казахски:
– Ну как, тамыр, очень больно?
– Уй-баяй, все тело горит,– отвечал Садвакас, покачиваясь, как маятник, из стороны в сторону.
– Да, здорово они тебя, подлецы, отсоборовали, а за што – одному богу известно.
– Вот именно, одному богу,– говорил Салкын.
Умолкнув, арестованные тупо смотрели в пропитанную духотой мглу, отдаваясь невеселым размышлениям о будущем. Федор отлично понимал, что следственная комиссия докопается до прямых виновников убийства сотника и что ничего, кроме расстрела, его в таком случае впереди не ждет. Но, понимая это, он не заводил об этом разговора с Салкыном. Им овладело какое-то равнодушие ко всему на свете. И даже Даша стала теперь для него какой-то чужой, отрешенной. Все было кончено для него. Он это знал. И, как ни странно, ему хотелось сейчас одного: скорейшей расплаты.
От одного из казахов, втолкнутого в камеру вместе с бушуевским работником Максимом, арестованные наслышались о том, что творилось сейчас в окрестных аулах. Джатаки, местами объединившись в конные отряды, совершали по ночам набеги на линейные казачьи станицы, отбивали и угоняли в степь косяки лошадей, выжигали скирды казачьего сена, а кое-где завязывали со станичниками потасовки, похожие на настоящие бои.
Салкын, внимательно выслушав рассказы казаха, задумался и долго сидел молча, невпопад отвечая на редкие, бессвязные вопросы Федора. А глубокой ночью, когда все в камере забылись коротким и чутким сном, Салкын, тронув за руку Федора, шепнул:
– Не спишь, Федя?
– Ни в одном глазу. Помолчав, Салкын сказал шепотом:
– Знаешь, друг, что я надумал?
– Говори, коли не секрет…
– Есть один у нас выход с тобой из этой ловушки – бежать.
– Это куда же?
– В аулы. В степь.
– Да ведь это только легко сказать – бежать, а как?
– Ну, это уж не твоя забота. Тут уж ты положись на мою сноровку. Не из таких казематов, было дело, мы с товарищами уходили. А уж из этой скворешни как-нибудь выберемся. Была бы только охота.
Помолчав, Федор спросил:
– Допустим, мы сбежали. Допустим, скроемся где-нибудь у степных тамыров. Ладно. Согласный. А дальше што?
– Там будет видно – что. Воля подскажет…
И странно, что Федор, до сих пор не думавший об этом, воспринял теперь эту простую мысль Салкына как некое откровение, сразу же проникнувшись горячим желанием во что бы то ни стало вырваться из-под стражи и уйти от суда. А вместе с этим как рукой с него сняло былое отупение и равнодушие. И ни следа не осталось от той покорности, которая возникла в нем с момента ареста и не покидала его до сей поры. Мысли о том, что он может оказаться на воле, дышать милым сердцу запахом горькой степной полыни, увидеть когда-нибудь Дашу, до того захватили его, что он уже не мог теперь спокойно лежать на нарах.
– Давай выручай, приятель. Заставь по веки богу молиться. Делай со мной что хочешь. В огонь и в воду за тобой пойду. Вернее меня друга не будет. Любую клятву дам – не подведу.
– Не клянись. Сейчас надо придумать, как нам отсюда выбраться. И потом – не одним же нам уходить. Если уж идти – идти всем скопом. Надо забрать с собой и казахов.
– А если они не согласны?– усомнился Федор.
– Придется уговорить.
– Я потолкую сейчас с Садвакасом. Он тут у них, видать, не из робкого десятка джигит, и они его слушают.
– Правильно. Попытай его по-казахски,– одобрил Салкын.
И Федор тут же, осторожно тронув за руку лежавшего рядом Садвакаса, разбудил его и поделился с ним идеей о побеге. Выслушав Федора, Садвакас горячо пожал ему руку, и Салкын услышал, как казах сказал по-русски и по-казахски:
– Правильно. Друс, тамыр.
А на вторую ночь все арестованные, посвященные в план побега, горячо принялись за работу. Перед рассветом, когда сторожившая их наружная охрана забылась в мирной дремоте, Салкын взялся за разбор печной трубы. Бесшумно вынимая кирпичи, Салкын подавал их Федору, а Федор осторожно и так же бесшумно передавал их в руки товарищей. Работали затаив дыхание, в абсолютной, настороженной тишине. Не прошло и четверти часа, как в открытое потолочное отверстие пахнуло сыростью непогожей, темной ночи; и Салкын, приподнятый Федором и Садвакасом, первым поднялся на потолочное перекрытие. За ним последовали друг за другом все остальные.
Очутившись на чердаке станичного правления, беглецы прислушались к ночи. Дождь шумел по железной крыше, и могучие тополя станичного сада гулко гудели.
– Золотая погодка!– шепнул на ухо Федору Салкын.
Вскоре они выбрались один за другим через слуховое отверстие на крышу здания и, следуя примеру Салкына, стали поочередно спускаться по водосточной трубе на землю.
Благополучно спустившись с крыши, они прошли цепочкой по темному саду; а затем, так же неслышно и ловко перемахнув через невысокую изгородь, подались в крепостные валы.
В степи царила кромешная мгла. Дождь поливал как из ведра. Не было видно ни зги.
Федор шел впереди. Голова кружилась от вольного степного воздуха; и он жадно глотал его, хмелея от этой прохладной ночи, от веселого проливного дождя, от по-
рывистого встречного ветра, от ощущения простора, воли, свободы.
Беглецы уходили все дальше от станицы в глухую степную сторону, рассчитывая на дружеский приют в юртах джатаков.
После убийства сына казаками мятежного полка старый Скуратов, наглухо закрывшись в своем имении, в течение недели не допускал к себе никого даже из тех станичных властей, с которыми связан был в прошлом прочной и длительной дружбой. Однако, услышав о бегстве из-под ареста казаков, заподозренных в убийстве Аркадия, полковник как бы пришел наконец в себя – и вдруг проникся таким ожесточением против бунтовщиков, какого не испытывал даже тогда, когда услышал о гибели сына. Вызвав через своего ординарца атаманов подвластных ему линейных станиц, Скуратов напал на них.
– В рядовые разжалую! На каторгу запеку!– кричал, почернев от гнева, старый Скуратов на вытянувшихся перед ним в струнку атаманов.– Как вы смели допустить бегство этих головорезов?! Позор! Позор!– орал старый полковник, брызжа слюной в лицо побледневшего атамана Муганцева.
– Ваше высокоблагородие!– проговорил, улучив минуту, Муганцев.– Осмелюсь доложить, что прямое участие в убийстве вашего сына случайно задержанных нами казаков – Федора Бушуева, Андрея Прахова и Павла Сучка – пока еще не доказано…
– Молчать! Это не давало вам права разевать рты и создавать им возможности для побега.
– Помилуйте, ваше высокоблагородие!
– Молчать! Никаких оправданий. Засужу. Головой мне ответите, атаман, за бегство изменников!– продолжал кричать прослезившийся от бешенства Скуратов.
Наконец вволю набушевавшись, старый полковник опустился обессиленно в кресло и умолк, прикрыв ладонью глаза. После длительной паузы он, как бы очнувшись от забытья, совсем глухим, отрешенным голосом тихо проговорил:
– Ну, что там в степи? Докладывайте поочередно.
– Осмелюсь доложить, ваше высокоблагородие,– робко начал Муганцев,– что за последнее время участились набеги азиатских шаек не только на нашу станицу, но и на прочие казачьи поселения на Горькой линии вверенного вам военного отдела. Вчера на рассвете вблизи станицы Пресноредутской казаками была перехвачена земская тройка, прискакавшая в станицу без ямщика и седока – акмолинского штабс-капитана Гриневича. А в районе хутора Становского вчера уже в полдень был найден труп пристава Боярского.
– Все это мне известно без вас, господа атаманы,– так же глухо проговорил Скуратов, не поднимая глаз.– Я желаю слышать от вас одно: какие меры приняты вами, во-первых. Во-вторых, мне угодно знать, что вами предпринято для немедленной поимки беглецов.
Переступив с ноги на ногу, переглянувшись с атаманами, Муганцев недоуменно пожал плечами и совсем неуверенно проговорил:
– Не имея на сей счет прямых указаний вашего высокоблагородия, мы, однако, выслали в степь на рекогносцировку два конных разъезда численностью в сорок сабель…
– Так. И каковы результаты?
– Сведений пока не имеем.
– А что делается в других станицах? Атаман Ведерников, докладывайте, как у вас,– обратился Скуратов к станичному атаману станицы Пресногорьковской.
– Положение в нашей станице, ваше высокоблагородие, такое же, как и на всей Горькой линии,– отрапортовал атаман Ведерников.– В аулах продолжается брожение умов…
– Ну, хватит городить мне об этом брожении,– раздраженно прервал Ведерникова Скуратов. И старик, вновь вскочив как ужаленный, забегал с несвойственной его возрасту прытью по кабинету и снова вспылил:– Что за вздор вы несете здесь, господа?! Где ваша смелость и собственная инициатива? Не разъезды – полки вооруженных до зубов казаков давно надо было выслать в степи. Это вам ясно?
Так точно,– откликнулся атаман Ведерников.
– Да, да. Именно – полки. По крайней мере, не менее четырехсот сабель должны вы двинуть в степь из каждой станицы. Пора пройтись огнем и мечом по аулам. Пора проучить мятежные орды. Я приказываю: любой ценой доставить мне живых или мертвых изменников, бежавших из-под ареста. Это – раз. Доносить мне лично дважды в день – утром и вечером – о ходе боевых операций. Это – два. Не позднее сегодняшнего вечера выслать в мое личное распоряжение вооруженный взвод казаков – три,– заключил Скуратов, обращаясь к Муганцеву.
– Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Все будет исполнено,– отчеканил Муганцев.
И станичные атаманы, откозыряв полковнику, гуськом покинули его кабинет. Попадав на лошадей, они поскакали во весь карьер в свои станицы выполнять приказ.
А уже к вечеру этого же дня из пяти линейных станиц вышли в степь наспех сформированные, вооруженные огнестрельным и холодным оружием сотни казаков. Вышла в степь и сотня добровольцев под командой урядника Балашова из станицы Пресновской. Продвинувшись за ночь километров на двадцать в глубь степи, казаки, не рискнув показаться в немирных аулах ночью, спешились возле одного из курганов и решили дождаться рассвета. Выставив в направлении степи сторожевое охранение и вручив своих лошадей специально выделенным для этого коноводам, станичники уселись в кружок за курганом с подветренной стороны и, осторожно покуривая – огня зажигать не разрешалось,– вполголоса переговаривались:
– Вот ишо не было, братцы, печали, да черти накачали…
– Одно слово – беда.
– Беспокойное выдалось лето.
– Куды беспокойнее. Война, как снег на голову. Сена погорели. Хлеба крошатся. Словом – зарез.
– Вот так Касьян! Год-то ведь нынче високосный…
– Орду, говорят, политики смущают.
– Конешно, политики. Их работа.
– А откуда они взялись, политики-то?
– Как откуда?! Из Расеи. Понаперло их в наши края видимо-невидимо. Сплошное варначье – не люди. Без чалдонов-то мы, братцы, с ордой в мире жили.
– Тоже, сказал мне – в мире! Весь век на ножах живем с азиатами. Что тут греха таить… Недаром стары люди сказывают, что в прежние времена из станиц ни девке, ни бабе нельзя было показаться за линейной гранью. Как какая, слышь, баба разинет рот, подцепит ее своим арканом кыргыз – и поминай как звали… Вот тебе и в мире жили!
Маленький, подвижной и бойкий казачишка из соколинцев Агафон, по прозвищу Бой-баба, понизив голос, спросил:
– А правда, што будто ссыльный генерал от инфантерии возглавил Азию и ведет из Семиречья на нашу линию войско из варначья, кыргыз и переселенцев?
– Кто это тебе брякнул?
– Ходит слух…– уклончиво ответил Агафон Бой-баба.
– Ну хватит вам буровить, господа станишники. Перед делом вздремнуть надо,– сказал урядник Балашов.
И станичники приумолкли. Всех их теперь беспокоило одно обстоятельство: что-то долго не возвращались трое казаков, посланных урядником на рекогносцировку в сторону аула. До аула отсюда не больше пяти верст. С момента выезда казачьего разъезда прошло уже около двух часов, а разведчики не возвращались. И почуяв в этом неладное, станичники притихли, настороженно прислушиваясь теперь к каждому звуку.
…Между тем казаки, выехавшие на разведку втроем, вдруг обнаружили исчезновение самого молодого и храброго из них разведчика Егорки Шугаева. Проехав версты три от казачьего бивака, двое из разведчиков, ехавших рядом, придержали коней, чтобы подождать замешкавшегося Егорку. Прошло пять, десять минут, а Егорка не появлялся. Он не ответил даже на их условный свист, похожий на рыдающий крик чибиса.
– Нет, тут, брат, что-то не то,– сказал шепотом седой бородач Матвей Ситохин.
– Да, тут какая-то притча…– согласился с ним сутулый и неповоротливый казак в годах Касьян Шерстобитов.
А в то время, когда разведчики терялись в догадках, куда делся казак, перепуганный Егорка лупил глаза на долговязого джигита и трясся, как в лихорадке. Егорка никак не мог понять, как случилось, что он, приотстав от своих товарищей, вдруг очутился в руках этих невесть откуда взявшихся людей, среди которых были как будто казахи и русские. Отстав от своих спутников по разведке, Егорка решил, вопреки запрещению урядника, побаловаться куревом. Придержав резвого своего конька-горбунка, он свернул папироску, набил ее разуполенной вишнячком махоркой и, хоронясь от ветра, хотел было прикурить. И вот в это-то мгновенье и приключилось с ним то, чего он толком не мог понять с перепугу, стоя сейчас перед джигитом.
– А ловко, тамыр, спешил ты этого шибздика с вершной своим арканом,– сказал по-казахски кто-то из темноты, и Егорка понял, что это сказал русский.
– Да, прямо скажем – чистая работа!– сказал по-русски кто-то глуховатым голосом.
– Жаксы. Жаксы,– слышалось из темноты. Егорка плохо понимал по-казахски, но все же кое-что понял.
– Шашку с него, не забудь, сними,– прозвучал все тот же глуховатый голос.
– Шашку снял. Конь и винтовка с патронами – все наше. А с ним что делать?– спросил джигит, деловито рывшийся при этом в переметных сумах Егоркиного седла.
– Снять с него штаны да отпустить с богом восвояси.
– Друс. Друс. Правильно,– сказал джигит, засмеявшись.
Егорка похолодел. Не хватало еще, чтобы он без штанов к казакам явился! Но все, слава богу, обошлось относительно благополучно. Спешив и обезоружив Егорку, неизвестные люди отпустили его на все четыре стороны, сами исчезли во мгле.
Незадачливые же разведчики, так и не дождавшись Егорки, вернулись на бивак и ничего не могли сказать толком уряднику ни о Егорке Шугаеве, ни об ауле, до которого они так и не доехали.
И только уже перед самым рассветом явился на бивак обескураженный, жалкий Егорка без коня, без винтовки и шашки. Даже новую касторовую казачью фуражку посеял где-то в степи Егорка и только теперь вспомнил о ней.
– Как же так, болван, ты им попался?– орал на него урядник Балашов, то и дело маяча своим пудовым кулаком под носом Егорки.
– Так что не могу знать, восподин урядник.
– Да они што, окружили тебя внезапно?
– Так, выходит…
– Сколько их было?
– Не могу знать…
– А зенки где твои были – во лбу?
– Так точно – на месте…
– Какой же ты, к черту, казак, если даже численности противника не заметил!
– Виноват, восподин урядник. В растерянных чувствах был. Виноват…– тупо бубнил Егорка, сгорая от стыда перед окружившими его одностаничниками.
После долгих и бестолковых допросов, учиненных Егорке, поняли только одно, что обезоружившие Егорку люди были не кто иные, как станичные беглецы во главе с Салкыном и Федькой Бушуевым.
– Под полевой суд тебя, сукина сына, тогда ты у меня узнаешь!– заключил урядник Балашов, все-таки наградив одним подзатыльником Егорку.
– Так точно. Теперь мне туды прямая сообщения,– согласился Егорка.
Посоветовавшись со старыми станичниками, урядник решил взять на всякий случай Егорку под стражу и отправить его с конвоем в станицу.
А на рассвете воинственная сотня урядника Балашова ворвалась с обнаженными клинками и с криками «ура» в сонный аул джатаков. К удивлению станичников, в ауле были только ветхие старики, женщины и дети. Спешив сотню и передав лошадей коноводам, урядник отправился с казаками по юртам.
– На колени, туды вашу мать!– кричал Балашов перепуганным старикам и казашкам, врываясь в юрту.
Не понимая ни слова по-русски, обитатели этих жалких жилищ бормотали, сбиваясь в кучу:
– Уй-баяй, капитан!
– Уй-бой, атаман!
– Отвечай мне по-русски, где хозяин?!– кричал Балашов, наступая на старую женщину в грязном и ветхом головном уборе – джаулыке.
– Мен бильмеймин,– бормотала старуха.
– Мен бильмеймин,– шепелявил старик с древней бородой в широкой и длинной рваной рубахе, едва прикрывавшей его тощее, костлявое тело.
– Бильмеймиз! Бильмеймиз!– лепетали вслед за старшими прятавшиеся за подолы матерей и бабушек полуголые казашата.
– Язык, подлецы, отнялся?!– ревел урядник Балашов, зловеще играя обнаженным клинком.
– Не верь им, собакам, восподин урядник. Врут они, что не знают, где их джигиты. Все врут. Я их наскрозь вижу!– кричал Касьян Шерстобитов.
Так и не добившись ничего от стариков и женщин о том, куда исчезли из аула джигиты, станичники решили расположиться на дневку. Выдворив из юрты, что была получше на вид, многочисленное семейство джатаков, урядник устроил здесь нечто вроде штаб-квартиры, приказав выбросить над юртой трехцветный флаг. А станичники занялись заготовкой свежего мяса для предстоящего пира. Засучив рукава, они, как дошлые маркитанты, свежевали бараньи туши, разжигали под казанами костры.
Джатаки притихли. Седобородый мулла успокаивал плачущих женщин.
– Не плакать – молиться надо,– поучительно и сурово говорил мулла.
– Как же не плакать мне, если они закололи последнюю мою овцу и козленка?! Кого же мне принести теперь в жертву на празднике курбанайт?– голосила старая женщина.
– А у моего ягненка уже вырастали рога. Мой ягненок был бы к осени настоящим бараном,– причитала другая казашка.
– Не плачьте,– строго и властно сказал мулла.– На том свете грешник переедет через ад на быке или лошади. Стоит ли плакать о баране?! Молитесь и ждите, когда аллах дарует вам настоящий скот – быка или лошадь.
Между тем урядник Балашов в своей штаб-квартире диктовал сотенному писцу Панфилке Карманову рапорт на имя станичного атамана. Развалясь в позе утомленного ратными подвигами воина, урядник говорил:
– Пиши так. Не доходя аула Билимбая на расстояние двух верст, киргизы встретили нашу сотню беглым оружейным огнем, и мы под ураганным дождем кидаемых в нас каменьев атаковали аул. Казаки вверенной мне сотни ворвались на плечах мятежников…
– Куды ворвались?– спросил Панфилка.
– Не перебивай, дурак,– оборвал его урядник.– Пиши дальше… Ворвались на плечах исчезнувшего, яко дым, противника в аул, где взяли некоторые трофеи…
– Какие трофеи?– спросил с простодушным удивлением Панфилка.
– Ну, об этом можно не писать. Атаман – не дурак. Сам понимает – какие,– заключил урядник.
На вторые сутки после ночного марша по безлюдной и пустынной степи – из предосторожности они шли только ночью, а днем отсыпались, хоронясь в густых озерных камышах,– беглецы достигли того аула, в который вел их Садвакас. Всадник, посланный ими в этот аул на резвом коньке-горбунке Егорки Шугаева, расска зал совету старейшин аула об обстоятельствах побега и о людях, которые шли теперь из русской крепости, рассчитывая на защиту и покровительство людей степи.
И совет старейшин аула, с радостью приняв добрую весть о бегстве Садвакаса и остальных джигитов, не очень обрадовался, что вместе с джигитами шли в аул и бежавшие из-под ареста русские люди.
– Как бы не было худа нам от этих русских,– предостерегающе сказал один из седобородых.
– Нет, аксакал, это наши друзья,– возразил ему джигит, прискакавший в аул с известием о побеге арестованных.
– Откуда ты знаешь это, джигит?
– Не верите мне, спросите у Садвакаса,– ответил джигит.
А в полночь, когда беглецы переступили порог юрты, в которой находился совет старейшин аула, их встретили здесь со всем присущим степному народу радушием и гостеприимством. Усадив Садвакаса, Салкына и Федора со спутниками на почетное место, их прежде всего угостили густым ароматным кумысом, чаем и свежими баурсаками. Таков обычай степи. Не накормив путника, нельзя с ним заводить делового разговора и спрашивать его о том, кто он и куда держит путь. И только потом один из старейшин спросил Садвакаса:
– Кто эти люди, которых привел ты в аул?
– Мои друзья, наши друзья,– сказал Садвакас. Русские наши друзья?!– со сдержанным удивлением воскликнул другой из старейшин.
– Да, эти русские – наши друзья,– сказал Садвакас.– Мы сидели вместе с ними под одним замком, и одна участь ждала нас с ними, если бы не удалось бежать нам вот при помощи этого батыра,– указал Садвакас на Салкына.
– Кто он такой, и много ли скота у него, и много ли пашни?– спросил старейший из рода, указывая на Салкына.
– Он такой же джатак, как и я,– сказал Садвакас.– Ни скота у него нет, ни пашни. Ничего у него нет, кроме рук и головы на плечах. »
– А за какие грехи посадили его вместе с тобой под замок в русской станице?– спросил все тот же старейший из рода.
– За то же, за что схватили в степи меня, избили и бросили за решетку,– ответил Садвакас.
– Но тебя же схватили за то, что ты сын степи – казах.
– Нет, аксакал, не за это.
– За что же, джигит?
– За то, что я джатак. За то, что нет у меня ни своей юрты, ни коня своего, ни своего очага…
– Друс. Друс,– сказал Федор, отлично понимавший по-казахски, и он тут же наспех перевел Салкыну смысл разговора Садвакаса со старейшинами.
– Да, прав Садвакас,– сказал по-русски Салкын.– Я такой же джатак, как и он, и нам, русским джатакам, незачем враждовать с вами. Враждуют не русские с казахами. Враждуют бедные и богатые. Враждуют баи с джатаками у казахов, а кулаки с бедняками – у русских. Пусть мне скажут старейшие, чего же делить русскому бедняку с джатаком. Переведи им, Федор, мои слова, пусть они ответят мне на мой вопрос,– заключил Салкын, испытующе посмотрев на старейшин.
Федор перевел слова Салкына. Впав в глубокое раздумье, старейшины долго молчали. Наконец один из них, самый древний и почтенный на вид старик, сказал:
– Он прав, наш русский тамыр. Я вижу, бог не обидел его разумом. Пусть же скажет он нам тогда, что нам делать теперь и где нам искать защиты.
– Трудный вопрос, аксакалы,– признался Салкын, выслушав перевод.– Трудный вопрос. И я на него так отвечу: защиты искать пока всем нам надо в степи.
– Как – в степи?– спросил, не поняв на сей раз Салкына, даже Садвакас.
– Сниматься аулом с насиженных мест и кочевать подальше от линейных станиц. Переждать там это тревожное время. Это – единственный выход пока. Другого ничего посоветовать не могу. Одно скажу – время для всеобщего народного мятежа еще не настало. А в одиночку каждый аул с вооруженными казаками ничего не поделает. И кроме новых бед, эти лихие набеги ваших джигитов на русские табуны и станицы ничего вам не принесут, – сказал Салкын.
Наступило всеобщее тягостное молчание. Слабые отблески угасающего очага озаряли суровые, окаменевшие лица степных людей, неподвижно сидящих вокруг костра в юрте.
Тогда старейший из рода, не поднимая опущенных глаз, спросил Садвакаса:
– А ты как думаешь, Садвакас?
И, помолчав, Садвакас решительно ответил:
– О том, что я думаю, все сказал мой русский тамыр. Я ушел с ним вместе из русской крепости. Я пойду с ним вместе и дальше. Я знаю – это надежный мой друг, друг джатаков. Я знаю это,– убежденно повторил Садвакас, крепко пожав при этом руку Салкына.
– Друс. Друс. Правильно. Молодец, Садвакас,– горячо сказал Федор, и впервые за много дней лицо его просветлело от улыбки.
А на рассвете, погрузив разобранные юрты и весь свой несложный скарб, тронулись джатаки в глубинную степь следом за конной кавалькадой джигитов, среди которых ехали и все беглецы.
– Говорят, станицу Сандыктавскую в пепел сожгли…
– Правильно. Был слух. Сожгли.
– Ты скажи, сослуживец, што им, варнакам, от нашего казачества надо?
– Как што? Землю нашу отобрать норовят. Они спокон веков слободы добиваются,– говорил заросший никогда не чесанной бородой казак Викул Малыхин.– Прежде-то ведь орду не так с землей жали, как в нынешние времена. Подати, правда, были тяжки. Подать была покибитошна. Император предпишет своим воеводам: собрать, дескать, мне по два целковых с гривной с кибитки. А воеводы два целковых с гривной императору, а восемь гривен – в карман.
– Да, наживались. Позавидуешь!– откликались станичники.
– Ишо бы не наживались. Ить эта же голимый капитал, воспода станишники. Стары люди сказывают, што все ермаковцы и жить-то оттуда начали. Прадеды их на покибитошных податях разбогатели.
– Это фактура. От трудов праведных не наживешь палат каменных,– сказал Агафон Бой-баба.– Ты хвати меня. Я спустился с полка и с тех пор из работников не вылажу. А што нажил? В одном кармане – вошь на аркане, в другом – блоха на цепе.
– О тебе разговору мало. Пил бы поменьше,– осуждающе говорил, отмахиваясь от Агафона, фон-барон Пикушкин.
– А много я пропил? Нет, господин фон-барон, на батрацку копеечку не шибко-то разыграешься. Ты вот сроду и сыт, и пьян, и нос у тебя в табаке, а пошто не беднешь?
– По то, што ум у меня не с дыркой…
…Яков Бушуев попал во вторую сотню, сформированную из запасных казаков, не подпавших еще под мобилизацию. Все эти дни он торчал от зари до зари на коновязи, чистил своего меринка, беспрестанно копался около своего седла, всячески избегая при этом встреч и разговоров с однослуживцами. Мало он разговаривал теперь даже и со своей собственной женой Варварой, приносившей ему поутру, в полдень и вечером еду, завернутую в скатерку: печеные яйца, шаньги, квашеное молоко.
– Ну, как там батя?– изредка справлялся Яков у Варвары об отце.
– Все так же, по-прежнему. Ни слова от него, ни речей. Хоронится целыми днями от людей в амбарушке.
– Небось захоронишься. В любу щель от такого позору залезешь,– говорил, тяжко вздыхая, Яков, вспоминая о Федоре.
После несчастья, свалившегося на бушуевский дом, Егор Павлович и в самом деле стал сам не свой. Он не горевал, не ожесточался, не проклинал и не жалел как будто бы сына. Целыми днями спасался он в пустом, пахнущем кожей и мьшиным пометом амбаре, куда не смел войти к нему никто из домашних, и в том числе внуки, которым прежде доступен был дед в любом месте и в любую пору. Он не выходил бы, наверное, из амбара к семейным обедам и чаепитиям, если бы не кликала его властным голосом Агафьевна, к которой он относился теперь с непонятной для бушуевской семьи почтительной робостью. То, бывало, не было дня такого, в какой бы не пререкались и не поднимали шум до потолка сварливые старики. А тут – на тебе – старик, как малое дитя, не только ни в чем не перечил старухе, а наоборот, смотрел ей в глаза как будто виновато и заискивающе. Нехорошим выглядел этот мир между стариками. Нехорошая, тяжкая тишина царила теперь в бушуевском доме, где все ходили, словно на цыпочках, затаив дыхание, как ходят в доме тяжко больного или покойника.
В станице болтали о Бушуевых всякое.
– Старик-то с горя, говорят, рехнулся. Не ест, не спит, не пьет. Сам с собой по ночам разговаривает. Все Федьку кличет,– нашептывала бойкая, похожая на синичку бабенка Фанечка Серикова – соседка Бушуевых.
– А слышали, бабоньки, новость? Федька-то, говорят, у своей невестаньки, у Дашки Немировой, на хуторе скрылся,– тараторила сплетница Дуня Канахина.
– Врешь, кума.
– Лопните мои глазки. От верного человека своими ушами слышала…
– А што ты думаешь, такая укроет – не подкопаешься. Там не девка – оторви да брось!
Однако, как ни судили и ни рядили в станице о Федоре, а многие втайне восхищались его смелостью и решимостью и тоже плели всякие были и небылицы. Одни утверждали, что Федор, подавшись в степи, принял там под свою команду четыреста сабель казачьих мятежников, бежавших из расформированного полка после убийства сотника Скуратова. Другие уверяли, что Федора
Строевые кони нетерпеливо крутились около коновязей нерасседланными. Полк, сформированный из двух запасных нарядов и стариков-добровольцев, стоял в крепостных казармах. Все дороги, ведущие в степь, были наглухо закрыты сторожевыми пикетами. Вокруг линейных станиц и днем и ночью рыскали лихие казачьи разъезды. Полковник Скуратов, перепуганный назревающим мятежом, окружив свое имение целым взводом вооруженных всадников, не вылезал в эти дни из усадьбы и посылал с нарочными рапорт за рапортом в адрес наместника края, докладывая Сухомлинову в таком тоне, словно мятежом и в самом деле была охвачена вся степная округа.