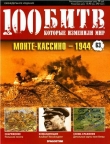Текст книги "Горькая линия"
Автор книги: Иван Шухов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
– Ну, ну!
– А ты не понукай, каптенармус. Верхом пока не сидишь!– приняв вдруг сторону Наковальникова, прикрикнул трубач.
– Верхом на тебе?! Нету пока охоты…– криво усмехнувшись в крученый ус, отозвался на окрик трубача с притворным спокойствием каптенармус.
– Оседлал бы. Да не на того напоролся – не дамся.
– Ловко ты, вижу, гужи рвешь, трубач. И в годах уж как будто, а с норовом.
– Так точно. Есть такой грех. Не таюсь. Подвернешься под горячую руку – не пикнешь… Я тебе не Мишка Седельников. Первым в омут вниз башкой сдуру нырять не стану. А припрет, как его, покойника, скорей всего такую барабанную шкуру, как ты, вперед себя утоплю.
– Ого. Да ты у нас, оказывается, не парень – урал!– воскликнул с наигранным испугом и изумлением каптенармус.
– А ты думал! С ним не шути. Таких ведь ребят бабы наши только в девках родят – не взамужем,– заглядывая с придурковатым любопытством в потемневшие от гнева глаза трубача, скороговоркой ввернул Сударушкин.
Все рассмеялись. Невольно улыбнулся, тряхнув табачным чубом, и не умевший обижаться на шутки трубач. И только плоское лицо каптенармуса Струнникова по-прежнему было похоже на восковую маску, слегка искаженную сейчас полупрезрительной, полузлобной гримасой.
Сударушкин, воспользовавшись заминкой, расторопно выхватил откуда-то из-за пазухи обшитую шинельным суконышком алюминиевую баклажку с джином – контрабандной китайской водкой из риса – и еще расторопнее, расплескав недопитое заморское зелье по кружкам, столь же поспешно и бойко рассовал чарки по рукам сидевших вокруг однополчан. Потом, подмигнув Наковальникову, Сударушкин первый, с видимым удовольствием, лихо, почти со стоном, выхлебнул свою порцию и, звонко прищелкнув языком – закусывать было нечем,– снова заерзал, потирая простертые над костром маленькие и розовые, как у красной девицы, руки.
Вслед за Сударушкиным молча выпили свою долю и остальные казаки. Не стал пить на этот раз один только каптенармус. Отставив в сторону свою кружку, он выждал, пока выпил трубач, и, не сводя с него полусмеженных кошачьих глаз, проговорил с неприкрытой злобой:
– Нет, худо тебя, Полубоярцев, в полку за пять лет объездили – удила закусываешь. Правильно, пожалуй, говорил приказный. Домой воротимся – присмиреешь.
– Уж не ты ли смирять меня там собрался?
– Зачем я? Нужда прижмет, сам в хомут залезешь.
– Только не в твой.
– А это уж воля твоя – выбрать сбрую по корпусу…
– Ага, съел!– ткнув локтем в бок трубача, торжествующе воскликнул приказный.– Слышал такие речи? Была бы, дескать, шея у вас, варнаков, потолще, а за хомутами дело не станет. Вот и весь тебе сказ без прикрас.
– Все равно я не покорюсь,– с ожесточением сплюнув в золу, пробасил трубач сорвавшимся голосом.
– А куда ты, дружок, подашься?
– Лучше к кыргызскому баю в степь али к богатому хохлу на отруба в работники уйду, чем в своей же станице на этих шкур чертомелить стану.
– Конечно, кому работа не по нутру, у того одна припевка – пенять на бедность,– все с той же кривой усмешечкой в холеный ус сказал куда-то в пространство передернувший плечами каптенармус.
Вспыхнув как порох, Наковальников хотел было что-то возразить на ехидное замечание Струнникова. Но приказного опередил встрепенувшийся, как раненый беркут, трубач. Рывком придвинувшись вплотную к отпрянувшему назад каптенармусу, он мертвой хваткой вцепился левой рукой в его вздувшуюся на груди гимнастерку и глухим, сорвавшимся на полушепот голосом спросил:
– А ты, сук-кин сын, много н-наробил?! Помедлив с секунду, как бы соображая, что ему ответить на это, Струнников, вдруг изловчившись, стреми-
тельно-коротким ударом локтя отбросил от себя трубача и, тотчас же вскочив на ноги, прошипел, судорожно одергивая сбившуюся под ремнем гимнастерку:
– Нужны вы мне, хором лазаря с вами тянуть! На мой век и родительского добра, слава богу, хватит.
– Погоди. Погоди…– запальчиво пробормотал и вскочивший на ноги Наковальников, отстраняя властным движением руки ринувшегося к Струнникову тяжело и грозно дышавшего трубача. Глядя в упор бешено округлившимися, невидящими глазами в кошачьи зрачки каптенармуса, приказный негромко проговорил:– Ты бы лучше признался тут, Струнников, кто твоему родителю это добро нажил.
– Уж не вы ли с трубачом?
– Не мы. Отцы наши.
– Вот не знал! Спасибо, што сказали.
– Пусти меня, Мотя, я с им, язви те в душу мать, за всех и вся в один темп расквитаюсь!– хрипел через голову Матвея Наковальникова, дорываясь до каптенармуса, осатаневший трубач. От хмельной обиды, ударившей в голову, у него потемнело в глазах, и, подвернись ему в эту минуту под руку шашка, он наверняка разделался бы в два счета со Струнниковым. Но шашки при нем не было, а пустить в дело кулаки было ему не с руки – мешал Наковальников. Отлично зная характер крутого на расправу своего дружка, могучий в плечах и неробкий в драках приказный заслонял собой то с той, то с другой стороны стоявшего перед ним каптенармуса и продолжал жаркую, как беглый огонь, словесную перепалку.
– Твой тятя – покойна дыра – не одну казачью семью до сумы в станице довел, не одну трудовую копейку у нашего брата проглотил – не подавился… А не вы ли с ним перед нашим уходом в полк последнюю коровешку у матери Мишки Седельникова со двора увели?! Не ваших рук это дело?! А?!– с недоброй вибрацией в глухом басовитом голоске допекал Струнникова приказный.
– Так точно. Мы. Было, значит, за што увести. Долг-то, говорят, платежом красен…– встревоженно зыркая по сторонам глазами, вызывающе бубнил каптенармус.
– Посторонись, Мотька, я его, подлеца, разукрашу!– рычал труба» норовя-таки дорваться до каптенармуса.
Теперь по всему уже было видно, что драки не миновать. Однако подхорунжий Яков Бушуев продолжал, как ни в чем не бывало, по-прежнему лежать у костра все в той же картинной позе и молча поглядывать на распалившихся однополчан ленивыми, отсутствующими глазами.
Евсей Сударушкин, отскочив в сторонку, имел, как всегда, щеголеватый и бравый вид. Опрятно одернув под ремнем диагоналевую, точно влитую, гимнастерочку и лихо заломив набекрень новенькую касторовую фуражку, он стоял подбоченясь и весело посверкивал озорными быстрыми, как у подростка, глазами. Сейчас он просто светился весь от удовольствия, уверенный в неизбежной потасовке между казаками.
– Еська, шашку!– скомандовал трубач, ринувшись вдруг к оторопевшему Евсею Сударушкину.
– А ты ослеп разя, Спиря? Вон ить клинки-то,– с живостью отозвался Сударушкин, кивая на воткнутые в землю клинки, поддерживавшие натянутую на них попону.
И трубач, вырвав один из клинков и зловеще поигрывая им, двинулся на продолжавшего словесную перебранку с приказным каптенармуса.
Тут уж и Алексей Алексеевич всполошился не на шутку. Не хватало еще только, чтобы трое пьяных дураков сгоряча перерубили друг друга! Волей-неволей, а есаул вынужден был теперь выдать себя, вмешавшись в междоусобицу.
– Здорово бывали, братцы,– приветствовал есаул вытянувшихся в струнку однополчан мирным, будничным тоном.
– Здравия желаем, ваше высокоблагородие!– хотя и вразнобой, но молодцевато и бойко гаркнули казаки.
Трое из них – трубач с каптенармусом и приказный – стояли как ни в чем не бывало, в одной шеренге, ухитрившись в мгновение ока выстроиться перед есаулом даже по ранжиру. Подхорунжий Бушуев с Евсеем Сударушкиным замерли в стороне. Все, опустив руки по швам, ели глазами есаула, норовя разгадать, чем пахнет для них это внезапное его появление.
– Вольно… Вольно,– сухо произнес есаул, закуривая.
Казаки, несколько обмякнув, неловко запереминались. Один чуть слышно крякнул. Другой украдкой вздохнул. Третий, сбив набекрень фуражку, принял более непринужденную позу. И только Евсей Сударушкин продолжал по-прежнему стоять навытяжку, как в строю.
Было уже совсем светло. Дождь прошел. Костры на биваке погасли. В хмуром утреннем небе стремительно мчались над степью пепельные облака, раскиданные ночным ветром. Но солнце еще не вставало. Может быть, его просто не было видно из-за траурного крепа сгустившихся туч, закрывших восточную сторону небосклона. По-прежнему чуть слышно и горько перекликались, бог весть на какой высоте, странствующие казарки. Опять нет-нет да и возникало где-то вдали короткое трубное ржание все одного и того же коня, пасущегося в отгоне.
И странная, близкая к душевному смятению тревога вдруг овладела всем существом Алексея Алексеевича при виде трех присмиревших перед ним казаков, еще минуту тому назад готовых перерубить друг друга. Но еще более странным было ощущение столь же внезапного и совсем будто беспричинного озлобления против каптенармуса Струнникова, отвисшей его губы и подвитого плойкой чуба. «Самодовольная морда. Злые глаза. И вообще подлец, конечно, отпетый…»– подумал Алексей Алексеевич, бросив косой взгляд на каптенармуса. Стрепетов мало знал и почти не замечал прежде Струнникова. Но сейчас в этом нестроевом интенданте есаула бесило все: тупой подбородок и нафиксатуаренные усы, гвардейский рост и безупречная выправка. С трудом подавив в себе вспышку против выдобревшего на ворованных армейских харчах полкового каптенармуса, Алексей Алексеевич только вздохнул и глубоко затянулся на полный захват асмоловской папиросой.
– Тут, кажется, выпивкой припахивает, если не ошибаюсь?– сказал есаул, пристально всматриваясь в открытое лицо приказного.
– Никак нет. Не занимаемся, ваше высокоблагородие,– поспешно выпалил вместо приказного каптенармус.
– Так точно. Был такой грех. Выпили, ваше высокоблагородие,– твердо отрапортовал приказный.
– Молодцом, Наковальников. Благодарю за честное признание,– столь же твердо проговорил есаул.
– Рады стараться, ваше высокоблагородье!
– Чувствую. Чувствую, приказный… Одного не пойму: с каких это радостей запировали вы в такую минуту?
– Помилуйте, каки могут быть у нас радости?! Наоборот…– молвил, вздохнув, приказный.
– Вот и я то же самое, что – наоборот.
И с ожесточением швырнув наотмашь при этих словах в догоравший костер недокуренную папиросу, есаул, сложив руки за спину, молча прошелся раза три взад-вперед вдоль шеренги вновь подтянувшихся казаков. Жестко сжав рот и полусмежив набрякшие веки, он резко остановился перед казаками и глухо проговорил:
– В эшелоне чрезвычайное происшествие. Несчастье. Одного из лучших в полку строевых казаков потеряли… А вы – пить. Да к тому же еще ворованную каптенармусом резервную водку.
– Виноват. Осмелюсь…– заикнулся было побледневший Струнников, вылупив на есаула округлившиеся, тусклые глаза.
– Молчать! – оборвал его есаул. И, уже обратись теперь к подхорунжему Бушуеву, приказал коротким и властным движением руки, указав на Струнникова:
– Поставить на два часа под ружье. С полной армейской выкладкой. На марше – три перехода пешим порядком впереди полкового обоза с седлом, привыочен-ным на спине. Ясно?
– Так точно. Будет исполнено, ваше высокоблагородие!– лихо вытянулся подхорунжий Бушуев, скосив глаза на каптенармуса.
Козырнув казакам, Стрепетов тотчас же отошел от них прочь своей стремительной походкой.
Схоронили нижнего чина Михаила Седельникова на вершине степного кургана, вокруг которого был разбит накануне походный бивак.
Когда стройное тело покойного, завернутое в попону, было бережно опущено казаками на чумбурах в могилу, есаул Стрепетов, спешившись, первым бросил горсть сухой и жесткой земли на прах своего подчиненного. То же самое сделали следом за командиром и несшие почетный караул казаки.
Полк, развернутый вокруг кургана в конном строю, обнажив клинки, взял на караул и стоял, не шелохнувшись, в глубоком молчании. Рослый вороной строевик покойного под седлом и с завьюченной в торока седель-никовской шинелью присмирел рядом с правофланговым всадником, коротко державшим его за повод. Высоко взметнув в тревожном порыве красивую, будто вылитую из бронзы, голову, конь сверкал агатовыми зрачками, точно прислушиваясь к чему-то.
Но тихо было вокруг.
Только резкий северный ветер глухо гудел и посвистывал в стволах висевших за плечами у всадников карабинов да где-то далеко-далеко кричал, должно быть, подраненный гусь. Над степью слегка порошила похожая на жемчужную россыпь крупа. Молча, без обычного сторожевого курлыканья, низко проносились над головами всадников, видать, последние стаи гусей. Не спеша, с неохотой брело запоздалое хмурое утро по неуютной в такую пору степи. Тускло и холодно поблескивала тавреная сталь обнаженных сабель. И колыхалось, словно вздыхая от ветра, приспущенное знаменосцем боевое Георгиевское знамя полка-Гулко прогрохотал, перекликаясь с эхом прибрежных гранитных сопок и скал, троекратный оружейный салют. Просвистели свинцовые пули. И все было кончено.
Полк, развернувшись для марша, принял равнение направо и молча проследовал с приспущенными штандартами и саблями наголо мимо одинокой могилы. Торжественно-скорбное безмолвие всадников со взятыми на караул клинками нарушалось лишь чуть внятным ритмичным поскрипыванием переметных сум и седельных подушек, звяканьем закусываемых строевиками стальных удил да глухим и дробным рокотом гудевшей, как бубен, земли под тяжелыми коваными копытами.
Оседланного седельниковского коня вел в поводу полковой трубач впереди эшелона. Неспокойно держался без седока на этом марше строевик Михаила Седельникова. Давно почуяв неладное, шел он неровным, приплясывающим шагом. Злобно грызя мундштуки, он то норовил рвануться со всех ног вперед, то вдруг тормозил на ходу, засекаясь на заднем копыте.
Эшелон уходил на север.
Все дальше и дальше уплывал в нелюдимую глубь осенней степи оставшийся позади невысокий курган с большим, грубо отесанным деревянным крестом, водруженным на свежей могиле. И казаки, шедшие в конной колонне, замыкающей эшелон, повернувшись в седлах вполоборота, долго не сводили глаз с похожего на распятье креста, маячившего в зыбкой мгле.
Когда эшелон был уже в полуверсте от кургана, многие из всадников видели, как над местом покинутого ими ночного бивака показался вдруг спустившийся из заоблачной высоты степной орел. Описав два широких и плавных круга над похожим на евангельскую Голгофу курганом, он медленно опустился затем на вершину креста, скачала широко расправив над ним, а потом мягко подобрав свои огромные крылья.
Как всегда, и на этом марше песельники, построившись в развернутую колонну, шли во главе эшелона. И хотя вместо выбывшего из строя Михаила Седельникова красовался теперь на саврасом строевичке впереди полковых запевал другой, такой же бедовый и лихой запевала Евсей Сударушкин,– казаки угрюмо молчали.
Не пелось.
Часть первая
Для обеспечения колонизации на Западно-Сибирской окраине русскому правительству в XVIII веке пришлось отгородиться от кочевников искусственно укрепленными линиями. Одна из этих линий легла от Яика до Иртыша и была названа Горькой.
К югу от линейных станиц, за жемчужной цепью озер и канвой березовых перелесков лежит великая древняя степь.
Степь.
Родимые, не знавшие ни конца ни края просторы. Одинокие ветряки близ пыльных дорог. Неясный, грустно синеющий вдали росчерк березовых перелесков. Горький запах обмытой предрассветным дождем земли. Азиатский ветер, пропитанный дымом кизячных костров. Трубный клич лебедей на рассвете и печальный крик затерявшегося в вечерней мгле чибиса. О, как далеко-далеко слышна там в предзакатный час заблудившаяся в ковыльных просторах проголосная девичья песня!
До боли в глазах сверкают там в знойную летнюю пору ковыли и озера, а зимой – белые, сахарные снега. Гулко гудит на рассвете под некованым конским копытом широкий тракт. Неподвижным и тусклым становится ночью шафранный зрачок зверя, притаившегося в придорожном бурьяне. Бесшумно, медлительными дремотными кругами опускается в предзакатный час на одинокий степной курган орел. Равнодушный и безучастный к великому окрестному безмолвию и покою, он садится на вершину намогильника и долго точит потом об осколки гранитной гробницы свой стальной, окантованный траурной прошвой клюв.
Джигитует в родимых просторах ветер, пропитанный солью степных озер и дыханием далекой пустыни. И плывут, плывут безучастные к жизни и смерти, кочуют из края в край над этой землей легкие, как паруса, облака.
Загрубела обильно политая кровью племен, утрамбованная копытами коней земля. Потому-то, словно бубен, звенит она на рассвете под ногами злого как черт иноходца. Потому и бушуют здесь в летнюю пору диковинно пышные травы и пылают, как пламя в дыму, яркие степные цветы. А в конце февраля от чудовищного грохота и гула буранов не находит себе места в камышовых джунглях напуганный зверь. И горе тебе, человек, попавший в такую пору в эти первобытные степные просторы!
Может быть, вот так же тысячу лет назад красовались в этих местах такие же диковинные цветы и бушевали под ветром густые сочные травы. Жестокие предания, легенды и песни хранит в себе эта степь. Суровые гребни курганов и проросшие ковылем и бессмертником камни древних гробниц напоминают о битвах и сечах воинственных предков, о кровавых маршах диких племен и орд, прошедших с огнем и мечом по этим равнинам.
Вдосталь показаковала, поатаманила некогда в этом краю и пришлая из Прикаспийских пустынь, с Дона, Волги и Яика казачья вольница. И по полузабытым лихим и тревожным песням ее можно судить о том, как, бывало, отгораживались на Горькой линии частоколом, водой и рвами линейные казаки от немирных своих соседей; как закладывали они лет двести тому назад в этих местах и поныне существующие земляные крепости, маяки и редуты.
Хаживали эти хмельные от вольности ребята на легкий, рисковый промысел в глубинную степь. Сторожили они на древних дорогах и трактах заморских купцов и миловали кистенем и пищалью иноземных предводителей караванов. Не гнушались лихие станичники ни индийским серебром, ни китайской парчой, ни персидскими коврами, ни полоненными дикарками со смуглыми лицами. Потому-то и течет до сих пор в жилах сибирского линейного казачьего войска глухая, властно зовущая в кочевые дали кровь. Потому-то не редки еще и теперь среди линейных станичников диковато-шустрые на взгляд и облик казаки и темноликие казачки.
Но все прошло, поросло ковылем-травою. И остались от предков в наследство линейным станицам одни изрытые ядрами старинные крепостные земляные валы да полувыровненные временем рвы.
…Станица Пресновская, как и все другие станицы на Горькой линии, стояла в степи в окружении земляных городищ и ветряных мельниц. Ее прямые, широкие улицы утопали в пыли и в чахлой зелени палисадников. А на крышах пятистенных и крестовых домов красовались жестяные петухи. Делилась станица на два непримиримых края – Ермаковский и Соколинский. Славились обитатели Ермаковского края гвардейским ростом, крестами и грамотами, а жители Соколинского края – лихими чубами, нуждой да песнями. Повелся здесь с далеких времен обычай такой: оседали в Соколинском краю иногородние пришельцы из разного люда, принятые обществом в казачье сословие за бочку вина или браги, выставленную на станичную площадь. Получали эти приписные казаки из войскового надела по пятнадцати десятин земли на служилую душу. А спустя года два отдавали они эту землю за грошовую аренду богатевшим из года в год ермаковцам, а сами, проводив сына в полк, зачастую шли в батраки и не вылезали затем из нужды и долгов до конца своей незавидной жизни…
В один жаркий воскресный день, в канун сенокоса, когда слегка подвыпившие казаки, собравшись на крепостном редуте, томились от зноя, от лени, от праздности, а главное, от нехватки распитой по случаю распродажи общественных сенокосов казенной водки – в эту самую пору предстал перед затуманившимися очами станичников тоже чуть подгулявший где-то приблудный хохол Денис Поединок.
Казаки лежали близ редута вразвалку, мрачные, неразговорчивые. Они поджидали снаряженных в кабак за дополнительной четвертью водки братьев-близнецов – Кирьку и Оську Карауловых. Беспокоило станичников и еще одно весьма важное для них обстоятельство: удастся ли им сбыть владельцу станичной мельницы Венедикту Павловичу Хлызову-Мальцеву за выгодную цену один сенокосный участок. Вся закавыка была в том, что участок этот был не казачий, а принадлежал казахам соседнего аула. Но, по молчаливому согласию между собой, казаки решили продать этот сенокос, выдав его за войсковой надел, а с истинными владельцами его – казахами – поладить потом, как бог приведет.
Все было хорошо. Но тут совсем некстати принесла нелегкая невесть откуда взявшегося Поединка. И старики насторожились. Они почуяли в подвыпившем украинце большую помеху в предстоящем нечистом деле. И станичники не ошиблись. В тот момент, когда на крепостном валу словно вырос из-под земли озорной и вихрастый Денис, появился на площади в сопровождении станичного атамана Муганцева и сам владелец станичной мельницы – Венедикт Павлович Хлызов-Мальцев. Увидав этого холеного барина, казаки поспешно поднялись с земли и приветствовали его почтительным поклоном.
– Слышал, слышал, господа станичники, о вашем запросе. Дороговато вы с меня за это урочище ломите…– проговорил Венедикт Павлович таким тоном, словно он продолжал давно начатый разговор.
Старики, окружив Венедикта Павловича, все враз загалдели:
– Что вы, бог с вами, барин!
– Такой траве цены нет.
– Шелк – не трава в Узун-Кульском урочище.
– Почище овса трава!
– Сплошной визель, господа парки. Золото!
– Сам бы ел, да деньги надо…
– Все это я понимаю. Понимаю, господа станичники,– прижимая руку к сердцу и ласково улыбаясь, говорил елейным голосом Венедикт Павлович.– Но сами посудите, бочка вина за такую траву – цена неслыханная.
– Да вы уж уважьте нас, стариков,– заискивающе улыбаясь в свою очередь Венедикту Павловичу, упрашивал его Никодим Пикушкин, по прозвищу «фон-барон».
– Исделайте такую милость.
– Ради праздничка не поскупитесь для общества, ваше степенство.
– Только для вас такую траву по сходной цене уступаем,– перебивая друг друга, кричали станичники.
Поломавшись еще для блезиру минут пять, Венедикт Павлович махнул с веселым отчаянием рукой и сказал:
– Ну хорошо. Так и быть. Ставлю бочку. И то – ради дружбы. Нет нужды у меня жить в разладе с вами, господа старики.– И он тут же отсчитал из бумажника
несколько мелких кредитных билетов, вручив их под восторженные возгласы стариков станичному десятнику Мише Буре. Затем, приветливо помахав повеселевшим станичникам своей мягкой фетровой шляпой, Венедикт Павлович покинул площадь.
И пока расторопный десятник Буря бегал с группой молодых казаков к целовальнику, возбужденные от предвкушения выпивки станичники завели разговор с появившимся среди них Поединком.
– Ого, господа станичники, в нашем войске прибыло. Ишо один будущий казак появился!– крикнул фон-барон Пикушкин, указывая на картинно стоявшего на крепостном валу Поединка.
– Ура!– недружно гаркнуло несколько зычных глоток.
Поединок, выждав, пока затихли явно насмешливые выкрики казаков, вызывающе подбоченясь, сказал:
– Ось повремените трошки, господа станичники. Ось повремените. А тамо побачимо, який казак, мабуть, з мене зробится!
– Из тебя, слышь, казак, как из моего подживотни-ка тяж!– насмешливо крикнул Поединку школьный попечитель Ефрем Ватутин.
– Эге, заело?!– злорадно откликнулся Поединок.– Ну що ж, потягаемся зараз с твоими сынами, дед! Там побачимо, кто из нас наикрашче: они – твои сыны, природны казаки, или же я – хохол.
– Да ты, сукин сын, клинка из ножен по команде не вытащишь!– крикнул Поединку один из двух престарелых станичных георгиевских кавалеров дед Арефий.
– Шо? Сабли не вытащу, говоришь?– запальчиво крикнул Поединок.– Эге, бывайте, господин георгиевский кавалер, здоровеньки. Ось, погоди, дед, дай только мне заручиться шашкой, побачишь тогда на гарну мою работу. Я тогда все перши приза по зрубке лозы на плацу у ваших сынов возьму. О, я какой!
Дерзкий во хмелю, хвастливый и самоуверенный Денис Поединок быстро довел обидчивых и запальчивых, как малые дети, станичников до белого каления. И они, разгневанные его речами, вразнобой завопили:
– Круто, варнак, берешь – пупок сорвать можешь!
– Корпусом, господин хохол, в казаки не вышел.
– Морда не натуральна для тому подобного званья! Между тем появившиеся на площади с четвертью водки братья Кирька и Оська Карауловы подлили масла в огонь. Чувствуя, какой крутой оборот приняла словесная перепалка между Поединком и станичниками, эти любители праздничных потасовок, первые организаторы всех междоусобных драк и станичных мирских побоищ, начали уже на ходу засучивать рукава своих сатинетовых рубах. Не зная еще толком, чью принять сторону – одинокого ли Поединка или станичников, Кирька, вооружившись подвернувшейся под руку жердью, предложил деловым, мирским тоном:
– А ну, заведем, воспода станичники, драку. День сегодня праздничный. Водки у нас с избытком…
Однако станичники, увлеченные дележом водки, пропустили мимо ушей предложение Кирьки и на время забыли о Поединке.
А Кирька стоял с жердью в руках на крепостном валу, готовый в любую секунду ринуться в драку. Это был немолодой уже казак, лет под сорок, а может быть, даже и с гаком. Ростом был Кирька не меньше Поединка – без малого три аршина. На действительную службу он не ходил – донимала его смолоду грыжа. В нем поражала присущая ему и в стати и в облике странная несоразмерность. Так, руки у него казались не в меру короткими по сравнению с тощим и длинным телом. Не совсем правильно были приставлены и глаза его шалфейного цвета. К тому же был у Кирьки такой неожиданно звонкий, по-бабьи визгливый голос, что он ухитрялся перекрикивать на станичных сходках самых отпетых горлопанов. И даже в одежде у Кирьки все было не так, как у добрых людей: на одной ноге, скажем, пим, на другой – опорок. То у него, смотришь, штанина одна короче другой, то, глядишь, ворот у малиновой рубахи небесного цвета.
Кирька был жителем Соколинского края, полухозяином-полубатраком. Пил он мало, но, выпив, тотчас же впадал в тоску, становился неразговорчивым, мрачным. И пока народ, бывало, колготился вокруг дарового угощения, входил в хмель и шумел, Кирька сидел где-нибудь на отлете, погруженный в мрачные свои думы. Потом, когда хватившие лишку ермаковские горлопаны начинали мало-помалу пробу своих прочищенных водкой глоток, Кирька вдруг настораживался. У него начинали чесаться руки. И он, вскочив на ноги, вытянувшись во весь свой трехаршинный рост, кричал, как бы отдавая команду:
– Смирно, воспода станичники! Зря хайлать нечего. Спором дела все равно не решишь. Давайте лучше драться…
Так же вот случилось и теперь, в этот знойный воскресный день, когда станичники опоражнивали трехведерный бочонок водки, выторгованный у владельца мельницы за траву.
Впрочем, все, может быть, кончилось бы мирно, не подзуди захмелевших станичников Поединок.
– Лихо, вижу, пируете вы, господа станичники, за чужое добро!– крикнул казакам Денис Поединок.
– Это как так – за чужое?– прозвучал изумленный фальцет фон-барона.
– Очень просто. Траву-то вы продали Хлызову не свою, а киргизскую,– ответил ему Поединок.
– Што?! Што ты сказал, варнак?!– вырываясь вперед из толпы казаков, закричал не своим голосом на Поединка пышнобородый казак Соколинского края Егор Павлович Бушуев. Задыхаясь от хмеля и гнева, старик бросился было на спокойно стоявшего Поединка с кулаками. Но его удержал его сын Федор.
– Тихо, тятя. Не реви. Урочище-то ведь и в самом деле кыргыцкое.
Обернувшись к сыну, старик на мгновенье задержал на нем дикий от гнева взгляд и прикрикнул:
– Не твое дело. Молод ишо разбираться, чью траву пропиваем – нашу али кыргыцкую… Понял?
– Не дело затеяли вы во хмелю,– глухо проговорил Федор.
Ничего не ответив сыну, Егор Павлович, бросившись в объятья к фон-барону Пикушкину, слезно начал жаловаться:
– Видал, восподин фон-барон, чем меня мой молокосос начал корить? Слыхал, что он толкует? Урочище-то, говорит, кыргыцкое пропили… Хе!
– А мы пропивали и пропивать будем,– с философским спокойствием ответил ему на это фон-барон. И старики, неожиданно проникнувшись нежностью друг к другу, обнялись и довольно стройно запели:
В степи широкой под Икаиом Нас окружил кокандец злой. И трое суток с басурманом У нас кипел кровавый бой. Мы залегли. Свистали пули. А ядра рвали нас в куски.
Мы даже глазом не моргнули, Лежали храбры казаки.
Двое престарелых георгиевских кавалеров – дед Конотоп и дед Арефий, осоловев после перепавшей им чарки даровой водки, тоже прониклись друг к другу невысказанной любовью. Уютно примостившись на одном из крепостных холмов, деды мирно ворковали между собой, не обращая внимания на гомон и шум рядом. Один из кавалеров – Конотоп – недослышал. И дед Арефий кричал ему в самое ухо:
– Ты в Кокандском походе, братец, бывал?
– Чего это… А, бывал, бывал. Мы под Ферганой стена стеной стояли…
– Я про город Коканд говорю.
– Чего это?.. Ага, жаркое дело было, братец, когда мы Ферганскую крепость с покойным их высокопревосходительством енералом Скобелевым брали,– не обращая на речь собеседника никакого внимания, продолжал долбить свое Конотоп.– Вот был енерал, царство ему небесное! Его ни картечь, ни пуля не брала. Он на глазах у супостатов под пулями умывался…
– Это кто умывался! Скобелев-то?!– насмешливо крикнул ввязавшийся в мирную беседу двух кавалеров станичный десятник Буря.
– Так точно. Об их высокопревосходительстве речь ведем…– откликнулся по-военному кавалер Арефий.
– Знаем, знаем такого героя. Помним, как он во время японской войны в касторовы шаровары наклал,– сказал Буря.
– Цыц, варнак! Креста на тебе нет, покойного енерала марашь…– угрожающе потрясая старчески немощными кулаками, гневно прикрикнул на него дед Арефий.
А в это самое время толпа очумевших от хмеля и все возрастающего озлобления станичников Ермаковского края, замкнув в глухое кольцо стоявшего на крепостном валу Поединка, надрывалась от крика:
– А ну, повтори, сукин сын, што ты сказал?!
– Чью, говоришь, траву мы пропили?!
– Отвечай нам словесно…
– Отвечай, или дух из тебя вон на глазах у общества! Было ясно – у станичников зачесались руки. Водка была допита. Теперь оставалось одно – подраться.
Минутное замешательство. Нечленораздельные вопли. Свист. Улюлюканье. И поколебленные ряды ермаковцев ринулись наутек, ломая на бегу огородные колья. Толпа с ревом, со свистом и гиканьем катилась стремительным ураганом вдоль улицы. Преследуемые Денисом Поединком и Кирькой Карауловым, вооруженными жердями, ермаковцы, мгновенно трезвея, мчались сломя голову по станичной улице. Потеряв свой опорок, длинный, бледный, взлохмаченный и страшный в своей решимости, гнался Кирька за одностаничниками. А пожилые, дородные ермаковцы едва уносили ноги от прытких и долговязых соколинцев. Впереди всех улепетывал в своем настежь распахнутом полковом мундире, гремя медалями и регалиями, фон-барон Пикушкин. Рядом с ним мчался с не свойственной его возрасту резвостью школьный попечитель Ефрем Ватутин. Нелегко было престарелым станичникам перепрыгивать на ходу через огородные плетни и брать другие препятствия. Слава богу, люди все в годах. У них и дух на бегу захватывало, и слеза в очи била, и грыжа в паху давала при прыжках о себе знать, и ноженьки подкашивались.