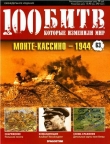Текст книги "Горькая линия"
Автор книги: Иван Шухов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
– Куда же вы меня завели?
– А ты ничего не видишь?– ответил ему на вопрос вопросом Андрей Шибайкин,
– Ничего, кроме леса,– смущенно улыбаясь, ответил Максим.
– Ну тогда честь и хвала нам, фронтовым саперам!– сказал, подмигнув улыбающимся приятелям, Андрей Шибайкин.
– Кроме шуток, ничего не вижу,– говорил, озираясь вокруг, Максим.
– Значит, жаксы – хорошо, сказать тебе по-киргизски. А ты ишо нас казаками пугал. Пусть-ка попробуют отыскать казачки наш подземный дворец в этом месте,– сказал Шибайкин. И он, взяв за руку Максима, увлек его вслед за собой в куст ракитника, за которым они спустились по узенькой тропке в небольшую, заросшую высокой травой рытвину.
И только тут перед изумленным Максимом распахнулась на узенькой тропке неожиданно – как бы сама собой – заросшая пушистым ракитником дверь, Максим, согнувшись, вошел вслед за Шнбайкиным в довольно просторную подземную избушку. Дневной свет, проникавший сквозь потолочное отверстие, заделанное осколками оконного стекла, скупо освещал это уютное, опрятное жилище. Внимательно оглядевшись, Максим устало опустился на нары и, прислонившись к стене, прикрыл глаза.
– Ну вот, теперь мы и дома,– проговорил он чуть слышно. И неясная, как в сновидении, смутная улыбка тронула при этом его сухие, обветренные в нелегком странствии губы.
Какой тихой и неприметной была красота Даши Немировой, такой же тихой и неприметной была теперь и ее жизнь. Мало было завидного в этой жизни просватанной и покинутой женихом невесты. «От девок отстала и к бабам не пристала!»– говорили про Дашу на хуторе. В ее положении, и в самом деле, не совсем было ловко хороводиться с подружками по девичеству, а дружить с солдатками – совсем не к лицу. Однако, по правде сказать, и охоты-то к этому большой у Даши уже не было. Потеряв Федора, она вдруг утратила былой интерес ко всему, что когда-то увлекало, волновало и радовало ее. Прослыв в девках за первую песенницу и плясунью на хуторе, она притихла теперь, равнодушно поглядывая на девичьи хороводы, что по-прежнему водили подружки в погожую летнюю пору по праздничным вечерам.
За все эти годы нигде и никто не слышал от Даши и двух слов о Федоре. А если кто из досужих бабенок и пытался вспомнить к слову о беглом бушуевском сыне, то Даша с таким безразличием относилась к этому разговору, что люди, затеявшие его, тотчас же умолкали, так и не поняв толком – притворяется ли Даша, или ей и в самом деле не было теперь никакого дела до незадачливого своего жениха.
В хуторе поговаривали о Даше разное. Одни уверяли, что связанная помолвкой с Федором девушка, не надеясь на его возвращение, собиралась уйти в монастырь. Другие, наоборот, утверждали, что Немировы, поддерживая через степных кочевников тайные связи с беглым зятем, рассчитывают на его скорое возвращение. Третьи плели псе, что взбредало в голову: сегодня – одно, завтра – другое. Но никто не ведал на хуторе сокровенных дум и чаяний Даши, да не все было ведомо о ее помыслах и и родной семье.
Старики были спокойны за судьбу Даши и не очень-то донимали ее расспросами, как там и что. Тем более время стояло смутное и тревожное – войне не видать было пока ни конца ни краю. Но немировские старики, как и весь народ, не теряли надежды, что все в конце концов образуется и вернется на Горькую линию былая мирная жизнь. Ну, а тогда не грех будет задуматься и о дальнейшей судьбе Даши.
Так вот и шли дни за днями в постоянных заботах да хлопотах по хозяйству немолодых уже годами родителей Даши. И, не приученная с детства к безделью и праздности, Даша не сидела сложа руки ни зимой, ни летом. Как оставшиеся без ушедших на фронт мужей хуторские казачки сами ходили весной за плугом, добывая в поту трудовой кусок хлеба для своей семьи, так и Даша пахала и сеяла каждую весну на родительской пашне, заменяя сдавшего за последние годы отца.
С первых же дней ранней весны до глубокой осени пропадала Даша на пашне и не очень-то тяготилась в такую пору одинокой жизнью в степи. Наоборот, она чувствовала себя здесь спокойнее, чем на хуторе. Полная такой же умиротворяющей внутренней тишины, какая царила в этом окрестном степном мире, она, намаявшись за день за плугом, засыпала как убитая в земляном балагане, не видя ни дурных, ни хороших снов. Просыпаясь на рассвете с ощущением здоровья, силы и молодости, она бежала босиком по мокрой от росы траве умываться в озере. Шумно плескаясь холодной и звонкой водой, она беспричинно улыбалась чему-то и чувствовала неяркую красоту порозовевшего и от студеной воды, и от жаркого восхода солнца открытого своего лица.
Хуже чувствовала Даша себя, как это ни странно, дома, когда возвращалась с пашни на хутор под какой-нибудь праздник. Тут ей не спалось по ночам. И какая-то непонятная тревога охватывала ее, когда она оставалась одна в своей горнице. Она не находила здесь себе места, и всякое дело валилось у нее из рук – не штопалось, не вышивалось, не вязалось. А в глухую полночь вскакивала она иной раз с постели и босиком, в одной мадаполамовой сорочке, отороченной по вороту дешевенькими кружевами, садилась у настежь распахнутого в палисадник окна, против которого не раз сиживали они, одни во всем мире, с Федором.
Свежи и призрачны бывают летние ночи на Горькой линии. Почему-то всегда пахнет в такую пору гарью степей и сухим конским пометом. Вокруг – мертвая тишина. Чуть внятно лепечут в ночи, как сквозь сон, трепетные листья серебристого тополя. Золотой, похожий на дутую казахскую серьгу месяц висит над хутором. Тишина. Скрипнут где-то ворота калитки, коротко крикнет ночная птица. Прозвенит, замирая вдали, колокольчик, мягко и нежно рассыплется ласковый девичий смех. И снова так становится тихо, что можно, кажется, даже расслышать, как растет трава…
В такие ночи нередко просиживала Даша в полном одиночестве у окна с вечера до рассвета. Дрожа от предутренней прохлады, от непривычного напряжения нервов, зрения и слуха, чутко прислушивалась она к каждому шороху и звуку и ждала – не уловит ли ухом далекий дробный и частый копытный стук иноходца или шорох легкой походки, знакомых, поспешных, запомнившихся навеки шагов…
Но тихо было в ночи. И только изредка слышались чужие шорохи и звуки, чужой конский топот, чужие шаги. Чужой возникал где-то за углом робкий шепот. Чужие горячие, вкрадчивые речи и вздохи доносились до Даши из лунной полумглы. Чужое счастье проходило мимо нее в эти ночи, как проходят стороной над желтой от зноя степью косые дожди…
Иногда она вздувала огонь и разбрасывала у себя на коленях старые карты. Падала дама пик – злодейство. Поздний разговор с бубновым королем. Коварство какого-то трефового валета. Рядом с девяткой пик – семерка: к слезам. Затем неприятное свидание в казенном доме с червями. Очень неприятное это соседство – пиковая восьмерка с королем червей! Нет, не было пути к ее сердцу и к дому для Федора. Это, впрочем, давным-давно было ясно Даше и без трефового валета, и без позднего разговора с бубновым королем…
Одна отрада была теперь у Даши – Настя Бушуева. Подружившись после своей помолвки с Федором с его сестрой – тоже такой же невестой на выданье,– Даша души не чаяла в новой своей подружке. Случилось так, что судьба обеих девушек была примерно одинаковой. Настя, как и Даша, готовилась стать к покрову под венец с Сашкой Ханаевым. Но война и мобилизация спутали карты. И Настя, проводив своего суженого на фронт, осталась тоже на положении покинутой невесты. Все это сближало девушек, хоть по характеру и не совсем похожи они были друг на друга. Но разница в характерах – как это часто бывает в жизни – как раз и влекла их друг к другу.
Даша стала бывать по годовым праздникам в доме Бушуевых, загащиваясь иногда у них по неделе. По сердцу пришлась она и бушуевским старикам своим общительным нравом, учтивостью и повадками. Егор Павлович и Агафьевна принимали Дашу как невестку и всячески поддерживали в ней веру в возвращение Федора.
В отличие от Даши, Настя не очень-то унывала в разлуке со своим женихом. Нельзя было сказать, что она не любила Сашку. Но любовь ее к нему была совсем не такой, как у Даши к Федору. Даша не Любила говорить о своей душевной неурядице даже с Настей и свою глухую тоску по Федору ревниво таила в себе. Настя, наоборот, не умела ничего скрывать от своей подруги – ни дурного, ни хорошего настроения, которое, кстати сказать, менялось у нее ежечасно. Но, несмотря на все это, девушки привязались друг к другу.
Между тем видеться им удавалось редко, особенно в летнюю пору. Как и Даша, Настя тоже пропадала теперь с весны до осени в поле. Старик, растеряв последних своих сынов, не хотел допускать до развала пошатнувшееся за последние годы свое хозяйство и всеми правдами и неправдами тянулся за одностаничниками Ермаковского края, засевая каждую весну по десяти десятин яровой пшеницы. Прихватить на летнюю пору работника Егор Павлович не решался, надеясь как-нибудь выехать с грехом пополам на плечах снохи, возмужавшей дочери и подросшего старшего внучка. И старик в расчетах своих не ошибся – управлялся с пашней своей семьей, как там ни ворчала сноха и ни брыкалась дочка. Нелегко было им, конечно, целое лето в степи. Старик это понимал – не бабье дело за плугом ходить! Но деться было некуда, приходилось мириться.
Не до праздной девичьей жизни было в летнюю пору обеим подружкам, и вся надежда у них была на зимние праздники, на святки, когда на целые две недели заваливалась Даша в станицу. Золотая это была пора для девушек – святки! Яркие, как день, морозные лунные вечера. Гадания на кольцах, на картах и зеркалах. Озорные песни, пляски ряженых. Хохот бубенчиков в метельной ночи на чьей-то залетной тройке… Очутившись в такую пору в доме Бушуевых, Даша не узнавала сама себя. Рядом со своей сверстницей, шумной, беспокойной и озорной подружкой, чувствовала и она себя такой же беззаботной, озорной и счастливой, какой была в юности. Вдоволь надурачившись и нахохотавшись за день, они проводили длинные зимние вечера в гаданьях о суженых, а ночи – в бесконечных разговорах все об одном, все о том же – о своих женихах.
– Никуда они от нас не денутся – ни твой и ни мой. Оба будут наши,– убежденно твердила Настя.
– Твой что. Войне конец – и вы под венец. А вот насчет моего – бабушка надвое сказала.,.– говорила со вздохом Даша.
– Ну нет, Дашенька. Про Федю никакая бабушка надвое не скажет. Уж я-то его знаю. Твой он до гробовой доски. А вот на моего вертопраха надежда худая.
– Здравствуйте, я вас не узнала!– насмешливо откликалась Даша, поражаясь непостоянству своей подружки.– То никуда не денется – мой. А то вдруг – надежда худая. Прямо семь пятниц на дню у тебя, Наська.
– Нарвись-ка бы ты на такого варнака, как мой, у тебя бы их было все десять.
– С ума ты сошла, клеветать на парня такое?! Ведь он без ума от тебя. Сама же ты говорила.
– Мало ли што я говорю вгорячах…
– Все-таки надо же знать и меру.
– Не учи. Знаю. Нынче он, подлец, от меня без ума, а завтра от другой без памяти…
– Откуда ты это взяла? Письма-то звон какие чуть не каждый день от него получаешь – зачитаешься!
– Мало ли што можно в письмах-то наплести! Он и словесно, бывало, меня заговаривал – голова кружилась.
– Стало быть, любит, вот и заговаривал.
– Может, и так. Отрицать не стану,– неожиданно соглашалась Настя.
– А вот я от Феди и весточки не дождусь,– с горьким вздохом шептала, лежа рядом с подружкой, Даша.
– Придет время – дождешься, – уверяла Настя. Два года жду…
– Это правда. Ты терпеливая. На мой характер – ни в жизнь бы не выдержала.
– А што бы ты сделала?
– Плюнула бы и ногой растерла…
– Как тебе не стыдно.
– А што? Попробуй-ка мне Сашка не написать за месяц ни одного письма – только он меня тогда и видел!
– Опять двадцать пять. Ты ведь только што тараторила, што не в письмах дело.
– И сейчас говорю – не в письмах. А посмей-ка он перестать мне писать – поминай тогда, как меня звали.
– Што бы ты сделала?
– Што? Взамуж бы вышла.
– Это за кого же?
– А кто подвернется…
– Страм слушать, што ты говоришь.
– Не любо – не слушай.
– Да ты не сделаешь так никогда. Болтаешь только бог знает што. А коснись дела – вроде меня притихнешь.
– Ну, извиняй. Худо ты меня, Дашенька, знаешь.
– Может быть…
– Я непокорная.
– Это другой разговор.
– Отчего же другой? Тот самый.
– Не говори, ты его любишь.
– Не знаю.
– Зачем же тогда под венец собиралась?
– Речей колдовских наслушалась. Не только под венец – в огонь и в воду тогда бы за ним пошла.
– А теперь?
– Теперь бы подумала.
– Переболело?
– Вроде этого. Цену себе узнала.
– Это кто же тебе ее набил?
– Нашлись такие…
– Не знаю, зачем они тебе.
– На всякий случай… И тебе бы обзавестись не мешало. Хочешь – найду?
– Нет уж, спасибо, Настенька. С меня одного хватит.
– Вот и зря. Они там без нас небось не зевают.
– Ты хоть бы брата-то тут не пристегивала…
– А чем мой брат лучше Сашки? Все они одинаковы,– заключала Настя, и нельзя было понять – в шутку она говорила все это или серьезно.
Несмотря на все эти, часто крайне противоречивые и не совсем приятные для Даши рассуждения Насти, Даша любила подружку и невольно тянулась к ней, с удовольствием болтая и иногда даже незлобно переругиваясь с ней в минуту откровенного разговора о дорогих и близких их сердцу людях, разлуку с которыми переживали, видать, обе они нелегко, хотя Настя и не признавалась в этом.
В канун троицы – в день годовщины помолвки Даши с Федором – Даша, вернувшись с пашни на хутор, решила пойти утром в станицу, чтобы провести эти памятные для нее праздники в гостеприимном бушуевском доме вместе с Настей. Вытопив баню, перемыв все полы и наведя в доме порядок, Даша, посвежевшая и похорошевшая после легкого банного пара, долго сидела в этот вечер перед потускневшим от времени зеркалом в старомодной оправе. Строгое, смуглое от степного загара лицо смотрело на Дашу из зеркальной полумглы, неярко озаренной трепетным пламенем лампы. Она не узнала своих больших и печальных глаз, неподвижно и испытующе смотревших на нее в упор. И только мимолетная и неясная, как намек, улыбка убедила Дашу, что это было действительно ее, а не чужое, незнакомое ей лицо. Присмотревшись к своему отражению в зеркале и не переставая думать в эти минуты о. Федоре, решила Даша принарядиться сейчас в то самое кубовое платье с оборками и черной кружевной пелериной, в котором два года тому назад встретила она Федора вот в этой самой горнице, будучи просватанной за него невестой.
Нарядившись в любимое платье, Даша вновь присмотрелась к своему отражению в зеркале и ощутила при этом такое тревожное волнение, какое испытывала она когда-то в ожидании запоздалого появления Федора. Даша присела у распахнутых настежь створок и притихла, прислушиваясь к ночной тишине. Вдруг откуда-то издалека донесся глухой дробный стук конских копыт, и у Даши замерло сердце. Охваченная необъяснимым внутренним трепетом, сидела она у окна, затаив дыхание, жадно прислушиваясь к нарастающему конскому топоту. Как все было похоже сейчас на те далекие вешние вечера, когда совершал свои верховые набеги на хутор Федор, и Даша, готовая к воровским свиданиям, вот так же сидела, внутренне холодея, ни жива ни мертва, у этого мог окна. Такой же литой из чистого золота месяц стоял высоко над хутором. Так же чуть слышно шелестела листва на тополе. Так же неярко поблескивал под месяцем позолотой крест хуторской колокольни. И с такой же тревогой и болью отзывалось девичье сердце на глухой стук конских копыт. Даше даже страшно было сию минуту вспоминать и думать об этом. Но конский топот все приближался, и Даша, вдруг ясно увидев вырвавшегося из-за угла всадника, на мгновение закрыла глаза.
Осадив коня у калитки немировского дома и лихо спешившись, всадник быстро вбежал на крылечко и негромко, но требовательно постучал в дверь. Не помня себя от волнения, Даша выскочила из горницы, нащупывая в потемках крючок, громко спросила:
– Кто?
– Открывай, открывай поживее, Принимай гостей,– проззучал за дверью девичий голос, и Даша узнала Настю.
– Боже мой, как ты меня напугала…– сказала упавшим голосом Даша.
– Здрасте. Чем это?– удивленно и весело проговорила Настя, входя в горницу.
– Сама не знаю. Услышала конский топот, и будто во мне оборвалось что-то…
– Правильно сердце твое вещует,– многозначительно улыбаясь, сказала Настя совсем непонятные в эту минуту для Даши слова. И бегло окинув удивленным взглядом растерянно улыбающуюся подружку, Настя спросила:– С чего это ты такая нарядная седни?
– Сама не знаю…– смущенно ответила Даша, чувствуя себя неловко в нарядном платье перед буднично одетой, запыленной подругой.
– Вот и хорошо, что вырядилась. Тебе кубовый цвет к лицу,– сказала Настя, строго оглядывая с ног до головы Дашу.
– Да ты садись. Я сейчас разденусь. Самовар у нас ишо горячий…– засуетилась Даша и в самом деле начала торопливо расстегивать платье.
Но Настя остановила ее:
– Не снимай, не надо.
– Ну, нет. Дай разденусь. Не именинница.
– Она самая и есть,– сказала, загадочно улыбаясь, Настя.
– Это как так?
– Очень просто. Мало лучшее платье надеть. А еще и сплясать придется.
– Ишо новости. С каких это радостей?
– Если я говорю – пляши, стало быть, стоит.
– Ты все што-нибудь выдумаешь…
– Значит, не будешь? Ну и ладно. Я не гордая. Подожду,– сказала с притворным спокойствием Настя, усаживаясь на стул.
Между тем Даша, похолодев от догадки, едва сдержалась от желания спросить Настю, уж не прискакала ли она к ней на ночь глядя с какой-нибудь доброй вестью от Федора. Но это было так дорого для нее и так невероятно, что она не посмела заикнуться об этом. Однако Настя, почувствовав явное волнение подруги, вдруг бросилась к ней с раскинутыми руками и, крепко обняв ее за плечи, еще крепче поцеловала в губы, в щеки, в виски, а затем, отпрянув от нее, извлекла в мгновенье ока из-за выреза будничной ситцевой кофточки сложенный вдвое измятый конверт и, протянув его Даше, сказала:
– Дождалась-таки. Получай, дура…
И Даша, вырвав конверт из рук подруги, уже не расспрашивая больше ее ни о чем, зажгла дрожащими руками лампу и тотчас же погрузилась в чтение письма. Читала она его быстро, не вдумываясь в смысл прочитанного, не понимая, что к чему. Да это, в сущности, для нее сию минуту и не имело никакого значения. Важно было одно: что письмо это было от Федора, что он, стало быть, жив, что он не забыл о ней.
А Федор писал:
«Здравствуй, здравствуй, моя любезная Дашенька. Добрый день и веселый час. Посылаю тебе я во первых строках этого письма мой душевный поклон и сердечное мое пожелание успеха в делах золотых рук ваших. А еще сообщаю, что Я, ПО милости бога, нахожусь в полном здоровье и равном благополучии, чего и тебе желаю, Дашенька. Вот уже минуло целых два года, как судьба разлучила нас. Много воды утекло с той поры. Много дорог было мною исхожено. Много людей перевидел я и кое-чему научился. И про многое можно было навеки забыть на чужой неласковой стороне. Одного только не мог я забыть нигде и никогда – тебя, любезная сердцу моему подруженька. Только и в мыслях что ты одна, и твоя приятная красота, и твои белые руки. Если бог приведет и мы увидимся снова, поклянусь я тебе, что никакая сила не разлучит тогда нас и не устрашит меня никакая злая судьбе, коли будешь ты неразлучно со мной, моя нареченная в жизни подруга. Как я живу – об этом не опишешь пером. А порассказать будет што при нашем, надеюсь, скором свиданье. Одно скажу по секрету. Выручил меня из беды, да и верных моих товарищей, незабвенный один мой друг. В письменном виде фамилии его назвать не могу – сама небось там догадаешься. Завел он нас в надежное место и виды на жительство вы-правил через своих друзей-товарищей по всей форме – не подкопаешься. И на хорошее место определил. И уму-разуму набраться всем нам помог за эти годы. Словом, живется не так уж худо. Одна беда – не нахожу себе места я здесь, на чужой стороне, без тебя, любезная моя Дашенька, и ни средь белого дня, ни в глухую матушку-ночь не перестаю я думать и гадать о тебе. Только сниться ты стала мне почему-то реже, чем прежде. Но и это, говорят добрые люди, к добру, а не к худу. Реже видишь во сне – скорей свидишься наяву. Это – верная примета. А еще по секрету тебе напишу, что не так уж долго осталось жить нам с тобой в тоске и разлуке. Может, скоро спешусь я с своего боевого коня темной ночью у вашего дома и постучусь, как бывало, в твое окошко. Далеко мы теперь друг от друга, родная моя казачка, да все степные пути-дороги ведут с чужбины к тебе, и не объехать мне в жизни, не обойти дорогого мне хутора и заветного твоего крылечка. Поклонись от меня до сырой земли своим батюшке с матушкой и той самой мельнице, у которой прощались мы с тобой перед долгой нашей разлукой в лихое лето.
Остаюсь со своими горькими мыслями о тебе, любезная моя. Известный тебе друг до могилы.
Федор Бушуев».
Даша трижды перечитала письмо, и слова его прозвучали в ее ушах, как музыка, которую не понимаешь, а лишь чувствуешь. И она, так и не вдумавшись в смысл написанного, почти физически ощутила через эти строки близость живого, бесконечно дорогого ей Федора с его порывистым дыханием, когда он прикасался к ее вискам своими губами, с его сильными, требовательными руками, когда он обнимал ее в темноте…
Пока Даша перечитывала письмо, Настя сидела, присмирев, в сторонке, ничем не выдавая своего присутствия. Она понимала, что творилось сейчас на душе у подруги, и не хотела докучать ей никакими вопросами. Да и расспрашивать было не о чем – все было ясно. Может быть, впервые за эти два года – если не за всю жизнь – была сейчас по-настоящему счастлива девушка, державшая в своих тонких и трепетных руках это дорогое для нее письмо, о котором она и мечтать-то даже за последнее время боялась из суеверного страха не получить его в таком случае никогда.
Ничего не сказала Настя подруге даже и тогда, когда Даша, перечитав письмо трижды, уронила на руки светловолосую голову и впервые за долгие два года разлуки с Федором дала полную волю своим беззвучным, жарким слезам. Плакала Даша долго, безутешно и тихо. А Настя, стоя с ней рядом, молча гладила ее по голове, как ребенка, задумчиво глядя на шафранное пламя лампы.
Казачий круг пяти линейных станиц, собравшийся в средине лета 1916 года, утвердил Егора Павловича Бушуева и Луку Иванова депутатами для поездки в Петроград с петицией, адресованной на имя Николая II. Но выезд депутатов задержался. Немалых трудов стоило станичным атаманам собрать по открытым подписным листам необходимые средства, предназначенные на расходы, связанные с далеким путешествием двух казаков, принявших на свои плечи, согласно воле казачьего круга, столь нелегкое бремя.
С одной стороны, отъезд депутатов задерживало отсутствие средств, с другой – неотложные дела по хозяйству. Надо было помочь семьям управиться с уборкой незавидного в этот год урожая, с приведением в порядок полуразвалившихся за эти годы дворов, с заготовкой запасов на зиму сена и топлива. Егор Павлович не очень-то досадовал на затянувшийся срок отъезда и втайне был очень доволен, что только к декабрю, когда уже установился прочный санный путь, им с Лукой было объявлено в станичном правлении, что необходимые средства для их поездки собраны, и все надлежащие документы выправлены, и они могут, благословясь, отправляться в дорогу.
Совсем стало пусто, буднично, тихо в доме Бушуевых после отъезда Егора Павловича. Только и радости теперь было у старой Агафьевны что оставшиеся ей на поглядку подросшие внуки – Тараска и Силка. Оба они были теперь уже школьниками. Тараска перешел с похвальной грамотой в третий класс церковноприходского училища, Силка сел нынешней зимой в первое отделение. Он уже бойко читал теперь по вечерам букварь, умиляя и удивляя бабку. А Тараска, загрустив без деда, решил, вдоволь наревевшись после проводов Егора Павловича в Петроград, писать собственный дневник. И вечерами, проводив непоседу Настю на посиделки, а Варвару к соседям, где она пряла с солдатками шерсть или вязала чулки, Агафьевна оставалась с внучатами.
И бушуевские внучата, и сама Агафьевна любили эти тихие зимние вечера. В чистой, жарко натопленной горнице, освещенной лампой, было покойно и уютно. Где-то в кухне под печкой дремотно и мирно сверлил тишину сверчок. За окошком шумела ранняя зимняя вьюга. Тонко и жалобно завывал ветер в печной трубе.
Силка, примостившись рядом с бабушкой на сундуке, рассказывал ей наизусть стихотворение про козу. Бабка, тихо позванивая стальными спицами, продолжала свою обычную вечернюю работу – вязала чулок и слушала внука со строгим, почти сердитым выражением лица. Слушая меньшего внука, бабка поглядывала и на Тараску, занятого в это время сочинением своего дневника. Облокотись на стол, поминутно перекидывая свою вихрастую голову с одного плеча на другое, Тараска писал в тетрадке неуверенным, шатким почерком, с особенным старанием выводя заглавные буквы:
«Мой дневник 1916 года. С чего начинать, не знаю. Дед наш уехал. У нас очень скучно. Праздник покров прошел. Снег выпал. Почерк у меня хороший. Учительница Раиса Михайловна поставила мне тройку. Никак не могу выучить, сколько будет семь у семь. 7 х 7 = 49. Видел во сне собаку. Мохнатая. Белая. Подает лапу. Хорошо, кабы это было взаправду! Я собак люблю и деда нашего тоже. Дед поехал в город Петроград в гости к царю. Царь, царь – сирота! Открывай нам ворота ключиком-замочком, шелковым платочком! Кобыла наша ожеребилась. Жеребенок – не поймешь какой масти. То ли – гнедой, то ли – чалый. Хорошо, кабы чалый. С ремнем на спине. Дед говорил – чалый конь к счастью. Силка – чудак. Он совсем позабыл, што у нас был батя. Скоро будет ярманка. У меня есть пятак. Куплю Силке пряник. А я лучше прокачусь на карусели. Эх, скорее бы приехал дед и привез бы мне тетрадки в косую линейку. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. Дров мы с дедом навозили, топи – не хочу. Раиса Михайловна говорит, что в дневник надо записывать всякую погоду. Записываю. Погода хорошая. Буран. Метель. В горнице у нас тепло. Шарику тоже не холодно. Я запустил его кочевать в сени. Ну, пока все. Забыл только про письмо дяди Феди запись произвести. Чернила очень красивые, а почерк мелкий. Вот бы мне научиться писать таким почерком! Силка опять уснул на коленях у бабки. Бабка на той же точке. Спит и чулок вяжет. Я спать не хочу. Завтра, живой буду, напишу побольше. 7 х 7 = 49».
Отправив своих депутатов в далекий Петроград, станичники, как и прежде, проводили эти длинные зимние вечера в своем излюбленном месте – станичной казарме. Примостившись на лавках, у печки, вокруг длинного, залитого чернилами писарского стола, старики, забываясь в полудремоте, слушали сквозь сон монотонный голос золотушного писаря Саньки Скалкина, перечитывавшего вслух газетные сводки и сообщения военных корреспондентов о положении в действующей армии. Слушали писаря терпеливо и равнодушно. Газетам они не верили: «Когда же в газетах правду писали?» Не верили, но все-таки слушали. Стариков занимало не столько то, о чем писалось в газетах, сколько – как писалось! Уж больно бойко, лихо и складно умели описывать дошлые люди победоносные битвы с неприятелем!
Когда умолкал писарь, заводили разговор бодрствующие старики. Разговор этот возникал зачастую вне всякой связи с тем, о чем писалось в газете.
Агафон Бой-баба жаловался:
– Рановато нынче зима бабахнула, воспода станишники. Я даже дворишко закрыть не успел.
– А когда ты успевал-то? У тебя ить сроду двор-то небом крыт, белым светом горожен,– ввертывал фон-баром Пикушкин.
– Одно слово – соколинец. Не хозяйское нутро,– басил из угла школьный попечитель Корней Ватутин.
– Дело не в нутре, воспода старички, а в нехватках,– огрызался, вступаясь за Агафона, Кирька Караулов.
– Вот и именно. Хорошо вам, ермаковцам, нашего брата корить, когда вы чужими руками огонь загребаете.
– А ить это тоже надо уметь – загребать жар чужими руками!– нагловато ухмыляясь, говорил фон-барон.
– Спору нет – надо уметь. Да не все, брат, такие умелыцики. Не все такие натрыжные…
А у притулившихся около печки георгиевских кавалеров был свой разговор. Передремнув, деды запаливали свои самодельные трубки и, пока курили, поддерживали друг друга мирной беседой.
– Слыхал, сослуживец, как супостаты песни поют?– спрашивал деда Арефия дед Конотоп.
– Ась? Это ты про пленных-то? Про ерманцев?
– Про них. Про чехов, стало быть…
– Как же, как же, слышал. Привелось. Как-то ле-тось вышел я в крепость, а они, супостаты-то, колодец там рыли. Дело было к вечеру. Присел я отдохнуть на редут. Смотрю – у них перекур. Сели они в кружок, задымили своими сигарками да как завозгудают не нашими голосами.
– Иноземная песня – не нашей чета. И слова не те. И мотив какой-то тощий, сумный…
– Свысока поют.
– Правильно. У их ить у всех голоса-то бабьи – на тонкой ноте.
– А кака душа, така и песня. Откуда им басовитым-то быть?! Тонкая нация.
– Правильно. Не наш брат. Это ить мы рявкнем – лампы погаснут.
– Што там говорить, сослуживец. Особливо казаки. Скрозь луженые глотки. Мы ить при покорении Хивинского царства одними песнями басурманов в дрожь вгоняли…
– Знам. Было дело. Певали…
– А бывалы-то люди сказывают, сослуживец, што в городе Санкт-Петербурге есть такой запевала из нашего брата, што как рявкнет – стекла в дворцовых окошках лопаются.
– Это я тоже слышал. Фамилий ему – Шаляпин Федор Иваныч. Русский мужик. Грузчик. Отпетая душа.
– А я слышал, будто он из казаков. С Горькой линии.
– Вполне возможно и это. Скорее всего, так, сослуживец. Не иначе в лейб-гвардии служил.
– Так говорят. Гвардеец. Сотенным запевалой числился. А теперь ему за одну песню графья и графини по миллиону платят.
– Дива мало. За душевную песню не только миллион, а жизнь отдашь.
– Ишо бы. Песня – она ить хмельнее вина… Я вот про многие походы забыл и енералов теперь уж не всех припомню. А какие песни, бывало, певали в строю да на биваках – все скрозь наизусть зазубрил. Хоть и голос-то у меня уж не тот – выноса прежнего нету. А мотив любой воинской песни и по сей день звенит в ушах. И как вспомнишь – сердце замрет, голова кружится…
И кавалеры, объятые воспоминаниями о былых походах и песнях, умолкали, полусмежив усталые, старчески тусклые глаза, и вновь погружались в сладкую дремоту, согревая свои старые кости у жарко натопленной печки.
Замолкали мало-помалу разговоры в казарме. Дремали пересидевшие за полночь станичники. И только немногие из тех, кого не сгибала еще в три погибели старость и в ком жила еще, как в молодости, озорная душа, собравшись в кружок возле известного в станице острослова и побасенщика Спирьки Саргаулова, слушали его очередной рассказ – полковую побывальщину.