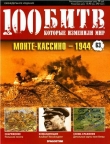Текст книги "Горькая линия"
Автор книги: Иван Шухов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
Простившись поочередно со всеми родными, Федор лихо вскочил в седло. Агафьевна, задыхаясь от глухих, похожих на смех рыданий, крепко уцепившись за вдетую в стремя ногу сына, удерживала его. И напрасно геройски крепившийся от застивших очи горьких слез Егор Павлович пытался уговором и силой оторвать от сыновнего стремени неразумную старуху. Ничего не хотела ни видеть, ни слышать она. Посиневшие от напряжения узловатые пальцы ее прочно держали стремя, а страдальчески искривленные губы жадно целовали и пыльный сыновний сапог, и холодную неласковую сталь стремени, и тяжелую пряжку подпруги…
Даша, безмолвно стоявшая в сторонке, не могла теперь уже пробиться к Федору сквозь плотно окольцевавшую его коня толпу родственников. Федор грустно и жалко улыбнулся ей и махнул рукой.
Грянул последний требовательный звук полковой трубы, строевик Федора заржал, у Даши похолодело и остановилось сердце.
Все было кончено.
Ослабевшие руки Агафьевны выпустили сыновнее стремя, и, обессиленная, она уже без рыданий упала на руки снохи Варвары.
Федор, бросив последний взгляд на Дашу, пришпорил коня.
Через четверть часа эшелона уже не было видно. И только оранжевое облако пыли долго еще висело над пустынной порозовевшей от заката дорогой, да все глуше и печальнее звучала далекая, затерявшаяся в предсумеречном степном просторе казачья песня:
Засвистали в поле казаченыки
В поход с полуночи,
Заплакала наша Марусенька
Свои ясны очи…
Ты не плачь, не плачь, наша Маруся,
Не плачь, не журися —
За своего боевого друга
Богу помолися…
Ты не плачь, не плачь, наша подружка,—
Мы возьмем тебя с собою,
Мы возьмем тебя с собою,
Ох, да только не женою,
Эх, да только не женою
Назовем тебя ль, наша подружка,
А родной сестрою!
Меркла слабо озаренная последними вспышками заката убегающая в степной простор дорога. А женщины долго еще бежали за уходящим в степь эшелоном…
Спустя пять дней эшелон казаков под командованием есаула Стрепетова прибыл к месту сбора всех девяти полков, сформированных на Горькой линии. Казаки расположились биваками в бараках и походных палатках на берегу степной речки Чаглинки, вблизи города Кокчетава. Сюда же начали подходить эшелоны других линейных станиц: здесь им предстояло переформироваться в полк, пополнить недостающее холодное оружие и обмундирование, а одновременно и провести несколько строевых учений.
В воскресенье, тридцатого июля, в день, свободный от строевых занятий, казаки отдыхали. Одни резались в карты, другие валялись по палаткам, отводили душу в песнях, третьи просто шатались по лагерю, томясь тоской и бездельем,
В этот день Федор Бушуев с утра не находил себе места.
Проснувшись поутру и лежа еще в палатке, он все старался припомнить сон, наполнивший его какой-то непонятной тревогой. Но вспомнить ничего не мог, кроме того, что снилась Даша. Он долго лежал, не открывая полусмеженных век, и то с грустью затаенно любовался привидевшимся ему обликом Даши, то с тоской вспоминал плачущую мать, которую никак не могли оторвать от стремени его коня, то всплывала в его памяти толпа ринувшихся за эшелоном женщин, среди которых он все старался различить Дашу…
В таком тревожном состоянии провел Федор весь день, слоняясь по лагерю от палатки к палатке.
Часу в пятом вечера, когда Федор стоял с группой одностаничников у передней линейки, из-за бараков вылетел дорогой фаэтон, запряженный парой великолепных рысаков светло-серой масти. Толпа казаков шарахнулась в стороны, дала фаэтону дорогу. В фаэтоне сидели два подвыпивших офицера. Один из них – сотник Скуратов, ловко выпрыгнув на ходу, обвел мутным взором казаков и, остановив свой взгляд на Федоре, крикнул:
– Как стоишь, сукин сын, перед офицером? Федор вытянулся в струнку.
– Почему мне чести не отдал?– понизив голос, спросил Скуратов, приблизившись к Федору.
– Виноват, ваше благородие,– глухо проговорил Федор.
– Что значит – виноват?!
– Виноват. Не заметил, ваше благородие.
– Как ты сказал? Офицера, своего командира сотни, не заметил?! Ты скажи лучше прямо – не пожелал замечать!
Федор молчал. Лицо строгое, сосредоточенное. И только сурово сомкнутые густые брови, мертвенная белизна щек да судорожный излом губ выдавали его смятение, обиду и гнев.
– Отвечай, когда тебя спрашивает офицер!– почему-то вполголоса проговорил, бледнея, Скуратов и, не дав Федору вымолвить слова, развернулся и наотмашь ударил его по лицу.
Пошатнувшийся от удара Федор закусил губу и на секунду прикрыл глаза. Вокруг стало так тихо, что было слышно, как заверещал в сухой траве кузнечик. И вдруг казаки, до сего неподвижно и молча наблюдавшие всю эту сцену, ринулись к Федору и в мгновение ока замкнули его и сотника в глухое кольцо.
– Это што же такое, братцы!– крикнул полурыдающим голосом Андрей Прахов.– Мы идем кровь за родину проливать, а они нашего брата ни за што ни про што по морде лупить будут!
– Как ни за што ни про што?! Ведь это он, сволочь, за коня Федьку ударил!– сказал Пашка Сучок.
И слова Пашки потонули в гневных выкриках казаков:
– Што ты на него смотришь, станичник, дай ему по уху!
– Бей его!
– Полыхни его шашкой – и вся недолга…
– Правильно. Давай я ему, варнаку, заеду…
Бледный, как полотно, протрезвевший Скуратов, затравленно оглядевшись вокруг, вдруг выхватил из кармана браунинг, изогнувшись, как для прыжка, бросился в сторону, сбил ударом плеча с ног Сашку Неклюдова и, прорвав кольцо казаков, пошел наутек к стоявшему в стороне офицерскому бараку.
Казаки с диким воем и улюлюканьем ринулись за сотником. Но Скуратов успел вскочить в барак и захлопнуть за собой на крюк тяжелую дверь. Казаки бросились было к окошку. Но в это мгновенье прозвучали три беглых револьверных выстрела – сотник стрелял из окна,– и раненный в ногу Сашка Неклюдов присел, обронив свой клинок.
Не помня уже себя от ярости, казаки, несмотря на револьверную пальбу сотника, начали бить оконные стекла, рубить клинками косяки и рамы, пытаясь ворваться в барак.
Вдруг кто-то крикнул:
– Давайте, братцы, сена с коновязи! Зажигай!
– Зажигай! Изжарим его живьем, гадюку!
– Так точно, ребята. В огонь его!
– В огонь!
– В огонь подлеца!
Все это произошло в одно мгновенье. Небольшой офицерский барак, обложенный охапками сухого сена, запылал со всех сторон, а казаки с обнаженными клинками столпились у выхода.
Между тем Аркадий Скуратов продолжал еще стрелять то в одно, то в другое окошко, убив при этом казака станицы Звериноголовской Зиновия Синельникова и ранив еще двух второотдельских казаков. Но когда бушующее пламя пожара прорвалось внутрь барака, Скуратов выскочил с браунингом в руках в одно из окошек и, почему-то пригнувшись, побежал в степь.
Толпа казаков, высоко занеся над головами клинки, бросилась вслед за сотником. Они бежали, настигая Скуратова, в том безмолвном и страшном ожесточении, какое мыслимо только при рукопашной атаке.
Не чуя под ногами земли, Федор бежал с обнаженным клинком впереди. Наконец настигнув Скуратова, он яростно простонал, больно прикусив губу, сделал последним усилием воли еще один рывок вперед и стремительным ударом клинка сбил с ног сотника. В сущности, Федор не знал и не помнил потом – задел ли он своим клинком сотника, или тот рухнул снопом в траву, уклоняясь от его сабельного удара.
Но как бы там ни было, а через мгновение все было кончено. Казаки изрубили сотника в куски. Ни один из них позднее не мог сказать, чей удар был смертельным для сотника.
Офицеры казачьего полка, кутившие по случаю воскресного дня по шинкам и харчевням Кокчетавской станицы, узнав об убийстве Скуратова взбунтовавшимися казаками, притихли; и ни один из них, за исключением есаула Стрепетова, не рискнул явиться в тот день в полк. Перепуганный атаман второго военного отдела войсковой старшина Игнатий Шмонин тотчас же шифром телеграфировал наместнику Степного края генерал-губернатору Сухомлинову о начавшемся на Горькой линии бунте среди мобилизованных казаков и об убийстве сотника Скуратова, умоляя атамана о немедленной высылке войск.
Между тем есаул Стрепетов, проводивший этот воскресный день в доме Игнатия Шмонина за игрой в винт, узнав о случившемся, тотчас же собрался в полк. Несмотря на уговоры войскового старшины, истеричных дам и всех присутствовавших в доме Шмонина армейских офицеров, есаул приказал ординарцу подать коня. Алексей Алексеевич предусмотрительно снял с себя серебряную офицерскую шпагу и вручил совсем потерявшему голову атаману отдела далее собственный пистолет – полуигрушечный «смит-вессон».
– Вы с ума сошли, есаул! Как же можно являться в лагерь сейчас одному да еще без оружия?!
– Ничего. Ничего. Бог милостив, господин войсковой старшина. А уж ехать туда сейчас, так только без оружия…– заявил Стрепетов.
– Дело ваше, есаул. Но лично я не рискнул бы…
– Насчет вас – ничего не скажу. За себя – отвечаю,– сказал Стрепетов. И он, откозыряв столпившимся вокруг него во дворе офицерам и почтительно откланявшись дамам, ловко махнул в седло и поскакал в сопровождении своего ординарца в лагерь.
В лагере царил обычный порядок. Решительно ничего не говорило здесь о только что разыгравшейся драме. Все строевые кони полка, как и всегда перед вечером, находились у коновязей, и казаки хлопотали с раздачей своим лошадям полученного от каптенармуса овса. По-прежнему стоял вблизи передней линейки навытяжку часовой, охраняющий полковое знамя. Мирно дымились походные кухни. Незлобно переругивались, как обычно, повара, готовившие нехитрый армейский ужин. Около взвода казаков, толпившихся на плацу, потешались над приблудным козлом, злым как черт и почему-то не выносившим свиста. Казаки свистели, поддразнивая козла, а он, злобно потряхивая бородкой, гонялся за ними.
Все здесь было по-прежнему. И только чуть дымящиеся груды пепелища на месте бывшего офицерского барака свидетельствовали о разыгравшемся здесь сегодня трагическом событии. Ко всему привык есаул Стрепетов за многие годы армейской службы. Но и его, тертого офицера, поразило необыкновенное, будничное спокойствие лагеря. Стрепетов не понимал, было ли оно выражением чего-то такого, что называется в медицине шоком, или же, наоборот, непритворным душевным равновесием этих людей, инстинктивно убежденных в безгрешности совершенного ими поступка. «Удивительное, удивительное дело – русский человек!»– подумал Стрепетов, отвечая легким взлетом правой руки к виску на приветствия встречных казаков, как всегда, открыто, простодушно, весело поглядывавших при этом на есаула.
Спешившись около своей палатки, есаул вызвал дежурного по лагерю вахмистра Катанаева и, вопреки обыкновению не приняв от него устного рапорта, приказал тотчас же выстроить полк в пешем строю на пустынном степном плацу, вблизи передней линейки.
Через пять минут весь полк, поднятый звуком сигнальной трубы, стоял в строю по команде «смирно», и есаул, выйдя к казакам, поздоровался с ними.
– Здорово, братцы!– прозвучал строже и грознее обычного низкий грудной голос есаула.
– Здравия желаем, ваше высокоблагородие!– дружно грянули казаки все с тем же лихим душевным порывом, с каким они отвечали на приветствия только этого офицера.
Выдержав паузу, есаул пристально присмотрелся к развернутому фронту полка и отдал команду:
– Дежурный по лагерю вахмистр Катанаев – ко мне!
И Катанаев, на рысях подбежавший к есаулу с правого фланга, замер, молодцевато стукнув подборами и отдав честь.
– Рапортуйте, вахмистр!– коротко приказал есаул.
– За время моего дежурства, ваше высокоблагородие,– начал при гробовой тишине вахмистр,– в лагере произошел несчастный случай, в результате которого покойным сотником Скуратовым убит наповал посредством выстрела из револьвера казак второй сотни и ранено трое нижних чинов. Сотник Скуратов зарублен в полуверсте от данного лагеря неизвестными казаками, а офицерский барак сожжен…
– Все?– спросил есаул.
– Так точно, ваше высокоблагородие.
– Можешь идти,– сухо сказал есаул. И не спросив затем ни у дежурного по лагерю, ни у самих казаков о подробностях этого чрезвычайного события, он отдал команду «вольно», приказал распустить казаков по казармам, а сам удалился в свой шатер.
Разойдясь по своим казармам и по палаткам, казаки притихли. Только сейчас, кажется, начали понимать они в полном объеме трагические события этого дня и задумываться над последствиями, которые неизбежно повлечет за собою этот из ряда вон выходящий случай.
Наступила тревожная ночь. Она была аспидно-тем-ной и ветреной. Полыхали вдали голубые зарницы молний. Далекие грозовые удары звучали, как нарастающая артиллерийская подготовка перед приближением беглого и навесного огня.
Казаки не спали. Курили. Вполголоса переговаривались.
– Теперь – каюк, братцы, нашему полку.
– Это так точно. Отказаковали…
– Прямым маршем – в рай.
– Ну, всех не отправят…
– Дожидайся – помилуют.
– Помилуют не помилуют, а коли стена стеной встанем, не скоро к нам подкопаешься.
– Это как же так?
– Очень просто. Не выдавать им ребят – и баста.
– Резон, сослуживец. Один – за всех. Все – за одного.
– Правильно. Молчок – как воды в рот набрали.
– А што тут молчать? Не мы – он, шкура, начал.
– Пойди-ка докажи им теперь…
– Нет, братцы, стеной станем – не прошибут.
– Под пулеметами не настоишь…
– Забуровил – под пулеметами! Кто это тебе в казаков стрелять станет?!
– Те самые, в кого мы прежде стреляли…
– Брось каркать к ночи…
– Вот именно.
– Каркай не каркай, а маршрут один – поминай теперь, как нашего брата звали.
– Ну, это ишо посмотрим.
– Все ясно как божий день. Недаром офицерье глаз не кажет – струсили.
– А есаул?
– Есаул – што. Есаул сам вместе с нами за нас в ответе.
– Так точно. Они и его под статью подведут – хоть стой, хоть падай.
– А он-то при чем? Брякнет тоже.
– При том, што душу имеет…
– Насчет души – это другое дело. Душевнее есаула командира во всем полку нету.
– Што правда, то правда, братцы. Вот уж на такого офицера ни у кого рука не подымется. Это тебе не Скуратов – покойна дыра,– туды ему и дорога!
Федор лежал на попоне, положив в изголовье седло, между Пашкой Сучком и Андреем Праховым, прислушиваясь к приглушенному говору однополчан. Он знал, что разговор этот ведется для простого самоутешения. Не такие дураки атаманы и генералы, чтобы не отыскать в полку одну мелкую душу, заставить ее выдать с головой правых и виноватых…
Федор все это понимал сейчас настолько трезво и ясно, что разговоры однополчан казались ему ребяческой забавой – не больше. Понимали это и Пашка с Андреем Праховым. О том же, как они будут выпутываться из всей этой заварухи, Федор и оба его сослуживца сейчас вовсе не думали, ибо это было вне их возможностей. Странное, обезоруживающее равнодушие овладело ими после всего пережитого. Словно все силы, всю волю, весь гнев разом отдали они за один взмах клинка, раскроившего бритый череп Скуратова. А сейчас вот неподвижно лежали на жесткой армейской попоне, и непривычная физическая усталость навалилась на них, сковав их тела и наполнив холодом сердца.
Между тем не спал в эту ночь и есаул Стрепетов в своей походной палатке. Набросив на плечи полевую шинель – его что-то знобило,– он долго сидел за столом, подперев подбородок руками и заглядевшись на трепетное пламя свечи. Его ординарец – вихрастый Санька Курташ – трижды напоминал ему о заваренном чае. Но есаул или не отвечал, или гнал его прочь. Просидев так около двух часов, есаул вдруг позвал ординарца и, приказав ему сесть против себя на складной брезентовый стульчик, вполголоса спросил:
– Слушай, братец, а не знаешь ли ты, чьих рук это дело с сотником?
– Никак нет. Помилуй бог, ваше высоко…
– Ну хорошо. Хорошо. Не божись. Верю,– перебил его есаул.– Впрочем, я этого от тебя не требую. Но дело вот в чем. Рано или поздно виновных найдут. Военно-полевой суд в таких делах крут на расправу… Словом, вот что, дружок. Валяй-ка сию минуту предупреди молодцов. Если не хотят под расстрел – пусть скроются. И немедля. А куда – это уж их дело.
Ординарец, изменившись в лице, хотел было что-то сказать есаулу – не то возразить в чем-то, не то сослаться на свое неведение. Но есаул повторил свои слова тоном приказания. Курташ, вскочив с походного стульчика, вытянулся во фронт.
– Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Будет исполнено,– и тотчас исчез из палатки.
Многое передумал, о многом припомнил есаул Стрепетов в эту тревожную бессонную ночь. Заслонив воспаленные глаза сухой горячей ладонью, он словно пристально вглядывался в минувшее. И как это часто бывает в минуты душевного напряжения, картины былого возникали, чередуясь, с необычайной яркостью. Омский кадетский корпус. Друзья-однокашники, узкий полулегальный товарищеский кружок под эгидой землячества и душа этого кружка рослый, широкоплечий кадет с веселыми глазами Валериан Куйбышев.
Не все тогдашние кадеты – члены этого кружка – ушли вслед за своим вожаком Валерианом в профессиональные революционеры. Не ушел за ним и Алексей Стрепетов. Однако, оставшись кадровым офицером в армии, он не утратил былой духовной связи с друзьями по корпусу. Впрочем, связь эта – с иными из них – была не только духовной. Так, с ушедшими вместе с Валерианом Куйбышевым в революционное подполье кадетскими воспитанниками – Сашей Виноградовым, Сергеем Рокотовым и Афанасием Елковым – Алексей Стрепетов не терял практически своих связей и поныне. Покинув армейскую службу, они перешли на нелегальное положение и жили – в разных местах Петропавловского, Кокчетавского и Акмолинского уездов – по подложным видам на жительство, под чужим именем.
Судьбе было угодно иной раз сводить Алексея Стрепетова с этими людьми. Навещая время от времени по долгу службы войсковых атаманов уездных степных городков, Алексей Алексеевич случайно наткнулся на одного из своих друзей – Сашу Виноградова, который свел его с остальными, и каждый из них впоследствии доверительно признался Стрепетову в истинном своем положении. И каждому из своих друзей он дал слово офицера молчать.
Встречаясь порою с тем или иным из троих бывших кадетских воспитанников, живших по подложным паспортам, Стрепетов избегал вызывать их на откровенный разговор, а они, в свою очередь, видимо из соображений конспирации, проявляли по отношению к нему понятную осторожность. Однако из разговоров с ними Стрепетов сделал вывод, что за плечами этих людей стояло нечто большее, чем их революционно-пропагандистская работа среди казачьего сословия.
Чаще всего встречался Алексей Алексеевич Стрепетов с Сашей Виноградовым – по паспорту Михаилом Вдовиным, работавшим механиком на паровой мельнице в Кокчетаве – родине Валериана Куйбышева. И в последнюю их, прошлогоднюю, встречу Виноградов намекнул Стрепетову на свои связи с Валерианом Куйбышевым и с подпольщиками Томска. Он прямо сказал есаулу: «В случае нужды ты всегда, Алексей Алексеевич, можешь положиться на нас. У нас ребята надежные – выручат!»
Догадываясь, видимо, о назревавшем духовном кризисе Стрепетова, Виноградов участливо давал ему понять о том, что пути сближения его с революционным подпольем для него не заказаны. И Алексей Стрепетов, только теперь поняв это, вдруг просветлел душой и был благодарен не позабывшим о нем товарищам отмерцав-шей юности.
Между тем о вольнодумстве есаула Стрепетова хорошо было известно не только в офицерской среде полка знало о том и прямое его начальство рангом повыше. До Стрепетова не раз доходили слухи о том, что его личностью интересовался даже сам атаман второго военного отдела Сибирского линейного казачьего войска генерал от инфантерии Савранский. Со слов полкового штабного писаря хорунжего Мити Боярского – давнего и верного своего приятеля – Алексей Алексеевич знал о секретном письменном запросе атамана Савранского, адресованном командиру полка полковнику Няшину насчет политической неблагонадежности строевого есаула Стрепетова. Не было только пока известно, какую характеристику дал на генеральский запрос командир полка Няшин. Но на лестные отзывы о нем Няшина рассчитывать Алексей Алексеевич не мог: слишком хорошо ему было ведомо настороженно-подозрительное отношение к его персоне со стороны полкового начальства.
Словом, круг замыкался. Пора было принимать решение. И Стрепетов со свойственной ему непреклонностью, не колеблясь, принял его.
Он верил в доброжелательность друзей былой юности и знал, что любой из них окажет ему надежную поддержку в трудную для него минуту. Но в то же время он понимал, что с переходом на нелегальное положение ему придется искать убежище вне пределов городов и станиц Горькой линии,– слишком многие из ее старожилов лично знали его, чтобы мог он избежать провала.
Выходило, надо было подаваться куда-нибудь в глубь Восточной Сибири – хотя бы в тот же Томск, где, по намекам Саши Виноградова, ютилось ядро подпольной революционной организации.
Итак, отныне для армейского есаула Стрепетова начиналась иная – не скупая, надобно полагать, на риск, на лишения, на беды и грозы – жизнь.
Светало.
Есаул достал из полевой сумки толстую гимназическую тетрадь в плотном клеенчатом переплете, подаренную ему в канун похода Наташей Скуратовой. Бережно вырвав из этой тетради две развернутые страницы, он стал писать на них своим угловатым и резким почерком.
«Пишу в минуту большого душевного смятения и огромной тревоги за Вас, далекая теперь от меня, степная моя птица! Судьбе и богу угодно было свести меня с Вами только для того, видимо, чтобы жить затем долгие годы теплом Вашего душевного света. Случилось так, что я вынужден буду покинуть полк и армию и уйти по доброй воле на все четыре стороны в поисках иных занятий и иного приюта. Не стану Вам объяснять причин, побудивших меня к этому. Все – сложно и длинно; Одно скажу – не из трусости, не из боязни быть разжалованным и посланным в штрафную роту: у трибунала могут найтись такие основания,– нет, Наташенька. «Познал я глас иных желаний, познал я новую печаль», если говорить словами нашего Пушкина. И если суждено еще будет нам когда-нибудь встретиться с Вами, я расскажу Вам многое, и Вы, надеюсь, поймете и оправдаете меня тогда, чего не сможете сделать сегодня,– и я понимаю Вас. Будьте же счастливы.
Преданный Вам Алексей Стрепетов.
30 июня 1914 г. Полковой бивак».
Над безлюдной, преисполненной тихой печали, пепельно-мглистой от ковыльных волн степью вставало хмурое, не сулившее погожего дня утро.
…В седьмом часу утра, когда личный состав полка был выстроен на передней линейке для поверки, дежурный по казарме, где размещалась вторая сотня, доложил дежурному по лагерю подхорунжему Раскатову об исчезновении трех казаков вверенной ему сотни. Рапортуя подхорунжему об исчезнувших казаках, дежурный вполголоса назвал их фамилии. Но все уже знали, что это был Федор Бушуев с двумя своими приятелями, Андреем Праховым и Пашкой Сучком.
Об исчезновении же есаула Стрепетова и его ординарца в лагере еще не знали.
Спустя три дня после трагедийного воскресенья казаки мятежного полка были подняты чуть свет по сигналу сторожевой трубы и выстроены на передней линейке.
Младшим офицерам полка, явившимся на лагерный плац при холодном оружии, было предложено оставить шашки в казармах И вернуться в строй без оружия.
Над степью занимался мглистый рассвет – предвестник знойного дня. Было что-то тревожное в этом сумном и трепетном свете неяркой утренней зари, в косых полетах чаек над озером, в мелком дрожании крыл пустельги. Тревожно вели себя и прибывшие в полк офицеры, толпившиеся вокруг войскового старшины Игнатия Шмонииа. Вполголоса переговариваясь между собою, они настороженно озирались по сторонам, бросали воровато-косые взгляды на казаков, выстроенных развернутым фронтом. Тревожно было и на душе у казаков, почуявших неладное в этом раннем офицерском визите в полк и в приказании войскового старшины о разоружении урядников.
Когда полк замер по команде «смирно», войсковой старшина – вопреки войсковым правилам,– не поздоровавшись с казаками, скомандовал:
– Справа по шести, шагом марш!
Полк, развернувшись направо, перестроился, образовав колонны по шести казаков в каждой.
– Прямо, шагом марш!– скомандовал Шмонин.
И казаки тронулись в пешем строю на север от лагеря, в степь, туда, где ясно виднелись в утренней дымке вершины обнаженных и диких сопок, замыкавших большую долину, служившую отличным полигоном для учебной стрельбы. Вот в эту-то долину, замкнутую с трех сторон сопками, а с четвертой – перерезанную рекой, и привели казаков мятежного полка, выстроив здесь их снова развернутым фронтом.
Офицеры, окружавшие войскового старшину, выстроив полк на полигоне, тотчас скрылись за сопкой, и казаки остались одни.
Прошло битых три часа, а офицеры не показывались, и казаки продолжали стоять в вольном строю одни.
Между тем жаркое и яркое августовское солнце начинало палить яростно и немилосердно. Каменистый, почти лишенный растительности полигон накалился, как сковорода. На нем теперь было трудно стоять даже в армейских шагреневых сапогах – раскаленная кремнистая почва прожигала кожаные подошвы.
Наиболее дюжие и выносливые из казаков находили еще в себе силы сдабривать разговор невеселой шуткой.
– Вот говорили, что прямым маршем в рай пойдем, а выходит – с ходу в ад попали.
– И то правда – настоящая преисподня. Только чертей не видно.
– Черти не дураки. Они в холодке за сопкой сидят.
– Правильно. Главного сатану дожидаются. Курносый, похожий на подростка, казачишка Михейка Сукманов то и дело всех спрашивал:
– Братцы, неужели в нас стрелять станут?
– А ты думал – мимо?! На то и полигон, штобы лупить по мишеням.
– Это мы-то – мишень?!
– Ишо какая – лучше не придумаешь!
А во второй половине дня, когда приумолкли измученные жарой, тревогой и жаждой даже ухари и острословы, полк, инстинктивно сомкнувшись в ряды, насторожился. Пристально присмотревшись к подернутой знойной дымкой степи, что видна была сквозь проем двух угрюмых сопок, казаки заметили идущую на рысях конную кавалькаду, в центре которой гарцевал на рослом белом коне такой же рослый и белый – от серебряной бороды и генеральского кителя – всадник. Почти одновременно с конной кавалькадой на склонах всех сопок показалась точно выросшая из-под земли пехота.
Все это произошло в одно мгновение. Солдаты, залегшие в цепь, выставили перед собой станковые пулеметы, замкнув казаков в кольцо и взяв их под прицел пулеметов.
Вынырнувший из-за сопки войсковой старшина, держась от казаков на довольно далекой дистанции, отдал команду:
– Сомкнуть взводы. Равнение направо. Смирно! Казаки замерли, взяв равнение направо. Осадив своего белого, как лебедь, коня шагах в ста от казаков, всадник в белом кителе – это был генерал от кавалерии Усачев – вместо приветствия крикнул глуховатым старческим басом:
– Я требую немедленной выдачи виновников бунта! Казаки молчали. Было тихо. Белый генеральский конь, закусив удила, бил копытом кремнистую землю полигона, и она гудела глухо, как бубен.
– Вы слышите?! Я требую выдать мне сейчас же виновных!– повторил генерал.
Полк молчал. Проскакав на полном аллюре вдоль фронта туда и обратно, генерал, привстав на стременах, высоко поднял над головой белую из тонкого шелка парадную перчатку и крикнул:
– Даю вам пять минут на размышление. И если через пять минут виновники не будут мне выданы, я сотру вас с лица земли, как позорное племя бунтовщиков. Достаточно взмаха моей перчатки – и на вас обрушится ливень огня двенадцати пулеметов. Итак – пять минут!
Вдруг из дрогнувших рядов левого фланга выступил вперед пожилой, крепко сбитый казак с черной бородой. Не доходя до генерала пяти шагов, он стал как вкопанный и громко отрапортовал:
– Во всем виноват я, ваше высокопревосходительство. Принимаю всю вину на себя.
Остолбеневшие казаки узнали в бородатом однополчанине Авдея Ивановича Лузина – крестного дядю Федора Бушуева, пошедшего в действующую армию добровольцем.
Генерал, ошарашенный неожиданным рапортом престарелого казака, на мгновение растерялся. Но тут же, придя в себя, проговорил:
– Ага. Но этого мало…– И он тотчас же приказал толпившимся позади него всадникам в офицерских погонах убрать с полигона старого казака.
Офицеры, окружив Авдея Лузина, отвели его в сторону, передав затем подбежавшим с винтовками наперевес солдатам.
Между тем казаки, продолжавшие молча стоять в строю, знали, что Авдея Лузина и в лагере-то не было в день этого страшного происшествия. Старик прибыл в полк только на второй день после катастрофы, когда в полку уже было обнаружено исчезновение трех казаков и есаула Стрепетова, бежавшего, как поговаривали, вместе с казаками.
Спустя полчаса, когда по приказанию генерала был выведен из строя и взят под ружье каждый девятый, когда постигла такая же участь и всех казаков, дежуривших в сотнях в день убийства Скуратова, остальных казаков погнали под конвоем пехоты в лагерь. Черные от зноя и жажды, обреченно поникшие, они походили на арестантов.
В ту же ночь, когда стрепетовский ординарец Санька Курташ, вызвав Федора Бушуева из казармы, сказал, что есаул советует им скрыться, Федор, посовещавшись с приятелями, решил-таки сделать, как предлагал есаул. А перед рассветом, когда замертво спал весь лагерь и ливень с ветром бушевал в окрестной степи, тройка беглецов, попадав на своих оседланных строевиков, покинула лагерь.
Решившись на побег, Федор сказал приятелям:
– Дорога у нас одна – к Салкыну.
– Будет ли прок-то?– усомнился Пашка Сучок.
– Попытка не пытка,– ответил Федор.
– А не податься ли нам в степь? Там на первых порах можно будет у тамыров укрыться. Есть у меня там на примете такие…– сказал Андрей Прахов.
– Нет, братцы. Без Салкына – я ни шагу. Да и уговор у нас был. Дескать, в случае чего – крой, мол, ко мне. Я, говорит, всегда тебя выручу,– сказал Федор.
И казаки, положившись на Федора, согласились с его резонными доводами, решившись на тайную встречу с Салкыном.
Совершив суточный марш,– день они провели, схоронившись с конями в дремучем сосновом бору,– беглецы на вторую же ночь достигли хутора Подснежного, расположенного в десяти верстах от родной станицы. Шли они переменным аллюром в стороне от торных дорог и трактов, по целинной глухой степи, в обход встречных сел и аулов. И только хутор Подснежный, где жила Даша Немирова, не мог Федор Бушуев обойти стороной и провел своих спутников по единственной его улице на рысях, не сбавляя аллюра. Ночь была темная – хоть глаз выколи. Но Федор, несколько приотстав от спутников, все же различил в темноте неясные очертания знакомого дома, в горнице которого горел свет. Придержав коня, Федор на секунду остановился около палисадника, густо заросшего кустами сирени и акацией. У него замерло сердце при взгляде на освещенное окно. Он привстал на стременах и затаил дыхание. Но как ни напрягал он свои по-орлиному зоркие глаза, ему ничего не удалось увидеть за наглухо закрытой занавеской. О, как дорого заплатил бы он сейчас, чтобы хоть на мгновение увидеть Дашу.